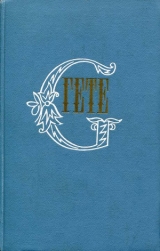
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
Что касается мучных и молочных блюд, которые в таком разнообразии стряпают наши северные кухарки, то неаполитанцы, стараясь не тратить много времени на стряпню и к тому же не имея благоустроенных кухонь, все равно сумели, да еще как, о себе позаботиться. Макароны всех сортов из нежного, хотя и круто замешанного теста, – мука на них берется всегда самая лучшая, – сваренные в самых различных формах, можно задешево купить на каждом шагу. Обычно их бросают в кипящую воду, приправой же к ним служит тертый и слегка растопленный сыр. Почти на всех углах оживленных улиц, особенно в постные дни, стоят кухарки со своими сковородами, полными кипящего постного масла, которые живо приготовляют рыбу или тестяные изделия, смотря по требованию покупателя. Сбыт эти товары имеют почти невероятный, многие тысячи горожан несут домой свой обед или ужин, завернутый в клочок бумаги.
Неаполь, суббота, 1 июня 1787 г.
Прибытие маркиза Луччезини на несколько дней отодвинуло мой отъезд; знакомство с ним доставило мне много радости. Он кажется человеком со здоровым нравственным желудком, который неизменно наслаждается за всемирной трапезой, не то что мы, грешные, словно жвачные животные, временами переполняем себе желудок и уже ничего не можем в рот взять, покуда еще раз не прожуем свою жвачку и не покончим с пищеварением. Женаего мне тоже понравилась, – бравая и милая немка.
Теперь я уже охотно уеду из Неаполя, более того – я должен уехать. В последнее время меня разобрала охота встречаться с разными людьми, я завел много интересных знакомств и очень доволен часами, которые им посвятил, но еще две недели, и я бы стал уходить все дальше и дальше от своей цели. К тому же здесь тобой завладевает безделье. После возвращенья из Пестума я мало что видел, кроме сокровищ Портичи, многое бы еще надо было осмотреть, но я из-за этого и шагу не ступлю. Этот же музей действительно альфа и омега всех античных собраний. Там мы видим, насколько древние опережали нас в художественном чутье, хотя в чисто ремесленной сноровке изрядно от нас отставали.
Вечером.
Мои прощальные и благодарственные визиты были для меня отрадны и поучительны, мне показывали многое, с чем раньше не спешили или о чем просто забывали. Кавалер Венути даже позволил мне еще раз осмотреть его потайные сокровища. Я вторично с благоговением стоял перед его пусть искалеченным, но бесценным Улиссом. Под конец он повел меня на фарфоровый завод, где я постарался запечатлеть в памяти черты Геркулеса и вдосталь нагляделся на сосуды из Римской Кампаньи!
…Мой банкир, к которому я попал в обеденное время, ни за что не хотел отпускать меня; все было бы хорошо и приятно, если бы лава не притягивала моего воображения. За разными хлопотами, платежами, укладкой вещей подошла ночь, и я поспешил на мол.
Здесь я увидел все фонари, все огни, все их отражения, колеблющиеся оттого, что море было неспокойно; увидел полную луну во всем ее великолепии, – рядом со снопами искр, которые извергал вулкан, и, наконец, лаву, – в прошлый раз она еще отсутствовала, – на своем раскаленном суровом пути. Мне следовало бы поехать туда, но сейчас сложно было это устроить, я бы только к утру добрался до Везувия. Мне не хотелось, чтобы нетерпение прервало зрелище, которым я любовался, потому я остался на молу, покуда, несмотря на толпу то прибывавшую, то редевшую, несмотря на ее пересуды, толки, сравнения и споры – куда же потечет лава, несмотря на весь шум и гам, у меня не начали слипаться глаза.
Неаполь, суббота, 2 июня 1787 г.
Итак, хотя я и этот прекрасный день провел в обществе достойнейших людей, весело и с пользой, – но вразрез со своими намерениями, отчего на сердце у меня было тяжело. С тоскою смотрел я на дым, который валил из горы и, медленно спускаясь к морю, все более четко обозначал путь лавы. Вечер у меня тоже был занят, я обещал посетить герцогиню Джованни; в ее дворце меня заставили пройти по множеству коридоров в верхнем этаже, загроможденных ящиками и шкафами, словом, тем, что стесняет жизнь человека, вынужденного постоянно бывать при дворе. В большой и высокой комнате, откуда сколько-нибудь интересного вида не открывалось, меня встретила красивая молодая дама, владевшая искусством приятной светской беседы. Немка по рождению, она знала, какими путями шла немецкая литература к более свободной гуманности, к широким взглядам, и прежде всего ценила усилия Гердера и его последователей, равно как и чистый разум Гарве. Она пыталась не отставать от немецких писательниц, и, видимо, заветным ее желанием было владеть искусным и не бесталанным пером. К этому она сводила все свои разговоры, не в силах утаить намерения влиять на девушек из аристократических семейств. Но вообще-то такой разговор ни конца, ни края не знает. Сгустились сумерки, но свечей еще не вносили. Мы с ней ходили по комнате из угла в угол, и она, подойдя к окнам, закрытым ставнями, вдруг распахнула одну из них, и я увидел то, что можно увидеть лишь однажды в жизни. Если она сделала это нарочно, чтобы меня потрясти, то достигла своей цели. Мы стояли у окна верхнего этажа, прямо напротив Везувия. Лава текла вниз, и этот поток, когда солнце давно уже село, пылал, золотя дым, вившийся над ним. Вулкан неистовствовал, гигантская дымовая туча повисла над кратером, при каждом выбросе она молниеносно расчленялась, и, освещенная, становилась объемной. Оттуда вниз до самого моря тянулась рдеющая полоса огня и огненных паров, а дальше – море и твердь, скалы и заросли выступали в вечерних сумерках, отчетливо, мирно, в зачарованном спокойствии. Окинуть все это единым взглядом и, как завершение дивной картины, увидеть еще полную луну, выходящую из-за горного хребта, – право же, это повергало в трепет.
Глаз схватывал все разом с той точки, на которой мы стояли, и если ему и не было дано многое разглядеть в отдельности, то впечатление великого целого не утрачивалось ни на миг. Пусть это зрелище прервало наш разговор, зато он стал как-то теплее. Сейчас перед нами был текст, и чтобы прокомментировать его, недостало бы тысячелетий. Чем больше темнела ночь, тем яснее становилось все кругом. Луна светила, как второе солнце. Столбы дыма, его полосы и массивы просвечивались насквозь, казалось даже, что и слабо вооруженным глазом можно разглядеть вулканические бомбы над черным конусом горы. Моя хозяйка, – я так ее назову, потому, что мне не часто доводилось есть такой ужин, – велела переставить свечи к противоположной стене. Прекрасная женщина, озаренная лунным светом, на переднем плане этой, можно сказать, невероятной картины, казалось, с минуты на минуту хорошела, а прелесть ее для меня увеличивалась еще и тем, что в этом южном раю слух мой ласкала немецкая речь. Я забыл о времени, и ей пришлось мне напомнить, с большой неохотой, как она сказала, что мне пора уходить, – в этот час галереи ее дома запираются, как в монастыре. Итак, я, слегка помедлив, простился с тем, что было уже далеко, и с тем, что еще оставалось близко, благословляя судьбу, вознаградившую меня за невольную добродетель этого дня столь прекрасным вечером. Уже под открытым небом я сказал себе, что вблизи этот великий поток лавы вряд ли бы сильно отличался от малого, уже виденного мною, и что последний взгляд на Неаполь, прощанье с ним должно было произойти именно так, как произошло. Вместо того чтобы пойти домой, я зашагал к молу – еще раз насладиться дивным зрелищем, имея перед глазами другой передний план; но уж не знаю, усталость ли от изобиловавшего впечатлениями дня или боязнь, что в памяти моей изгладится последняя прекрасная картина, но я поспешил на Марикони, где застал Книпа, пришедшего со своей новой квартиры меня проведать. За бутылкой вина мы поговорили о будущих наших делах. Я пообещал ему, что, как только смогу показать в Германии несколько его работ, ему будут даны рекомендации к герцогу Готскому и, конечно же, он станет получать от него заказы. Так мы распрощались, радуясь нашему знакомству и уповая на будущую взаимополезную совместную работу.
Неаполь, воскресенье, 3 июня 1787 г.
Троицын день.
Так я покидал этот несравненный город, который мне, вероятно, не суждено будет увидеть вновь, среди его нескончаемого оживления, довольный уже и тем, что не оставлял за собой ни раскаяния, ни боли. Я думал о добром нашем Книпе, давая себе слово всем сердцем печься о нем даже издалека.
Уже за городом, у последней заставы ко мне на мгновенье подошел таможенный чиновник, приветливо глянул мне в лицо и тут же отскочил. Другие таможенники еще продолжали досматривать экипажи, когда из дверей кофейни вышел Книп с подносом, на котором стояла огромная китайская чашка с черным кофе. Он приблизился к спущенной подножке неторопливо, даже с некоторой важностью от сердечного волнения, что очень его красило. Я был поражен и растроган, – такое благодарное внимание, право же, не имеет себе равных. «Вы столько сделали добра для меня, добра, которое скажется на всей моей жизни, так пусть же это будет символом того, чем я вам обязан», – сказал он.
Я вообще-то немею при подобных оказиях, и тут, уж конечно, ограничился лаконическим замечанием, что он своими трудами сделал меня своим должником, а использование и обработка наших общих сокровищ еще больше обяжут меня.
Мы расстались, как редко расстаются люди, встретившиеся случайно и лишь на краткий срок. Наверно, мы видели бы от жизни больше благодарности и пользы, если бы сразу высказывали, чего мы ждем друг от друга. Выполнив таким образом свой долг, обе стороны оставались бы довольны; а правдивость – начало и конец всего сущего – обернулась бы уже чистой прибылью.
ВТОРОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В РИМЕ С ИЮНЯ 1787 г. ДО АПРЕЛЯ 1788 г.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 8 июня 1787 г.
Третьего дня я снова благополучно прибыл сюда, а вчера великий праздник тела Христова мгновенно посвятил меня в римляне. Не могу не признаться, что отъезд из Неаполя причинил мне некоторую боль, и не столько из-за дивных его окрестностей, которые я покидал, сколько из-за мощного потока лавы, прокладывавшего себе путь от вершины вулкана к морю; мне ведь следовало рассмотреть этот поток вблизи, вникнуть в его природу, приобщить к своему опыту, ко всему, что я слышал и читал о лаве.
Сегодня моя тоска по величественнейшей из картин природы уже улеглась. И не то чтобы этому способствовала благочестивая праздничная суета, которая, несмотря на известную импозантность целого, все же уязвляет наши чувства отдельными безвкусными подробностями, нет, я вновь был вовлечен в круг высоких представлений созерцанием ковров по картонам Рафаэля. Наилучшие, безусловно, сотканные по его подлинникам, разостланы все вместе, другие, вероятно, сработанные его учениками, современниками и товарищами по искусству, достойно смыкаются с ними и покрывают огромную анфиладу зал.
Рим, 20 июня.
Я снова вижу здесь превосходные произведения искусства, отчего дух мой очищается и крепнет. И все-таки мне бы надо было еще не менее года пробыть одному в Риме, чтобы на свой манер использовать это пребывание, а вы знаете, по-другому у меня не получается. Лишь теперь, покидая Рим, я понимаю, что́ еще не открылось мне, но пусть так, на время с меня хватит.
Геркулес из дома Фарнези увезен, но я еще успел его посмотреть на собственных его ногах, которые были ему возвращены по прошествии столь долгого времени. Загадкой осталось, как можно было удовлетворяться первыми, сделанными Порта. Теперь Геркулес – одно из совершеннейших творений античных времен. В Неаполе король намеревается построить музей, где, под одной крышей, будет находиться все, что у него имеется из произведений искусства: Геркуланумский музей, картины из Помпей, картина с Капо-ди-Монте, все наследие Фарнези. Это великое и прекрасное начинание. Наш земляк Хаккерт привел в действие весь этот механизм. Даже Фарнезскому быку предстоит перекочевать в Неаполь, где он будет водружен на променаде. Если бы они могли прихватить из дворца галерею Караччи, они бы и перед этим не остановились.
Рим, конец июня.
Я поступил в великую, даже слишком великую школу, и скоро мне здесь ученья не закончить. Мои познания в искусстве, мои скромные таланты должны быть здесь основательнейшим образом отработаны, должны окончательно созреть, иначе к вам вернется лишь половина вашего друга, и томление, усилия, кропотливый, изнурительный труд – все начнется сызнова. Возьмись я рассказывать, как в этом месяце мне везло здесь, как все, словно на подносе, мне преподносилось, и мой рассказ станет нескончаемым. У меня хорошая квартира, милые хозяева. Тишбейн уезжает в Неаполь, а я перебираюсь в его мастерскую – большую прохладную залу. Если будете думать обо мне – думайте о счастливце. Писать я буду часто, а это значит, что мы всегда будем вместе.
Новых идей и замыслов у меня хоть отбавляй. Когда я остаюсь наедине с собой, передо мной снова встает моя ранняя юность, вплоть до мельчайших подробностей, а потом величие и высокое достоинство того, что я вижу, опять уносит меня в такие дали и выси, что, кажется, на все это и жизни не хватит. Глаза мои приобретают зоркость почти невероятную, но и руке ведь нельзя очень уж сильно отставать. На свете есть только один Рим, в нем я чувствую себя, как рыба в воде, и плаваю поверху, как пушечное ядро в ртути, которое идет ко дну в любой другой жидкости. Единственное, что омрачает атмосферу моей душевной жизни, это невозможность разделить свое счастье с вами, мои любимые. Небо все время упоительно ясное, туманная дымка повисает над Римом лишь утром и вечером. В горах, – в Альбано, Кастелло, Фраскати, я там провел три дня на прошлой неделе, – воздух всегда радостно-прозрачен. Вот где надо бы изучать природу!
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 20 июля.
За это время мне удалось обнаружить два основных моих недостатка, которые всю жизнь изводили и терзали меня. Один– это то, что мне никогда не удавалось усвоить ремесло,неотъемлемое от той области искусства, которой я хотел или должен был заняться. Оттого-то я, несмотря на врожденную и разнообразную одаренность, так мало создал и так мало совершил. Иной раз сила духа понуждала меня приступить к тому или другому сочинению, а удавалось оно или нет, это уж зависело от случая и везенья, но если я хотел сделать что-то продуманно и на совесть, то робел и никак не мог справиться с поставленной себе задачей. Второй недостаток, родственный первому, это то, что времени на работу или дело у меня всегда было меньше, чем требовалось. Так как мне дано великое счастье, вернее, способность, быстро многое обдумывать и сопоставлять, то кропотливо-последовательное исполнение мне непереносимо скучно. Теперь, подумал я, самая пора этот недостаток исправить. Я живу в стране искусства, так будет же мне позволено основательно проработать этот предмет, дабы обеспечить себе покой и радость на все оставшиеся мне годы, и перейти к чему-то другому.
Лучшего места, чем Рим, для этого не найти. Мы видим здесь не только самые различные произведения искусства, но и самых разных людей, которые серьезно работают, идут по правильному пути; в беседе с ними можно без труда и, к тому же быстро, продвинуться вперед. Слава тебе, господи, я начинаю учиться у других и многое перенимать.
Итак, душевно и физически я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Надеюсь, вы в этом убедитесь по продукции, которую я вам пришлю, и примиритесь с моим отсутствием. В том, что я делаю и думаю, я с вами неразлучен, вообще же я здесь очень одинок и вынужден видоизменять разговоры. Впрочем, здесь это легче, чем где бы то ни было, так как с каждым находится интересная тема для беседы.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 11 августа.
Я остаюсь в Италии до следующей пасхи. Негоже мне сейчас забросить учение. Если продержусь, то достигну многого и, надеюсь, порадую друзей. Писать вам буду регулярно, произведения же свои посылать время от времени, таким образом у вас составится представление обо мне как о живом, хотя и отсутствующем, а то ведь вы уже частенько жалели меня как присутствующего среди вас мертвеца.
«Эгмонт» закончен и в конце этого месяца уедет к вам. Я же буду с болью и тревогой ожидать вашего суждения.
Дня не проходит, чтобы я не приобрел новых познаний в искусстве и в практическом его осуществлении. Как бутылка быстро наполняется, если ее с открытым горлышком опустить в воду, так и человек, мало-мальски подготовленный и восприимчивый, полнится здесь новыми знаниями, ибо стихия искусства со всех сторон теснит его.
Хорошее лето, что стоит у вас, я мог бы заранее предсказать, живя здесь. У нас небо все время одинаково ясное, а в полдень – ужасающая жара, от которой меня до известной степени спасает моя прохладная зала. Сентябрь и октябрь я собираюсь провести на лоне природы и писать с натуры. Возможно, я опять отправлюсь в Неаполь и еще поучусь там у Хаккерта. За две недели, проведенные с ним за городом, он помог мне продвинуться вперед больше, чем сам я продвинулся бы за годы. Сейчас еще ничего тебе не посылаю, но прикопил, наверно, с дюжину, маленьких набросков, чтобы сразу прислать что-нибудь хорошее.
Эту неделю провел тихо, в усердном труде. Многому научился, главным образом в смысле перспективы. Фершаффельт, сын мангеймского директора, хорошо продумал это учение и поделился со мной своими художественными приемами. Несколько пейзажей в лунном свете уже были перенесены на доску и растушеваны, и тут же, наряду с другими, возникло еще несколько идей, пожалуй, слишком сумасбродных, чтобы упоминать о них.
Рим, 23 августа 1787 г.
Ваше милое письмо за номером 24 получил вчера, уходя в Ватикан. Я читал его и перечитывал по дороге туда, а потом в Сикстинской капелле, в минуты роздыха от пристального разглядыванья и запоминанья. Трудно даже сказать, как я жаждал, чтобы вы были здесь со мной и могли хотя бы составить себе представление о том, что в состоянии придумать и сотворить один-единственный великий человек. Тот, кто не видел Сикстинский капеллы, не в силах наглядно себе представить, на что человекспособен. Мы читаем и слышим о множестве великих и достойных людей, но здесь его творения – живые, они у тебя над головой, перед глазами. Я мысленно беседовал с вами и хотел бы видеть эту беседу на бумаге. Вы желаете знать обо мне!Как много мог бы я сказать вам, – я ведь полностью переродился, стал другим человеком, мой внутренний мир теперь наполнен до краев. Я чувствую, как сосредоточиваются все мои силы, и надеюсь еще кое-что сделать. Последнее время серьезно думал о ландшафте и архитектуре, кое-что испробовал и уже ясно вижу, куда это ведет и что мне тут по плечу.
Под конец меня еще захватила альфа и омега всего сущего, то есть человеческое тело, и я к нему приступил, шепча: «Господи, не отстану я от тебя, покуда не дашь мне своего благословения, хотя бы и пришлось мне охрометь в единоборстве с тобою». С рисунками ничего у меня не получается, я решил заняться скульптурой, и похоже, что тут я сдвинусь с места. Меня осенила мысль, которая многое мне облегчит. Говорить о ней подробно – не стоит, да и вообще лучше творить, чем говорить. Но хватит, все дело в том, что упорное изучение природы и кропотливые занятия сравнительной анатомией дали мне возможность и в природе и в древностях видеть в целом, то, что художники с трудом обнаруживают по частям, а наконец обнаружив, таят про себя, не умея сообщить это другим.
Я разыскал все свои физиономические пустячки, которые, со зла на пророка, забросил было в дальний угол, и они очень мне пригодились. Начал работу над головой Геркулеса; если дело пойдет, двинемся дальше.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
Рим, 3 сентября.
Сегодня год, как я выехал из Карлсбада. Что за год! И какая странная эра началась в этот день, день рождения герцога и мой день рождения для обновленной жизни! Как я этот год использовал, мне пока еще трудно поведать и себе и другим. Но, надеюсь, придет пора, настанет прекрасный час, когда я вместе с вами, сумею подвести ему итог.
Только теперь начинается мое учение здесь, и я, можно сказать, не знал бы Рима, если бы уехал раньше. Нельзя даже вообразить, что здесь видишь, что изучаешь; вовне об этом невозможно составить себе представление.
Я опять увлекся памятниками Древнего Египта. В эти дни несколько раз ходил смотреть на Большой обелиск; он валяется в каком-то дворе среди мусора и грязи. Некогда это был обелиск Сезостриса, позднее его воздвигли в Риме уже в честь Августа, он служил еще и стрелкой солнечных часов, начертанных на Марсовом поле. Этот едва ли не древнейший и великолепнейший из монументов теперь разбит, отдельные его поверхности обезображены (скорей всего, огнем). И все же он еще существует, и его неповрежденные стены свежи, словно вчера расписанные, – это прекраснейшая работа (конечно, в египетском духе). Я заказал гипсовые слепки со сфинкса, венчающего его верхушку, а также с других сфинксов, людей и птиц. Эти бесценные детали иметь просто необходимо, тем более что, по слухам, папа намерен вновь установить обелиск, а тогда уж до иероглифов и не доберешься. Я хочу также иметь слепки с лучших этрусских памятников. Я моделирую из глины эти изображения, чтобы получше усвоить это искусство.
5 сентября.
Не могу не написать вам в утро, ставшее для меня праздничным утром. Ибо сегодня «Эгмонт» наконец-то полностью завершен. Сделан титульный лист и перечень действующих лиц, кое-какие пропущенные места заполнены, и я заранее радуюсь тому времени, когда вы его получите и прочитаете. Приложу еще и несколько рисунков.
Кастель-Гандольфо, 12 октября 1787 г.








