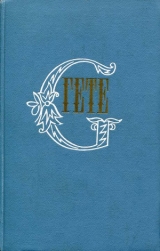
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 37 страниц)
Тут мы свернули в сторону, что дало нам случай отдохнуть и немного прийти в себя, а заодно и призадуматься над печальной судьбою состоятельных и благонамеренных горожан, попавших в переплет нежданных бедствий и ужасов военной невзгоды.
13 октября.
Наш проводник не хотел посещать своих богатых родственников в разоренном крае, почему мы направились в объезд через красивый и благоустроенный городок Арлон, где мы, заранее возвещенные нашим гусаром, нашли дружественный прием у людей солидных и зажиточных, в хорошо построенном и обставленном доме. Добрые люди обрадовались долго пропадавшему родственнику, верили в его исправление, усматривая явное поощрение и даже предстоящее ему повышение по службе в возложенной на него почетной задаче вывезти нас из опасного хаоса в двух каретах, запряженных столькими лошадьми, а заодно и наши большие деньги и драгоценности, в каковые он заставил уверовать простодушных родственников. Надо сказать, и мы поддержали его наилучшими отзывами, хотя в душе не слишком верили в исправление блудного сына. Но, будучи ему стольким обязанными, мы никак не могли поставить под сомнение обретенное им благонравие. Продувной малый так сумел подольститься к нежным родичам, что даже удостоился немалого денежного подарка, и притом в звонком золоте. Мы же тем временем насладились отменным холодным завтраком и превосходными винами, стараясь на расспросы хозяев, потрясенных всем происходившим, давать елико возможно успокоительные ответы, в частности, и о том, что предположительно должно было произойти в ближайшем будущем.
Перед домом мы обратили внимание на странные повозки, более длинные и даже высокие, чем обычные грузовые фуры, и к тому же с какими-то непонятными пристройками по бокам. Меня разобрало любопытство, и я позволил себе спросить, что это такое. Мне ответили доверительно, но как-то осторожно: «В фуре находится эмигрантская печатня, фабрикующая фальшивые ассигнации, а это источник нескончаемых бедствий для всей нашей области. Мы и раньше-то не жаловали ассигнаций, а теперь, после вступления союзных войск, пустили в обращение еще и эти, поддельные. Благоразумное купечество, не желая опростоволоситься, нашло способ тотчас же переправить в Париж этот подозрительный бумажный товар и получило официальное подтверждение его фальшивости. Но это тем более подорвало всякую торговлю: ведь если подлинные ассигнации – риск, то фальшивые – полный разор, а поскольку на первый взгляд фальшивые ничем не отличаются от нефальшивых, то никто толком не знает, чем платить и что получать». Дух сомнения, взаимного недоверия и страха распространился теперь и на Люксембург и Трир, – словом, трудно себе представить худшее бедствие.
Все беды, былые и только еще предстоящие, эти люди встречали с истинным достоинством, дружелюбием и благожелательностью, чему мы не могли не подивиться, хотя отсвет этих высоких чувств нам и был знаком по величавым французским драмам давних и новых времен. Ничего подобного мы не можем себе даже вообразить в нашем отечестве – ни в действительности, ни в ее поэтическом воссоздании. Если пьеса «Petite Ville» [14]14
«Маленький город» (франц.).
[Закрыть], быть может, и пошловата, то «Немецкие провинциалы» абсурдны.
14 октября.
Из Арлона в Люксембург мы ехали, к приятному нашему удивлению, прекрасной шоссированной дорогой. В крепость, некогда так надежно охраняемую, нас впустили, как в любую деревушку. Никем не окликнутые и не остановленные, мы изнутри осмотрели бастионы, валы, рвы, подъемные мосты, стены, ворота. Всем прочим мы предоставили распоряжаться нашему бравому гусару, который надеялся здесь отыскать своих родителей. Город был переполнен ранеными и больными, а также энергичными людьми, желавшими здесь отдохнуть, привести в пригодность свои экипажи и обзавестись более резвыми лошадьми.
До сих пор мы все держались вместе, но здесь нам предстояло расстаться. Наш ловкий квартирмейстер нашел для меня удобную комнату, в высокие окна которой проникало достаточно света из узкого дворика, в каковой она выходила. В ней Лизёр прекрасно устроил меня с моими пожитками и вкратце рассказал о хозяевах и прочих жильцах этого домика, заверив, что за малую плату меня будут терпеть здесь, сколько мне заблагорассудится, позаботятся и о моем благополучии.
Я впервые мог открыть мой сундучок, стать обладателем моих вещей, денег и рукописей. Первым делом я привел в порядок бумаги, касавшиеся учения о цвете, руководствуясь правилом: всемерно расширять свои исследования и совершенствовать положенный в их основу научный метод. К моему военному дневнику меня не тянуло; несчастливый ход событий заставлял опасаться худшего, так стоит ли бередить свои раны! Тихая комнатка, удаленная от житейского шума, предоставляла простор для сосредоточенных размышлений, не хуже чем монашеская келья, но стоило только ступить за порог укромного дома, как ты вновь оказывался в сутолоке военного времени и мог сколько угодно бродить по городу, самому странному и занятному, какой только можно найти на свете.
15 октября.
Кто не видел Люксембурга, не может составить себе должного представления об этом крепостном сооружении, распластанном вширь и вздыбленном ввысь, бастион над бастионом. Воображение теряется, пытаясь восстановить картину невиданного многообразия, с которым никогда не освоится взор праздного пешехода. Нужно иметь под руками карту и четко вычерченный план, чтобы сколько-нибудь разобраться в нижеследующем.
Между скалами и вокруг скал вьется ручей, именуемый Петрусом; потом он сливается с другой рекой, Эльце. Он течет то по своему естественному руслу, то направляясь в искусственно вырытые каналы. На левом берегу, на высоком плато, расположен старый город. Со своими крепостными строениями он с равнинной стороны подобен любому укрепленному месту. Однако, обеспечив безопасность города с запада, сочли необходимым защитить его также и с той стороны, где река течет в глубоком ущелье. Военное искусство все совершенствовалось, и пришлось возводить все новые и новые бастионы также и на правом берегу – на севере, востоке и юге, притом преимущественно на выступах скал, все более выносящих вперед разраставшийся город, – все эти укрепления были необходимы для взаимной их защиты. Так возникла необозримая цепь бастионов, редутов, серпов, полумесяцев, ломаную линию которой оборонительное искусство создает лишь в редчайших случаях.
Нет ничего более удивительного и странного, чем вид узкой и тесной долины, по которой течет река, проходящая между всеми этими крепостными укреплениями. Немногие ровные места долины, пологие спуски и некрутые подъемы покрыты садами, расположенными террасами, оживленными жилыми домиками и беседками. Глядя отсюда вверх, видишь слева и справа крутые скалы, высокие отвесные стены. Великое здесь счастливо соединяется с изящным, разумно взвешенное – с прельстительным; можно было бы только пожелать, чтобы сам Пуссен проявлял свой великолепный талант именно в подобной величаво-пленительной обстановке.
У родителей нашего шалопая-проводника был садик, расположенный на склоне горы в Поповской долине; они охотно разрешили мне пользоваться им. Находившиеся неподалеку церковь и монастырь оправдывали наименование этого Элизиума и обещали добронравным жителям покой и мир, хотя всякий взгляд, брошенный вдаль и ввысь, тотчас же напоминает о войне, о насилии и гибели.
Какое же счастье было в эти дни бежать в тенистую тишь из городской сутолоки, где разыгрывался ужасный эпилог войны, с его лазаретами, изуродованными человеческими телами, разбитыми фурами, поврежденными лафетами, колесами, осями, с его неизбывной нуждой и разрухой. Как хочется уйти с людных улиц, где каретники, кузнецы и другие ремесленники трудятся неутомимо и шумно, и спрятаться в малый садик вдоль Поповской долины. Здесь человек обретает вожделенный покой и возможность сосредоточиться, собраться с мыслями.
16 октября.
Многообразие громоздящихся друг над другом крепостных сооружений превосходит все мыслимые представления. Куда ни ступишь, пусть только на шаг, вперед или назад, вверх или вниз – вся панорама мгновенно меняется, пробуждая желание запечатлеть на бумаге хоть что-нибудь из необъятного. Как не могла не очнуться во мне стародавняя потребность, если учесть, что я уже столько недель не видал ничего, достойного увековечения. Особенно бросалось в глаза, что стоявшие друг против друга скалы, могучие стены и бастионы соединялись, вершина с вершиной, подъемными мостами, галереями и другими диковинными сооружениями. Военный инженер – тот стал бы смотреть на это глазами причастного фортификационному искусству и оценивая острым взглядом солдата эту твердыню, радуясь ее прочности; я же мог разве лишь уловить живописный ее эффект и, конечно, охотно поупражнялся бы в умении точно передавать увиденное, если б не строгий запрет что-либо рисовать в крепости.
19 октября.
Проведя несколько дней в городе-крепости, где, соперничая друг с другом, сотворенные природою скалы и военные сооружения создавали неодолимые препоны и непроходимые ущелья, а рядом с ними насаждались деревья и разбивались сады с тенистыми беседками, я исходил немало дорожек, предаваясь мечтам и раздумьям, а потом, возвратившись домой, запечатлевал на бумаге виды города, как они постепенно слагались в моем воображении, – пусть несовершенные, но все же передающие необычный, диковинный город и воскрешающие в памяти мое тогдашнее настроение.
20 октября.
Времени было достаточно, чтобы обдумать недавнее прошлое, но чем больше я думал, тем больше путались мысли и затуманивалось будущее. Я вполне сознавал, что главное теперь – готовиться к тому, что нам предстояло. Нужно проехать несколько миль, отделявшие нас от Трира. Но что нас там ожидало теперь, когда господа эмигранты следуют за нами по пятам вместе с новыми беглецами.
Однако самым горестным известием, наполнявшим гневом фурий даже сердца смиренных праведников, явилось известие, которое никак нельзя было скрыть, а именно то, что наши высшие военачальники все время вели переговоры с проклятыми подстрекателями, которых пресловутый манифест обрекал заслуженной каре, а свершенные дела изобличали их как злодеев. И в их руки теперь приходилось передавать взятые нами крепости только для того, чтобы обеспечить себе возвращение на родину. Я видел иных среди нас, уже близких к умопомешательству.
22 октября.
На пути в Трир, подъезжая под Гревенмахерн, я ничего не застал от былого скопища роскошных карет эмигрантов. Голое поле, вкривь и вкось испещренное глубоко врезавшимися в размокшую почву следами от широко расставленных колес, молчаливо напоминало о тогдашнем скитальческом нашем существовании. Мимо почтовой станции я проехал, не останавливаясь, на моих реквизированных лошадях. Памятный почтовый ящик стоял на прежнем месте, но вкруг него люди теперь не толпились, и во мне сами собой шевельнулись незваные скорбные мысли.
Но вот прорвавшийся солнечный луч внезапно озарил всю округу, и, как маяк в беспросветную ночь, блеснул мне навстречу монумент Игеля.
Быть может, никогда величие древнего мира не воздействует так властно на наше чувство, как в сопоставлении с невзрачной действительностью сегодня. Этот монумент свидетельствует об отшумевшей войне, но более счастливой, победоносной, о днях прочного, длительного благосостояния предприимчивых людей вот в этой местности.
Воздвигнутый в позднейшие времена Антонидов, он все же сохранил бесценные качества великого искусства, и его, хоть и поврежденные, остатки внятно говорят нам о чувстве радостно-деятельной жизни. Он надолго приковал меня к себе, и я многое внес в мой путевой дневник, неохотно с ним расставаясь, уже потому, что так неважно чувствовал себя в моем жалком положении.
Но и теперь всплыло в душе моей радостное предвидение, вскоре превратившееся в непреложную действительность.
23 октября.
Мы привезли нашему другу лейтенанту фон Фричу, которого мы застали на его прежнем, столь ненавистном ему тыловом посту, радостную весть о награждении его орденом «За заслугу» – по праву, ибо он совершил геройский поступок, но и по везению, так как он удостоился высокой награды, не испив той горькой чаши, которую всем нам пришлось осушить. Вот как обстояло с этим делом.
Французы считали, что мы, довольно далеко зайдя в пределы их родины, находимся далеко от Трира, претерпевая великие бедствия, и потому отважились нанести непредвиденный удар по нашему тылу; они приближались к городу со значительными силами и даже с артиллерией. Лейтенант фон Фрич во главе малочисленного отряда идет навстречу неприятелю. Такая бдительность смущает французов и наводит их на мысль, что вслед за головным отрядом обрушится на них великое войско. После короткой стычки противник отступает к Мерцигу и больше уже не появляется. Лошадь нашего друга ранена, и та же пуля задевает его сапог; зато он возвращается победителем и удостаивается торжественной встречи. Магистрат и жители города осыпают его любезностями. Девушки, до того благоволившие к нему как к красивому молодому человеку, вдвойне восхищаются им как героем.
Лейтенант тотчас же пишет реляцию своему начальнику, а тот, как положено, сообщает обо всем происшедшем королю: и отсюда – указ о пожаловании ему голубой звезды. Быть свидетелем безмерного счастья славного юноши, переживать вместе с ним его великую радость было истинным наслаждением. Счастье, нас не жаловавшее, посетило его в нашем тылу. Он был с лихвою вознагражден за беспрекословное солдатское повиновение, казалось бы, приковавшее его к бесславной тыловой службе.
24 октября.
Мой юный друг опять поселил меня у того же каноника. Распространившаяся в войсках болезнь отчасти коснулась и меня, так что и я теперь нуждался в уходе и лекарственных снадобьях.
В тиши затянувшегося досуга я сейчас же обратился к кратким заметкам, внесенным мною в путевой дневник перед монументом близ Игеля.
Если говорить об общем впечатлении от памятника, то в нем друг другу противопоставлены жизнь и смерть, настоящее и будущее, и то и другое снимается в высшем эстетическом единстве. Таковы были суть и средства великолепного искусства древних, которое еще долго царило в художественном мире.
Высота монумента от силы достигает семидесяти футов; он вздымается ввысь чредою нескольких архитектонических ярусов, что дает некоторое основание говорить о нем как о подобии обелиска. Сначала – основание и цоколь, затем главная масса, а над нею аттик и фронтон; завершается все это чудесно взмывающим шпилем с остатками шара и орла. Каждый ярус, из которых слагается монумент, украшен рельефными изображениями и орнаментами.
Правда, это обилие украшений явно указывает на позднейшее сооружение памятника, так как таковые входят в обиход, как только утрачивается чистое чувство пропорций, в чем можно упрекнуть и это произведение искусства.
Но, невзирая на сказанное, следует признать, что этот памятник опирается на высокие достижения былого искусства, эпоха коего только незадолго до того стала склоняться к своему упадку. Вообще же во всех изображениях монумента продолжает властвовать дух античности: всюду воссоздастся доподлинная жизнь, аллегорически сдобренная привычными представлениями, почерпнутыми из мифологии древних.
На главном его поле – две фигуры, мужчина и женщина, мощной стати – в руке главы семейства рука его супруги, а над ними парит третья, уже стершаяся, видимо, их благословляющая; они стоят меж двумя богато орнаментированными пилястрами, на которых расположены друг над другом танцующие дети.
Все прочие поля указуют на счастливые, взаимосогласные отношения семейства, на дружескую совместную деятельность всех родичей фамилии и обретенное их честным, согласным трудом праведное благосостояние.
Но, по сути, здесь надо всем главенствует прославление труда, неустанной деятельности; не берусь объяснять все изображения. На одном поле, видимо, представлены купцы, обдумывающие предстоящее дело. Но тем более очевидны и не допускают разногласия груженые суда, украшенные изображением дельфинов, идущие друг за другом вьючные кони, прибытие и осмотр товаров и подобные вполне привычные человеку житейские сцены.
А выше, на аттике, – мчащаяся лошадь, быть может, недавно еще везшая груженую телегу и дюжего возчика. На фризах и других плоскостях, а также на фронтоне – Вакх, фавны, солнце, луна и прочие разности, способные украсить шпиль и пилястры.
Все в целом производит отраднейшее впечатление, и мы вправе утверждать, что и на уровне, ныне достигнутом нашей архитектурой, а также изобразительными искусствами, было бы вполне возможно воздвигнуть величественный памятник достойнейшим современникам, их деяниям и благородным досугам. Мне было приятно провести в таких размышлениях день рождения всеми нами почитаемой герцогини Амалии. Я тихо отпраздновал его в полном одиночестве, перебирая в памяти труды и дни ее жизни. И тут возникло во мне страстное желание хотя бы мысленно воздвигнуть ей во славу такой же обелиск, заполнив все его плоскости до нее относящимися изображениями совершенных ею мудрых деяний и неустанной благотворительности.
Трир, 25 октября.
Выпавшие на мою долю покой и заботливый уход позволили мне привести в порядок и пересмотреть многое из того, что было мною продиктовано в беспокойно-сумбурное время. Я частию выправлял, частию заново излагал мои хроматические заметки, изрядно пополнил и уточнил мою таблицу цветов, не раз ее изменяя, дабы сообщить большую наглядность тому, что утверждалось и высказывалось мною раньше, и стремясь довести свои мысли до очевидной непреложности. В этой же связи я хотел всегда иметь под рукой третий том Фишерова «Физического лексикона». По тщательно наведенным справкам, я нашел наконец несчастную судомойку в благоустроенном лазарете при женском монастыре. Она хворала все той же столь распространившейся болезнью; но палаты были опрятны и хорошо проветрены. Она меня узнала, но не могла говорить, а только вынула из-под подушки третий том и дала мне его из рук в руки таким же чистым и нерастрепанным, каким я некогда ей вручил его. Видно, мои напутственные слова не пропали даром.
Меня навещал один молодой учитель, приносивший мне новейшие журналы, с которым я охотно вступал в содержательные беседы. Он крайне удивлялся, как многие другие, что я будто и вовсе не интересуюсь поэзией и, как казалось, все свои силы обратил на познание природы. Он основательно был знаком с Кантовой философией, и это мне облегчило объяснить ему путь, пройденный, вернее только начатый, мною. Если Кант в своей «Критике способности суждения» усматривал некую общность эстетической способности суждения с телеологической, он тем самым хотел сказать, что творение искусства надо рассматривать как творение природы и, напротив, творение природы как творение искусства и что ценность каждого из них зиждется в нем самом и в каждом из них должна усматриваться независимо от чего-либо стороннего. Говорить об этом предмете я мог весьма красноречиво и, льщу себя надеждой, не без пользы для славного молодого человека. Поразительно, что в любую эпоху люди носятся и возятся с правдой и кривдой недавнего, а то и давнишнего прошлого, и только отдельные бодрствующие умы идут новыми путями, но – увы! – в одиночестве или обретая спутника, верного тебе разве лишь на малом перегоне долгой дороги.
Трир, 26 октября.
Нельзя и шага ступить из своего тихого затвора, не очутившись в глухомани мрачного средневековья, где монастырские стены и непрерывная, хоть и необъявляемая война непрестанно противостоят друг другу. Особенно сетуют домоседы-горожане и улепетывающие эмигранты на ужасное бедствие, поразившее города и веси из-за вошедших в обращение фальшивых ассигнаций. Солидные торговые дома направили эти сомнительные расчетные знаки в Париж, чтобы выяснить их подлинность или подложность, то есть полную обесцененность таковых и даже подсудную опасность рассчитываться фальшивыми ассигнациями. Само собою, что тем самым подрывался кредит и подлинных. Все догадывались, что при изменившихся обстоятельствах легко может случиться и полное изничтожение всех бумажных денег, фальшивых и нефальшивых. Это нависшее над страной новое несчастие, в дополнение к прежним, всем казалось уже безмерным, сравнимым разве лишь с тем, когда на твоих глазах пожар испепеляет родимый город.
Трир, 28 октября.
Табльдот, надо сказать, вполне приличный и даже разнообразный, был очень пестр и разношерст по составу посетителей: военные в разновидных мундирах всех цветов, чиновники в своих вицмундирах разных ведомств, все втихую чем-то недовольные, а подчас и несдержанные на язык, но вкупе все без исключения пребывающие в одном и том же аду.
Но именно здесь мне довелось пережить истинно трогательную случайную встречу. Старый гусарский офицер, среднего роста, с поседевшими усами и такой же головой, подошел ко мне после обеда, схватил меня за руку и спросил, неужели же и я все это выстрадал вместе с другими? Я рассказал ему кое-что о Вальми и о Ане, что дало ему возможность представить себе все остальное. Он заговорил с энтузиазмом и живым участием, в словах, которые я не решаюсь даже доверить бумаге. Смысл его речи сводился к тому, что было безответственным подвергать таким испытаниям и тех, чьим солдатским долгом является, рискуя жизнью, претерпевать такие беды, равных которым не знает история; но то, что и я (он высказал свое мнение обо мне как личности и о моих работах) должен был пережить такое, с этим он никак не мог примириться. Я попытался отозваться о пережитом с более отрадной стороны. Заговорил о моем государе, которому я был и там небесполезен, о том, что охотно разделял суровое испытание со смелыми боевыми товарищами. Но старый рубака стоял на своем. Тут подошел к нам кто-то из цивильных и заявил, что надо меня благодарить за то, что я пожелал все это видеть воочию, ибо от моего испытанного пера только и можно ждать достоверного воссоздания и объяснения происшедшего. «Он слишком умен! – воскликнул старый вояка, ничуть с ним не соглашаясь. – Писать то, что ему дозволят написать, он не захочет, а писать, что он хотел бы высказать, ему не удастся».
Впрочем, все, что доводилось слышать, подтверждало, что возмущение было безграничным. Но если бывает подчас несносным, когда счастливчик беспрестанно толкует нам о своем блаженстве, то стократ противнее, когда не устают пережевывать постигшую нас беду, которую ты хотел бы предать забвению. Знать, что ненавистные тебе неофранки вытеснили нас из своей страны, знать, что мы вынуждены вести с ними переговоры, вынуждены дружить с людьми Десятого августа, вот с чем не мирилась возмущенная душа, вот что было горше перенесенных страданий. Мы не щадили и верховного командования. Доверие к знаменитому полководцу, которое окружало его имя на протяжении долгих десятилетий, казалось, рухнуло теперь навсегда.
Трир, 29 октября.
Когда мы вновь очутились на родной немецкой земле и могли надеяться, что удастся выпутаться из чудовищного клубка событий, нас поразила весть о смелом и победоносном продвижении Кюстина. Им был захвачен огромный шпейерский арсенал, что облегчило ему задачу завладеть крепостью Майнца. Его успехи грозили бесконечной чредою новых бедствий и обличали в Кюстине чрезвычайный ум, столь же смелый, сколь и последовательно-рассудительный, а коли так, что могло перед ним устоять? Всем казалось не только вероятным, но и неизбежным занятие французами Кобленца. Могли ли мы при так сложившихся обстоятельствах продолжать свой отход? Уже и Франкфурт был мысленно отдан неофранкам; под угрозой находились с одной стороны Ханау и Ашаффенбург, с другой – Кассель. А в дальнейшем чему только не будут угрожать французы? Имперские князья, чьи владения соприкасались с перечисленными городами, были парализованы бессмысленным договором о нейтралитете, но тем активнее вела себя воодушевленная идеями революции масса населения. Если Майнц поддался французскому влиянию, почему не воспламенятся теми же идеями и другие города? Что помешает и им включиться в завязавшуюся борьбу? Все это надлежало обсудить и обдумать.
Часто мне приходилось слышать: как могли французы без большого численного превосходства и тщательно обученных солдат предпринять столь решительные действия? Но первые шаги Кюстина поражали смелостью и обдуманностью; и он, и его помощники, и прочие командиры были сочтены мудрыми, энергичными и решительными мужами. Смятение умов было чрезвычайно, и эта беда среди всех уже перенесенных забот и страданий была бесспорно величайшей.
Среди этих невзгод и треволнений до меня дошло запоздалое письмо моей матери – послание, чудесным образом воскрешавшее ребячески-беспечные и фамильно-правовые порядки былого времени. Умер мой дядя, главный судья Текстор, близкое родство с которым меня лишало при его жизни возможности занимать почетно-деятельную должность франкфуртского ратсгерра, но теперь, в силу достохвального обычая, обо мне тотчас же вспомнили, как о лице, имеющем ученую степень и преуспевшем на служебном своем посту.
Моей матери поручили запросить меня, согласен ли я выставить свою кандидатуру и занять должность ратсгерра, если я получу при голосовании заветный золотой шар? Я был смущен. Запрос этот не мог меня застать в более странный миг моей жизни, как именно в этот, когда я упорно думал о пройденном жизненном пути. Передо мной всплывали образы, не дававшие сосредоточиться моей мысли. Но подобно больному или узнику, стремящемуся развлечься старой сказкой, перенесся и я в другую сферу, в другие, давно минувшие годы.
Я увидел себя в дедовском саду, где среди шпалер плодоносных персиковых деревьев аппетит его внука сдерживался только силою строгой угрозы быть изгнанным из этого рая и надеждой получить из рук моего предка самые румяные из плодов; иначе б я не выдержал медлительности часовой стрелки. Потом вспоминался мне мой сановный дедушка, ухаживавший за розами в старинных перчатках, чтобы не наколоться на острые шипы. Перчатки эти презентовались ему как главе города-республики в знак необложения Франкфурта имперскими налогами; дед напоминал мне благородного Лаэрта, но, в отличие от него, отнюдь не тоскующего и не удрученного. Видел я его и в полном облачении городского шультгейса, с золотою цепью, на тронном кресле под портретом императора; а потом в кресле-качалке – увы! – не в полном уже обладании разумом, а там – в последний раз – и в гробу.
Проезжая сравнительно недавно через Франкфурт, я видел дядюшку владельцем унаследованного дома, двора и сада; достойный сын своего родителя, он, подобно отцу, занимал теперь одно из первых мест в управлении городом. Здесь, в тесном семейном кругу, в почти не изменившемся старом доме ожили мои детские воспоминания и, вновь окрепши, предстали перед моим внутренним оком. Но потом к ним присоединились представления и мечты, относящиеся к годам моей юности, о которых тоже не следует умалчивать. Какой гражданин вольного имперского города станет утверждать, что он не надеялся, раньше или позже, стать ратсгерром, главным судьей, или бургомистром, или же, на худой конец, занять хотя бы меньшую должность в городской управе, добившись ее служебным усердием и осмотрительной аккуратностью; ибо сладостная надежда так или иначе участвовать в управлении вольным городом рано пробуждается в груди каждого республиканца, сильнее же и более самонадеянно – в мальчишеском сердце честолюбивого отрока.
Долго предаваться мальчишечьим сладким грезам мне не пришлось. Я вдруг очнулся, как от резкого толчка. Меня объяло предчувствие предстоящих бедствий в тех самых местах, куда унесло меня воображение. Что-то стеснило и придавило меня и заодно заволокло туманом мой город, мою родину. Майнц был уже взят французами. Франкфурт под угрозой, если еще не захвачен; дорога к нему перекрыта. А внутри городских стен, на улицах и площадях, в знакомых домах и квартирах, жили мои кровные родичи и друзья детства, быть может, уже терпящие те невзгоды, которые так жестоко обрушились на жителей Лонгви и Вердена. Кто ринется добровольно в эту бездну злосчастия?
Но и в счастливейшую пору этого почтенного города я не откликнулся бы положительно на столь почетную пропозицию. Причины, тому препятствующие, слишком убедительны. Уже двенадцать лет я имею счастье пользоваться доверием и снисходительностью герцога Веймарского. Щедро одаренный природой и превосходно воспитанный и просвещенный, государь умел ценить мою благонамеренную, но далеко не всегда безукоризненно исполнительную службу и всемерно содействовал совершенствованию моих способностей, как едва ли какой-либо другой носитель верховной власти. Я был ему безгранично благодарен, глубоко почитал супругу и мать моего государя и все его семейство; привязался душой к его стране, для коей я и сам сделал немало. А как мне было не вспомнить об обретенном мною там, в Веймаре, круге высокообразованных друзей и о многом другом, отрадном и достойном любви в теснейшем моем окружении. Все эти милые образы и чувства меня утешили в эту скорбную минуту: ведь ты уже наполовину спасен, если из мрачных обстоятельств чужого края можешь бросить просветлевший взор в сторону благополучной родины; тем самым мы переживаем уже здесь, на земле, то, к чему нам предстоит приобщиться в сферах потусторонних.
В этом-то роде я тут же написал письмо моей матери, и хотя мои доводы в основном базировались, как могло показаться, лишь на моих чувствах и на заботах о личном моем благополучии, но я прибавил к ним и другие, предусматривавшие благо родного города и способные убедить также и моих благожелателей. Ибо как мог я деятельно участвовать в этом весьма своеобычном новом кругу, предполагающем бо́льшую подготовку, чем какой-либо другой значительный пост? Я уже много лет приспосабливал мою службу к моим прирожденным способностям, и притом к таким, в которых Франкфурт меньше всего нуждался; более того, я имел все основания прибавить, что поскольку членами городского совета должны, собственно, быть только бюргеры, а я так отвык сознавать себя таковым, то уже смотрю на себя почти как на чужеземца.
Всем этим я поделился с моей матерью, благодаря ее за посредничество, да она ничего другого и не ожидала. Впрочем, это письмо попало в ее руки очень не скоро.
Трир, 29 октября.
Мой молодой друг, с которым я с удовольствием обсуждал многоразличные литературные и научные вопросы, был весьма сведущ и по части истории города и его окрестностей. Наши прогулки в сносную погоду были поэтому очень занимательны, и я вынес из них немало общих сведений об этом примечательном крае.








