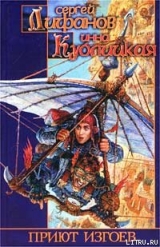
Текст книги "Приют изгоев"
Автор книги: Инна Кублицкая
Соавторы: Сергей Лифанов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
– От жара неплохо помогает, а ты вроде как горишь весь…
Менкара и в самом деле лихорадило; он жался к быстро прогорающему костру, не обращая внимания на то, что происходит вокруг.
А лагерь Расальфагов был встревожен: ночная тьма сгустилась, а в замке Ришад еще не зажегся ни один огонек. Впервые за многие годы ночной Ришад стоял темный, как будто был совершенно безлюден.
Или вымер.
В конце концов генерал послал за Менкаром, и задремавшего было Менкара растолкали и опять потащили к князю.
– Что это значит? – спросил князь, указывая на темную громаду замка, возвышавшегося вдалеке.
Менкар сначала не понял вопроса.
А когда до него дошло, он, внутренне помолившись, ровным, холодным голосом произнес:
– Это значит, что умерла государыня Императрица.
Расальфаг непонимающе посмотрел на замок, потом снова повернулся к Менкару.
– Что ты городишь, дезертир? – сказал он. – Не таким должен быть траур по Императрице!
Потом до него дошло и он произнес:
– Ты хочешь сказать, что она приказала?.. – Князь не закончил.
Только вчера он лично назначил штурм замка через два дня и велел не брать пленных… Но одно дело отдать подобный приказ, и совсем другое – вдруг узнать, что пленными брать некого.
Его охватил гнев. Князь с презрением обернулся к Менкару:
– А ты, значит, крыса… – Он не договорил и презрительно сплюнул Менкару под ноги.
«Хорошо, что не в лицо, – подумал про себя Менкар. – До него я, конечно, все равно не добрался бы, но зато хоть сам пока жив останусь».
– Я краевик, ваше сиятельство, – четко сказал Менкар вслух, надменно выпрямляясь. – Я не могу оскорбить честь моих предков, совершив самоубийство.
– А колесование не оскорбит чести твоих предков, а, дерюжный дворянин? – рявкнул Расальфаг.
Князь погорячился: дворян в Империи колесованию не подвергали даже после гражданской казни – оберегали честь предков. Повесить – да, могли.
– От врагов любая смерть почетна, – отчеканил Менкар и только потом подумал с холодком в душе: «А вот возьмет и действительно колесует…»
Но князь махнул рукой и пошел прочь. Распоряжений касательно Менкара он не дал, поэтому того оттащили в сторону и опять отдали на попечение профосу.
Остаток ночи Менкар спал, а в лагере Расальфага бодрствовали все, даже сам князь. Послали разведчиков в замок. Те долго возились с воротами, уже не пытаясь скрыть шума, но никто из замка не отозвался и отпора не последовало. Ворота открыли, и разведчики проникли в замок. Вернулись они не скоро и принесли князю весть, которой ожидали все: Императрица и все до единого обитатели замка мертвы; Наследник – ни живым, ни мертвым – не обнаружен.
Это последнее обстоятельство стало для Расальфага весьма неприятной неожиданностью.
Он, не дожидаясь рассвета, сам срочно выехал в замок. Вскоре туда же доставили и Менкара – юнкер был единственньм человеком, который хоть что-то мог сообщить.
Менкар попал в Ришад на рассвете и с первыми лучами солнца увидел во дворе неровные ряды упавших тел. Военные – офицеры, солдаты, юнкера – предпочли смерть от оружия; судя по тому, что у некоторых имелись огнестрельные ранения, офицеры добивали из аркебузетов тех, у кого дрогнула рука.
В большом двусветном зале, где в былые дни устраивали балы, лежали тела гражданских – от кухонных рабочих до придворных дам. Их собрали здесь, а потом раздали каждому по большому хрустальному бокалу, где было вино с ядом; яд был быстродействующий, люди умирали после первых же глотков, и сверкающий паркетный пол в зале был усыпан битым хрусталем и залит подсыхающими лужицами розового вина.
На возвышении в кресле, одетая в полный торжественный убор, сидела Императрица; ее глаза были открыты, а яд почти не исказил лица, она казалась живой. На ступенях у ее ног лежали дама Порри-ма и – тут у Менкара дрогнуло сердце – девочка в ярко-голубом платье. На какое-то мгновение ему показалось, что это действительно Эйли, княжна Сухейль Делено, невесть каким образом вернувшаяся в Ришад. Потом он увидел лицо и вспомнил, что видел эту девочку в комнате белошвеек, она всегда тихонько сидела с коклюшками и посматривала на товарок и их кавалеров пугливым любопытным взглядом. Он догадался, что в последние минуты Императрица поняла, что одновременное исчезновение Наследника и княжны Сухейль вызовет у Расальфага вполне обоснованные подозрения.
Брезгливо стараясь не наступать на разметанные по полу одежды умерших, князь Расальфаг прошел к возвышению и какое-то время смотрел на Императрицу. Потом сделал знак, и несколько его офицеров подняли кресло с покойной и унесли во внутренние покои.
Князь явно узнал Порриму, а после того, как глянул на лицо девочки в голубом, обратился к Менкару:
– Кто эта юная дама?
– Таласская княжна Сухейль Делено, – не дрогнув лицом солгал Менкар.
Князь сделал знак, и девочку тоже унесли.
Расальфаг прошелся по залу, но его интерес уже был исчерпан, и он ушел куда-то во внутренние покои. Менкар остался; его заставили опознавать придворных, и он называл имена, а умерших заворачивали в простыни и складывали рядами вдоль стены замка, снабжая каждого табличкой с надписанным именем.
Людей из замковой обслуги – тех, что попроще, – Менкар знал не всех, а все же и те имена, что он назвал, куда-то записали, а потом похоронили всех простолюдинов в общей могиле на холме в полумиле от замка; дворян неродовитых похоронили там же, но в отдельных могилах. А с титулованной знатью, в основном с дамами из свиты Императрицы, поступили иначе: их тела сожгли, каждое отдельно, а прах собрали для передачи родным. Для Императрицы и девочки, названной Менкаром Сухейлью, сделали свинцовые гробы и, залив их прозрачным специальным зачарованным медом, повезли в Столицу.
Менкара, как единственного свидетеля и человека, последним видевшего Императрицу живой, отправили обозом следом – в цепях, но не пешком, а в телеге.
Замок же Ришад князь Расальфаг велел разобрать по кирпичику, а потом срыть и тот холм, на котором он стоял; он полагал, что Императрица приказала скрыть тело Наследника, чтобы никто не мог сказать: «Да, я видел Наеледника живым».
Княгиня Морайя встретила печальный обоз, везущий свинцовые гробы, за сто миль от Столицы.
Она ездила к сыну, уговаривала его наконец хоть как-то высказать свою волю, поощрить выступающих за него людей. Князь Се-гин неожиданно заупрямился и после нескольких дней отмалчива-ния вдруг прямо заявил, что выступление против Императора считает предательством, а сражающихся против него людей – изменниками; изменников же он поощрять не намерен. «Император мертв», – возразила было Морайя. «Жив еще Наследник», – твердо сказал князь Сегин, и не успела княгиня Морайя что-то предпринять, возложил руку на сердце и, призывая в свидетели всех Богов и Создателя, принес клятву верности Наследнику, при этом пообещав, что приложит все усилия, чтобы возвести Наследника на Императорский трон; сразу после этого он велел своей свите собираться в путь – он желал ехать в Ришад.
Он еще не успел выехать, как из Ришада пришла весть о смерти Императрицы и исчезновении Наследника, и тогда он, не глядя на надвигающуюся ночь, немедленно выехал в Ришад.
Морайя, кипя от ярости, промедлила дня два, а потом поехала наперерез траурному обозу.
Она была достаточно знатной и заметной фигурой, чтобы по ее приказанию открыли крышки, и Морайя долго вглядывалась в нетронутое тлением лицо Императрицы под зо лотистым слоем зачарованного меда.
И в эти минуты сердце Морайи стала оставлять жгучая ревность – нет, нет, не к Императору, а к титулу, которого Морай не смогла получить, потому что была не слишком знатна. Она горечью подумала, что неблагодарный сын не хочет ничего сделать, чтобы она стала Матерью Императора. Тогда она вспомни ла о том, как он отверг ее помощь в поисках невесты, вспомнил еще, что сотворенный ею Младший Аркан каким-то образом попал в руки таласской княжны и именно ее отметил как идеаль ную невесту для князя Сегина. И Морайя повелела вскрыть гро княжны Сухейль.
Прежде всего в глаза ей бросилось ожерелье. В меду киммерий сверкал, зато кристаллы горного хрусталя потемнели, стал непрозрачными, приобрели какой-то серо-стальной оттенок.
Морайя перевела взгляд туда, где должны были бы быть серьги, но в ушах девушки серег не было, и княгиня наконец посмотрела в лицо умершей.
Она смотрела на нее с минуту, прежде чем сказать:
– Кто вам сказал, что это – Дочь Императора?
– Некий юнкер Аламак Менкар из замка Ришад опознал эту юную даму как княжну Сухейль Целено из Таласа, – доложили eй.
– Хотела бы я посмотреть на этого самого Аламака, – в пространство произнесла княгиня, и к ней привели позвякивающег цепями Менкара.
Она в несколько секунд оценила его грязный потрепанны: мундир, руку в лубках и кандалы на ногах.
– Как он остался жив? – в сторону спросила Морайя, и е поведали историю дезертира Аламака Менкара, ночного возду хоплавателя.
– Княжна Сухейль улетела в ту же ночь, что и ты? – спроси ла Морайя, даже не дослушав.
Менкар смотрел прямо перед собой и не отвечал.
– Наследника увезла она? – спросила Морайя, как будт услышала ответ на свой первый вопрос.
И снова Менкар промолчал, а княгиня, ничуть не смутив шись его молчанием, обратилась к офицеру, который команде вал отрядом, сопровождающим обоз:
– Эта девочка вовсе не княжна и ее не следует везти в Столицу вместе с Императрицей. Похороните ее где-нибудь поблизости с должным приличием, только снимите с нее это ожерелье. А этого человека, – она указала на Менкара, – оставьте мне. Мои люди выбьют из него правду.
Менкар было совсем приуныл, но Небо было благосклонно к нему – в ту же ночь на дворец, где остановилась княгиня Морайя, совершил налет один из сборных отрядов имперской конницы, сохраняющих верность Императору. Нападавшие надеялись взять в залржницы саму Морайю, но та успела уехать раньше, чем они ворвались во двор замка. До всего прочего им дела было мало, и, убедившись, что налет не удался, они собрались уходить. Тогда Менкар, слышавший шум стычки из подвала, куда его запрятали, начал орать, прижимаясь лицом к оконной решетке: «Слава Джанахов! Меч Джанахов!» Императорский боевой клич нападавшие услышали и, как ни торопились, решили все-таки посмотреть, кто там орет. Менкара извлекли из подвала и взгромоздили на лошадь, даже не сняв с него кандалов; Менкар впервые в жизни проехался в седле по-дамски и нельзя сказать, что это ему очень понравилось. К тому же сильно мешала сломанная рука.
Разбираться с ним начали потом, уже утром, на привале. Кандалы для приличия сняли, но не выкинули; командир открыто подозревал его неизвестно в каких страшных грехах и не скрывал, что потрепанный юнкер кажется ему человеком очень подозрительным.
– Я должен добраться до князя Сабика, – сказал Менкар. – Я из Ришада.
Но и эти его слова не показались командиру убедительными. Он был родом с бедного болотистого Запада и с недоверием относился к краевикам, не без основания полагая, что те слишком хорошо устроились: и край богатый, и налогов с них не берут. Звали его Толиман Кайтос из Натха.
– А я знал одного из Кайтосов, – вдруг вспомнил Менкар. – Батен из Шеата вам не родич?
– Троюродный брат, – удивился Толиман. – Но он умер в прошлом году.
– Напротив, – возразил Менкар. – Я полагаю, он и сейчас жив. Он в Таласе.
– Он свалился с Края Земли, нам написали…
– Его сбросили с Края Земли, – нагло поправил Менкар. – Только, на его счастье, вниз лететь недалеко было, задержался на выступе, а там его рыбоеды подобрали. Я знаю это верно, – сказал он, упрочивая свою и без того отвратительную репутацию, – я у рыбоедов в тот день жемчуг покупал, они мне и рассказали.
Толиман неожиданно ухмыльнулся:
– Ну, парень, ну, даешь! Открыто в контрабанде признаешься и в ус не дуешь. А не боишься, что мы тебя вздернем на ближайшем дереве как лгуна, дезертира и вдобавок еще и контрабандиста?
– Чего мне бояться? Только у Императорской стражи и проблем теперь, что с контрабандой бороться, – ухмыльнулся в ответ Менкар. – А нам, краевикам, без контрабанды нельзя, если хочешь, чтобы тебя в Империи за дворянина сочли. У нас ведь нельзя продавать хлеб да скот на сторону, все сдаем Краевой Комиссии.
Как ни странно, именно это обезоруживающее признание расположило к нему Толимана Кайтоса. Во всяком случае, тот велел раздобыть для юнкера новую одежду и дать ему какого-нибудь коня. А несколькими днями позже с полудюжиной солдат отправил его дальше на юго-запад, к князю Сабику.
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
АОЙДА И АБРАКСАС
БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ЖУТКОЙ ПУСТЫНИ
Аойда терпеть не могла, когда ее называли королевой и государыней; Абраксас же, кажется, находил особое удовольствие в том, чтобы ее злить, и постоянно требовал от окружающих королевских почестей для своей жены.
Правда, чем дальше они уходили на Юг, тем меньше людей встречалось на их пути; предупрежденные заранее, они на несколько дней бросали свои дома и спешно уходили на Восток и на Запад, освобождая дорогу колдуну. Абраксаса это ничуть не смущало; он, казалось, даже не замечал этого. Только однажды Аойда услышала от него досадливо брошенное: «И ладно, мороки меньше!»
Они тогда вошли в большой город, почти совершенно обезлюдевший, и только калеки, беспомощные, древние старики и безумные – все те, кто не смог уйти и кого не смогли забрать с собой, приветствовали вступившее в город войско, и зрелище было жалкое, отвратительное, если не сказать больше – страшноватое: словно разверзлись могилы и из них вылезли на белый свет мертвецы – в струпьях, истлевших одеждах, с отвалившимися конечностями и страшно смердящими ранами, еле ползущие или кривляющиеся, корчащиеся… И все они выползли из своих убежищ, действительно мало чем отличавшихся от могил, и спешили приветствовать своего государя и повелителя, воем и стонами вознести ему хвалы, прикоснуться к нему… Аойде было очень не по себе, когда они проезжали по словно вымершему городу и только эти жалкие подобия людей встречали кавалькаду. Аойда поразилась, сколько может быть ненужных и никчемных бродяг, калек и нищих в одном городе! Не свозили же их, в самом деле, сюда специально для встречи Абраксаса… Сам Абраксас проезжал сквозь этот жуткий строй с непроницаемым лицом, но Аойда уже достаточно знала своего будущего мужа и видела, что и ему не по себе. Именно в тот день он и произнес эту фразу, отведя душу казнью нескольких десятков мародеров, оставшихся в пустом городе на свой страх и риск и за это поплатившихся головами…
Дороги здесь были куда лучше, чем на Севере, и карету Абраксас подыскал себе более удобную; теперь они ехали быстрее, и Ар-и-Диф, Жуткая Пустыня – непонятная цель их непонятного путешествия – становился все ближе. Аойду это вовсе не радовало…
То и дело рядом возникал Пройт, нашептывал ей, если Абраксаса не было рядом: «Надо уходить, пока не поздно. Нас никто не поймает, я клянусь тебе в этом…» Она покачивала головой: слушать Пройта было нельзя.
Он появился в день свадьбы, сразу после церемонии, когда она осталась одна в своей комнате, а Абраксас удалился по собственным делам. В этом было еще одно унижение: она все-таки не кто-нибудь, а княжеская дочь, как же смел муж оставить ее одну в день свадьбы?
Шорох в дверях заставил ее обернуться. На пороге стбял один из этих, серебристых, безмолвных.
– Что тебе? – надменно спросила Аойда. Кажется, муж ее относился к ней как к рабыне; разве иначе можно объяснить то, что он позволял своим серебристым истуканам входить в ее комнаты без предупреждения.
Серебристый поднял руку и сбросил с головы глухой капюшон. Аойда охнула – ни разу она не видела, чтобы серебристый открывал лицо. Да и не могло быть у него никакого лица под проклятым капюшоном! Но она ошиблась. Под этим капюшоном лицо было. Более того, это лицо ей было знакомо – это был Пройт.
– Ох, это ты! – Аойда даже обрадовалась, ведь Пройт сейчас был единственным нормальным здесь человеком, единственным, кого не коснулось повальное безумие, которое ее окружало. С ним хотя бы можно было поговорить, он сможет ее понять. Ведь он любит ее, раз пошел за ней, рискуя жизнью, презрев опасность…
Пройт скинул с себя серебристый плащ, нервно скомкал и сунул себе под мышку.
– Моя княжна! – Он сделал шаг вперед, и тогда Аойда отступила.
Что-то было не так. Она всматривалась в знакомое, но странно переменившееся лицо, и понимала, что перед ней был не тот Пройт. В глазах этого Пройта светилось безумие.
Пройт остановился.
– Моя княжна! – повторил он. – Не бойтесь. Я спасу вас, я выведу из замка. Не беспокойтесь, я сумею, никто не заметит. Идемте со мной!
Пройт говорил возбужденно, горячечно. Глаза его сверкали нездоровым блеском.
Серебристым.
Возможно, это был просто отсвет от зажатого под мышкой плаща, но Аойда отступила еще на шаг и подумала с ужасом: «О Боги! Что с ним случилось? Что с ним сделали!»
– Княжна? – тревожно проговорил Пройт.
– Я не могу, – сказала Аойда, стараясь казаться внешне спокойной. – Я останусь здесь.
Пройт порывисто придвинулся к ней.
– Но почему?
Он не понимал. А объяснять ему было бесполезно, это Аойда уже поняла.
– Тогда я вытащу тебя отсюда против твоей воли, княжна!
Дальше отступать было некуда. Она попыталась скользнуть в сторону, но Пройт сильными руками схватил ее за плечи и, не сдержавшись, встряхнул как тряпичную куклу. В глазах его горел дикий огонь, отливающий живым металлом.
– Потом ты сама скажешь мне спасибо! – страстно и горячо шептал он. – Ты не знаешь – он потешится и бросит тебя, как бросал других. Мы уйдем, и знаешь что с тобой станет? То же, что и с другими его любовницами, то же, что со всеми его прихлебателями, то же, что сделали с его родственниками…
– Что?
– Тебя убьют, как убивали всех их! – жарко шептал Пройт в лицо, стискивая ее предплечья. – Ты ничего не знаешь! Здесь полно таких, как я, кто не одурманен, кто ходит за ним сознательно, чтобы безнаказанно грабить и убивать. Подонки!.. – почти выкрикнул он. – Они тайно остаются в городах, а потом доносят, чтобы завоевать его доверие, чтобы специально обозлить его. Глупец, он верит им! А они ненавидят его и предают за его спиной. Да еще издеваются… Это они донесли ему, что всех его дур-кузин на следующий же день после его ухода растерзала обезумевшая толпа его бывших подданных, которые только вчера его славословили, дом его дяди сожгли вместе со всеми, кто там был, а самого дядюшку повесили на базарной площади рядом с его наместником под всеобщее улюлюканье. – Его губы кривила гримаса презрительной ухмылки, когда он произносил эти «его», но тут же они шептали с новой страстью: – То же может случиться и с тобой! Но я этого не допущу! Нет! Ты… Ты не будешь принадлежать ему! Ты моя! Ты будешь моей! Только моей!.. – Пройт порывисто прижал Аойду к себе и стал вдруг жадно, грубо, животно целовать ее лицо, шею, плечи.
– Как ты смеешь, Пройт! – гневно воскликнула Аойда, пытаясь остудить его пыл. Ей было страшно. Страшно и противно. Даже противнее, чем тогда, за столом…
Она стала бешено вырываться. Но Пройт схватил ее, крепко сжал одной рукой – не вырваться! – а другой сдернул с кровати покрывало и начал силой заворачивать в него отчаянно отбивающуюся Аойду. Она не кричала; она не могла заставить себя закричать, хотя и очень хотелось, – но ведь тогда прибегут настоящие серебристые, придет Абраксас… Что тогда сделают с Пройтом?..
И тут вдруг Пройт оттолкнул ее, подхватил серебристый плащ, оброненный в пылу борьбы, и проворно нырнул в соседнюю каморку, где когда-то спала нянька, а теперь складывали разное барахло.
Аойда торопливо выпуталась из покрывала и услышала то, что раньше нее услышал Пройт: по коридору неспешно приближался хозяйской походкой человек; Аойда слышала его шаги, клацанье какого-то железа, даже шорох одежды. Это мог быть только Абраксас.
Он вошел в комнату как хозяин, без стука, увидел царящий вокруг разгром; право же, оказалось, что достаточно разворошить кровать и сбросить на пол несколько предметов – и видимость беспорядка, долго и тщательно создаваемого, готова. А среди этого хаоса стояла, тяжело дыша, растрепанная, раскрасневшаяся Аойда, стыдливо прикрывая рукой лопнувшую во время возни шнуровку на груди.
– Ого! Кажется, я не вовремя? Вы, оказывается, тут вполне приятно проводите время в ожидании брачной ночи, – с веселым изумлением заметил Абраксас. Он притворно покачал головой. – А еще рассказывают о целомудренности мунитайских девиц… – Он обвел взглядом комнату, задержался на щели под кроватью и уставился на нянькину каморку. – А где же ваш возлюбленный? Я, знаете, не ревнив… дорогая, – сладко проговорил он и начал приближаться с явной целью обнять ее.
И тут у Аойды не выдержали нервы. Она схватила со столика кувшин и бросила его о стену – следом в стену полетели ваза и умывальный тазик. Все это было сделано из тонкого фарфора и прекрасно разлетелось вдребезги; куски побольше Аойда с наслаждением дотоптала каблуком – и, подхватив юбки, в бешенстве выскочила из комнаты.
Абраксас рассмеялся ей вслед, потом вежливо раскланялся с нянькиной каморкой и вышел, ничуть не интересуясь тем, кто там может находиться.
Вечер и начало ночи Аойда просидела на крепостной стене, в укромном местечке, где укрывалась еще ребенком. Плакала, конечно, тихонько жаловалась Небесам на злую свою судьбу; потом успокоилась и сидела просто так, собиралась с духом.
Как не хотелось возвращаться! Но это было необходимо.
Ее никто не искал; кажется, никто просто не заметил ее отсутствия. Она спустилась во двор, велела первому же встреченному серебристому истукану отвести ее к родителям. Можно было и не приказывать; семья жила теперь в покоях княгини, в том числе и Линкей – их содержали всех вместе.
В передней комнате вольготно расположился еще один серебристый – сидел себе, развалясь в кресле, бросал кинжалы в толстую дубовую панель, где были нарисованы фамильные гербы Мунитов. Аойду покоробило от того, с какой бесцеремонной наглостью ведут себя приближенные Абраксаса в ее доме.
– Как вы себя ведете! – воскликнула она с холодной ненавистью. – Кто позволил вам портить мебель?
Серебристый вскочил и вытянулся как столб.
– Извольте вести себя прилично, – сказала Аойда.
Серебристый чуть склонился перед ней. Может быть, в душе он и посмеивался над так называемой королевой – интересно, есть ли у серебристых душа? – однако возражать не стал и, пока Аойда его видела, приличий не нарушал. Кстати, именно после этого случая серебристые начали замечать ее и кланяться при встрече: похоже, и на них подействовала строгость ее тона.
Отец пребывал в полудреме; он лежал на кушетке, прикрытый зимним плащом; Линкей сидел на полу у его изголовья и читал вслух что-то из древней истории. Княгиня вышивала на пяльцах и следила за тем, как читает Линкей, изредка поправляя его. Увидев дочь, она отложила пяльцы в сторону и спросила с тревогой:
– Что случилось, доченька?
Аойда вспомнила, как выглядит; она, правда, попыталась привести себя в порядок, пока отсиживалась на стене, но много ли сделаешь без теплой воды, зеркала и гребешка?
– Помогите мне, матушка, – попросила она. – Я выгляжу, как чучело.
Княгиня тут же увела ее в свою спальню, помогла раздеться, дала умыться и полотенце. Вода оказалась холодной. В суете мишурного блеска прибытия колдуна дворня забыла о своих обязанностях; Аойда и без того продрогла, теперь же ей стало и вовсе зябко. Она торопливо обтерлась полотенцем и шмыгнула на кровать, под одеяло, пока мать посылала кого-то из прислуги за другим платьем для княжны. Слава Небу, мать не совсем разучилась приказывать; возможно, она не смогла бы сделать что-то для себя, но для дочери, ставшей женой государя, княгиня должна была сделать все, что в ее силах! Из покоев княжны тут же доставили несколько платьев, княгиня выбрала сама наиболее подходящее моменту, помогла дочери одеться, сама заплела ей косу и уложила в узел на затылке. При этом она негромко что-то говорила о том, как порой несдержанно ведут себя мужчины; Аойда не слушала, заставляла себя не слушать – и без того на душе у нее было противно.
– Вот теперь ты похожа на девицу княжеского рода, – сказала наконец мать.
Аойда посмотрела в зеркало – было совсем не похоже, что недавно она долго плакала.
– Благословите меня, матушка, – попросила она.
Отцовского благословения она не хотела; на отца было страшно смотреть – на такого жалкого, безвольного. И уходя, она даже не взглянула в его сторону…
Серебристый в передней, увидев ее, вскочил и легко поклонился. Аойда строго глянула на него и прошла на половину отца, которую теперь занимал самозванец-колдун. У дверей ее встретил другой серебристый – этот на страже не сидел, а стоял, – преградил ей путь, вгляделся в лицо черными щелями капюшона, с поклоном отступил в сторону и пропустил в комнаты.
Войдя, Аойда поняла, почему женщинам неприлично без зова входить на мужскую половину. Она сразу же услышала в спальне женский смех, украдкой заглянула в полуоткрытую дверь – ее бросило в жар – и поспешно отошла, стараясь не прислушиваться. Хотелось сбежать. Но в голову пришло, что ее снова найдет Пройт, опять начнутся жаркие уговоры – он не понимает, что Аойда просто не может ему уступить: ведь если она сбежит, Абраксас отыграется на ее родных. И потом – как она может бежать? Княжеские дочери не убегают от мужей, пусть даже эти мужья нелюбимые. Это несообразно чести. Это недопустимо.
Аойда отошла в глубину комнаты, присела на подоконник и пригорюнилась. Снова захотелось плакать. Чтобы отвлечься, Аойда стала вспоминать старинные стихи и даже тихонько шептать их, обращаясь к далекой луне. Звуки певучего товьярского языка немного успокоили; она как будто забыла, где находится.
В кабинете часы пробили полночь; Аойда продолжала читать про себя.
Вскоре Абраксас дернул за шнурок колокольчика. Туда прошел серебристый и вывел из спальни девушку; та торопливо застегивала платье и то и дело оглядывалась.
Аойда молча посматривала из своего темного угла. Ей очень хотелось, чтобы о ней никто не вспомнил. Кажется, так оно и было; в спальне погас свет, осталась только одинокая свечечка ночника. Прошло еще немного времени; часы ударили час. В покоях было тихо, Аойда слышала только сонное дыхание колдуна; теперь она перебралась в мягкое кресло в кабинете – от сидения на подоконнике затекла спина.
И тут до нее донесся стон. Или нет, это был не стон? Какой-то другой звук? Кто-то задыхался в кошмарном сне, не мог из него вырваться… Кто-то?Неужели могущественного, бездушного Абраксаса-колдуна смеют мучить ночные кошмары?!
«Всех его дур-кузин на следующий же день после его ухода растерзала обезумевшая толпа, дом дяди сожгли вместе со всеми, кто там был, а самого его повесили на базарной площади под всеобщее улюлюканье», – всплыло в голове. Аойда встала и подошла к двери в спальню.
Абраксас спал беспокойно, ворочался, сонно мотал головой, пытаясь избавиться от кошмара. Вот он как сомнамбула приподнялся на локте, еще не проснувшись, потянулся к столику и нечаянно сбил с него кубок с водой; что-то разбилось, и кубок с грохотом покатился по полу.
Абраксас пробормотал проклятие, сбрасывая с себя остатки сна. Аойда бесшумно отступила от двери, но ее движение было замечено.
– Кто там? – раздраженно спросил колдун хриплым голосом, Аойда вышла на свет.
– Кто ты? – спросил Абраксас. Он, кажется, и в самом деле не узнал ее.
– Ваша жена, – сказала она негромко.
– Не помню, – проговорил он. – Когда мы поженились?
– Сегодня, – ответила Аойда, – то есть, конечно, уже вчера. Абраксас приподнялся в постели, рассматривая ее с неподдельным интересом; одновременно он морщил лоб, пытаясь припомнить. И вспомнил.
– Да, – сказал он наконец. – Вы – моя жена, княжна Аойда Мунита.
Абраксас еще раз протянул руку и попробовал дотянуться до кубка, но тот лежал на полу среди обломков разбитой тарелки, на которой, судя по всему, до того стоял.
Аойда без слов подняла кубок, наполнила его из большого кувшина и поднесла его Абраксасу. Пока он пил, Аойда присела и стала собирать осколки тарелки. Рисунок на ней был какой-то странный: красные яблоки по краям образовывали что-то вроде каемки, а в середине была изображена птица, сокол, который будто, бы прикрывался крыльями от вращающихся яблок – забавный рисунок, необычный.
– Спасибо, – сказал негромко колдун, жадными глотками выпив сразу около трети.
Аойда, не зная куда подевать осколки, положила их на край стола. Абраксас покосился и, пробормотав что-то вроде: «Проклятие, опять она разбилась!», поставил кубок.
Сейчас он мало напоминал того человека, которого Аойда видела днем, к которому уже успела привыкнуть в холодной ненависти. Сейчас перед ней был растерянный, ничуть не самоуверенный, даже какой-то настороженный человек. Его дневные наглость и язвительность исчезли без следа.
– Что вы здесь делаете? – вдруг спросил он. – Во всяком случае, час назад вас здесь не было.
– Да, – сказала Аойда спокойно. – Я сидела в зале.
– Боги, зачем? – искренне удивился Абраксас.
Аойда вспыхнула. В самом деле, как объяснить этому человеку, что он наносит ей одно оскорбление за другим. Или, может быть, теперь это не считается оскорблением: жениться на девице из благороднейшей семьи и в первую брачную ночь позвать в постель не ее, а какую-то дворовую девку?
Впрочем, Аойда горячилась – ту девушку, что час назад вывели отсюда, она знала: ее недавно привез ко двору князя отец, небогатый рыцарь, которому матушка обещала помочь выдать ее замуж и дать пристойное приданое. Но будь эта девушка дворянка или простолюдинка, то, что Абраксас предпочел ее молодой жене, не могло не задеть Аойду. Или… Или это просто месть за сцену в комнате Аойды?
– Бедняжка, – тихо сказал Абраксас. – Такая красивая…
– Послушайте! – взмолилась Аойда. Она почувствовала, что сейчас опять расплачется, и поспешно отвернулась.
Абраксас сел в постели, потянулся к ней и взял за руку – Аойда замерла: что-то было в этом прикосновении. Он потянул ее к себе и усадил на краешек кровати; она не противилась и присела, полуотвернувшись.
– Княжна, – сказал он неожиданно мягко. – Княжна, выслушайте меня, пока я могу с вами говорить.
– Что же может вам помешать говорить со мной? – Голос Аойды был тих и полон тоски.
– Я не могу вам ничего объяснить, – так же мягко продолжал Абраксас. – Я и сам не совсем понимаю, в чем дело.
Аойда взглянула на него изумленно:
– Я как будто слышу другого человека. Как будто великого колдуна Абраксаса подменили!
– Никакой я не колдун! – резко сказал Абраксас, и Аойда вдруг разглядела, что он сильно изменился: теперь ему было именно тридцать лет, может, годом больше или годом меньше; прозрачная жесткая маска, которая так старила его, исчезла.








