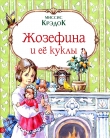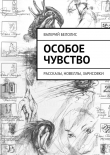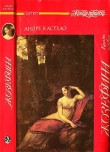Текст книги "Жозефина"
Автор книги: Имбер Де Сент-Аман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
15 мая Жозефина пишет дочери: «Вот уже пять дней я в Тулоне, моя дорогая Ортанс, я совершенно не устала от дороги, но очень опечалена разлукой с тобой, такое скорой, без прощания с тобой и моей дорогой Каролиной. Но, моя дорогая девочка, я немного утешаюсь надеждой, что скоро обниму тебя. Бонапарт не хочет, чтобы я плыла с ним. Он желает, чтобы я поехала на воды, прежде чем пускаться в путешествие в Египет. Он пришлет за мной корабль через два месяца. Значит, моя дорогая Ортанс, я вновь буду иметь удовольствие прижать тебя к своей груди и уверить тебя, что ты самая любимая. Прощай, моя дорогая девочка».
Зная о передвижениях англичан, Бонапарт понимал, что нельзя терять ни минуты и нужно тотчас же отправляться, но неблагоприятные ветры на десять дней задержали его в Тулоне. Он использовал время для воодушевления солдат, загрузки кораблей и разработки тактики. Пятьсот парусов должны были поплыть одновременно по Средиземному морю. Имея воды на месяц, провианта на два, флот нес около сорока тысяч солдат со всем вооружением и десять тысяч матросов. По пятьсот опытных гренадеров было размещено на каждом корабле с высокими бортами, и был дан приказ в случае встречи с английским флотом гнаться за ним и идти на абордаж, корабль на корабль. Никогда еще не создавалось столь огромной экспедиции. Солдаты и матросы были полны уверенности. Но все же оставались и холодные головы, те, кто не поддавался воинственному пылу и удвоенной горячности молодости и храбрости: они знали об огромных опасностях, делавших успех экспедиции если не невозможным, то, по меньшей мере, маловероятным.
Арно, отплывший вместе с армией, говорил, что все пропало бы, если бы флот встретился с врагом во время плавания, и не потому, что эта отборная итальянская армия была недостаточно большой, а скорее, наоборот, слишком многочисленной. В результате размещения сухопутных войск по кораблям на каждом борту оказалось втрое больше людей, чем нужно было для его защиты. А в подобном случае все, что превышает необходимое, вредит. При сражении все мешали бы друг другу и были бы стеснены в маневрах, а пушка противника обязательно находила бы трех там, где она должна была бы найти одного или даже ни одного. Арно добавляет, что к затруднениям, вызванным слишком большим количеством людей, добавлялось нагромождение артиллерийского снаряжения; ванты[27] были перегружены им, палубы тоже. «В случае атаки противника все это нужно было выбросить за борт и защиту начинать, жертвуя средствами для будущей победы. Победа при отражении атаки уничтожила бы уже саму экспедицию. Дай бог, чтобы главнокомандующий не оказался вынужденным одержать хоть одну!»
У Мармона такие же впечатления. Он говорит, что не смог бы оправдать экспедицию с такими минимальными шансами на успех. Он обращает внимание на то, что корабли были плохо вооружены, экипажи не укомплектованы и мало обучены; военные корабли были перегружены войсками и артиллерийским снаряжением, стеснявшем маневры; этот огромный флот, составленный из одномачтовых суден и кораблей всех видов, был бы неминуемо рассеян или даже уничтожен в результате лишь одной встречи с неприятельской эскадрой, что невозможно было рассчитывать на победу в морском бою и что даже сама победа не спасла бы караван. «Чтобы экспедиция удалась, – добавляет Мармон, – нужно было, чтобы плавание прошло спокойно и не было бы ни одной опасной встречи, но как рассчитывать на подобное везение с таким медленным движением и остановкой, которую мы должны были сделать перед Мальтой? Сама вероятность была против нас: не было ни одного благоприятного шанса из ста. Мы за здорово живешь шли на верную гибель. Нужно признать, что это была сумасбродная, нелепая игра, и даже успех не мог бы оправдать ее».
Вопреки всему Бонапарт даже и мысли не допускал, что фортуна могла бы отвернуться от него. Он столько милостей вырвал у нее и считал, что подчинил ее себе. Бонапарт и штормов опасался не больше, чем кораблей Нельсона. По его мнению, препятствия были лишь химерами. При возвращении, как и при отплытии, главнокомандующий даже мысли не допускал о столкновении с англичанами. Он говорил самому себе: чего опасаться кораблю, который несет меня и мою фортуну? Но Бонапарт не был одинок в такой вере в свою судьбу, внушая ее своим товарищам по оружию. Он верил в себя, и все верили в него. Наполеон вступил, в самом деле, в ту пору жизни, когда великие люди, достигнув пика воодушевления, искренне считают себя выше человеческой природы и воображают себя полубогами.
19 мая, в день отплытия, английский генерал Нельсон наблюдал за действиями французского флота. Сильный и внезапный шторм, нанесший ущерб лишь одному французскому фрегату, далеко отбросил английскую эскадру и так повредил суда, что, вынужденный пойти на ремонт, Нельсон смог вернуться к Тулону лишь 1 июня, через двенадцать дней после того, как французского флота и след простыл.
Прощание Бонапарта и Жозефины было очень нежным. «Все, кто знал мадам Бонапарт, – говорил Буррьенн, – отмечали, что существовало мало таких приятных женщин. Муж страстно любил ее. Чтобы подольше наслаждаться ее обществом, он привез ее с собой в Тулон. Мог ли он знать, расставаясь с ней, когда он увидит ее вновь и увидит ли вообще когда-нибудь?»
Настал час отплытия. Обращение Бонапарта к солдатам нашло отклик в сердцах его товарищей по оружию: «Солдаты, вы воевали в горах и на равнинах, осаждали города; вам остается война на море. Римские легионеры, на которых вы иногда были похожи, но еще не во всем равны, сражались с Карфагеном то на море, то на Замейской равнине. Победа всегда была за ними, потому что у них были храбрость, терпение, дисциплина и единство. Создавший Республику гений свободы призывает ее стать арбитром не только Европы, но и морей и далеких народов».
Флот слышит сигнал. Корабельные гудки отвечают ему. Бесчисленная толпа, покрывающая склоны тулонских холмов, с патриотическим волнением наблюдает за этим гигантским спектаклем, освещенным величественным солнцем. Жозефина на балконе здания интендантства, откуда она пытается разглядеть своего супруга на палубе отплывающего корабля. Что ждет французский флот? Сможет ли он запастись провиантом на Мальте?
Откроет ли ему порты неприступная крепость? Доберутся ли до Египта? Можно ли будет высадиться? Не придется ли им бороться не только против мамлюков[28], но еще и против несметных орд Турции? Неважно! Бонапарт верит в то, что он хозяин своей фортуны.
Страх и гордость одновременно охватывают Жозефину: страх оттого, что ее супруг бросает вызов одновременно морским стихиям и судьбе, таким одинаково изменчивым, гордость от приветствий, посылаемых вослед отплывающим героям.
Раздается сигнал к отплытию, паруса сначала оседают, корабли вздрагивают под сильным севе-ро-западным бризом. И не без труда флот снимается с рейда. Многие суда бороздят дно, однако не останавливаются. «Восток» со ста двадцатью пушками, на котором находится Бонапарт, зарывается в песок достаточно глубоко, чтобы вызвать беспокойство у стоящих на берегу провожающих. Корабль высвобождается, и под крики толпы, смешивающиеся с фанфарами оркестров отплывающих войск и выстрелами артиллерии фортов и флота, величаво берет курс в открытое море.
Глава XXII
ПАРИЖ НА VII ГОДУ РЕСПУБЛИКИ
Как и все самые неуравновешенные натуры, у которых ярость сменяется разряд– В кой, город, какими бы бурными ни были его страсти, не сумел бы оставаться постоянно в пароксизме возбуждения или ненависти. После самых жестоких социальных кризисов наступает расслабление, своеобразная усталость, часто граничащая с безразличием и скептицизмом. И в нем революционный гимн «Марсельеза» в определенные моменты возбуждает сердца и звучит как божественная песнь, в другие моменты кажется лишь старой и вышедшей из моды песенкой; или ораторы, которые лишь несколько месяцев назад поднимали массы, напоминают вдруг старых актеров, больше не делающих сборов. Из всех городов мира Париж, возможно, самый непостоянный в своих вкусах и пристрастиях. К VII году Революции Париж пресытился всем, кроме удовольствий и воинской славы. Политика, литература, газеты, парламентские дебаты уже мало волновали население, которое в течение почти десяти лет оказывалось свидетелем таких разнообразных спектаклей и пережило столько всевозможных эмоций.
Как сказал Теофил Лавалле: «К революции относились несерьезно, насмехались не только над ее празднествами в смешных костюмах, но и над самыми ее мудрыми институтами и самыми честными и чистыми людьми». Богиня разума не могла прогуливаться по улицам, не вызывая насмешек и шуточек толпы. На патриотические процессии смотрели теперь как на маскарады. Клубных ораторов воспринимали лишь как скучных проповедников. Большинство парижан не интересовали и не заботили ни якобинцы, ни эмигранты, и они не обращали внимания ни на поношения одних, ни на жалобы других. Больше не было места ни роялистской, ни республиканской пропаганде. В Париже царствовала не идея, а эгоизм, вкус к материальным наслаждениям и презрительное отношение ко всем режимам, исключая режим клинка. Только несколько искренних, честных и убежденных республиканцев, таких как Гойе, оставались верны своим принципам и упорно стремились бороться против всякой попытки установления диктатуры. Но они не могли уже опираться на общественное мнение, которое раньше воспринимало свободу как идеал, но уже сменило идола и преклонялось силе. Их несгибаемость и непреклонность вступили в противоречие с нравами общества, и они были теперь не на месте в среде, где обитали.
Слишком роялистская для республиканцев и слишком республиканская для роялистов Директория не воспринималась больше всерьез. Она не вызывала даже чувства ярости, а только пренебрежение или презрение. Льстецы, окружавшие Барраса, еле слышно и краем губ восхваляли его, а он, будучи проницательным, прекрасно сознавал, что его роли и положению приходит конец. Об этом демократе ходили по Парижу такие стихи:
Больше Нерона он деспот.
Чванством наполнен, под красным навесом
Он разглагольствует в режущем тоне.
Но лишь заливистый смех вызывает
Этот Паяц, Арлекин, Панталоне,
Так пародируя Агамемнона.
Торжества в Люксембургском дворце уже не были престижны, каждый поглядывал в сторону горизонта, откуда должно было появиться восходящее солнце.
Париж совершенно не придерживался строгих моральных правил и устоев. Едва заметно было возрождение религиозного чувства, симптомом которого можно считать публикацию произведения «Гений христианства». Культ теофилантропии, созданный одним из директоров, Ла Ревейер-Лепо, был лишь пародией на религию, слишком невразумительным и кратким казалось его «кредо», вменяемое им своим адептам. Как заметили господа Гонкур: «Это верование самого маленького формата. Оно указывало на свои храмы одной надписью: «Молчание и уважение, здесь обожают бога». Проповедуемая им добродетель представляла собой компиляцию всевозможных моральных постулатов вплоть до греческих и японских, то есть теофилантропия попросту списала мудрость наций, чтобы создать свой моральный кодекс. Она опиралась на книжную мудрость вместо того, чтобы опираться на скинию в ее молитве «Отче наш»; в том виде, который предложил один из членов секты, исключались фразы: «сущий на небесах» – потому что Бог повсюду; «оставь нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим» – потому что это равносильно было бы сказать «поступай как мы»; наконец, «не введи нас во искушение» – как превращающая Бога в дьявола.
Приверженцем теофилантропии мог стать каждый вне зависимости от вероисповедания: и католик, и протестант, и еврей, и магометанин, сохраняя при этом от своей религии все то, что хотел. Праздниками нового культа были праздники дня Революции, Дней Независимости народа, молодежи, супругов, сельского хозяйства, свободы, старости. Проповедники теофилантропии, молясь за все действия правительства, добивались расположения официальных лиц. Католические храмы были предоставлены им, и старые владельцы вынуждены были потесниться. Теперь в одних и тех же храмах с шести часов утра до одиннадцати отправляли службу католические священники, а с одиннадцати часов – теофилантропы. Секте горбатого директора – «магомет-теофилантропа Ла Ревейера, урода», как его называли – предстояло просуществовать от силы четыре года, она не устояла под градом насмешек. Эта жалкая подделка под христианство не понравится ни безбожникам, ни верующим, и шутники будут по-эзоповски называть этих граждан шайкой мошенников.
Определенно, новой секте не дано было исправить нравы. Для чистки общества нужны были другие источники. Повсюду и во всем – неприличия в порядке вещей. Из грязи вышло множество парвеню[29], детей биржевого ажиотажа, спекуляций, аморальности. Они выставляют напоказ свои низменные привычки, свою безвкусную роскошь, свою комичную заносчивость. У Республики много паразитов. Недавно разбогатевшие стремятся подражать бывшим откупщикам и проявляют в этом изобретательность. Роялисты соперничают с республиканцами в распущенности, и все пытаются перещеголять друг друга в пороках и фривольности. Женская мода достигает верха неприличия. Распространяющаяся пародия на античность приводит к губительным результатам. «В подражании Олимпу, – говорили господа Гонкур, – неприличия настолько преуспевают, что дамы начинают приближаться к полной наготе. Постепенно платье спускается до шеи, а рукава укорачиваются до локтя, чтобы не возникло подозрения в некрасивости рук. Ну, а чтобы не быть обвиненной в лицемерии, платье открывают до плеч. Затем то же самое проделывают с ногами. Украшенйые драгоценными камнями браслеты обвивают щиколотки ног.
Лишь бриллиант достоин украшать
Те прелести, что ранит шерсть.
Золотые кольца надеты на пальцы ног». По прошествии некоторого времени отбрасывают как немодную и рубашку, говоря, что «рубашка обезображивает фигуру, надетая как мешок, и под ней природная красота теряет свою привлекательность и определенность под складками платья… Почти две тысячи лет женщины носили рубашки, это устарело».
Балы времен Директории были весьма своеобразными. Женщины приходили на них с обнаженной спиной, охотно позволяя вольность в поведении. Свидетель этих балов Роже де Парнес в своей книге «Директория. Записки щеголя» писал об экстравагантности костюмов некоторых модниц: «Что произошло? Кто эта женщина, чье поведение вызвало такой ропот? Подойдем поближе… Вокруг нее теснится толпа. Она голая? Не может быть! Подойдем еще ближе. Это достойно описания. Я вижу на ней легкие панталоны, похожие на знаменитые кожаные трико графа д’Артуа, которого поднимали четыре лакея и затем опускали прямо в штанины, чтобы избежать при одевании образования хотя бы единой складки. При раздевании его таким же образом поднимали вверх. Панталоны этой женщины были из шелка, но превосходили знаменитые штаны графа д’Артуа своим совершенным обтягиванием и были украшены браслетами; камзол был искусно вырезан, и под легкой газовой накидкой трепетали «сосуды материнства». Рубашка из тонкого батиста позволяла видеть ноги и бедра, перехваченные золотыми обручами с бриллиантами. Шумная толпа молодых людей окружила ее с радостными возгласами. Молодая бесстыдница, казалось, ничего не слышит, поглощенная своей смелой выходкой. У модницы осталось еще немного стыда, чтобы не сбросить последнюю прозрачную вуаль. Панталоны телесного цвета, плотно обтягивающие тело, будоражат воображение и позволяют видеть только красоту форм».
Нет ничего более губительного, чем эта мода, для которой нужно было бы солнце Греции, а французские Аспазии носят эти наряды в туман и изморозь европейских зим! Доктор Длессар утверждает, что в конце 1798 года по его наблюдениям с введения в моду прикрытой газом обнаженности юных девиц умерло больше, чем за сорок предыдущих лет. Но эта экстравагантная мода продлится не дольше существования секты теофилантропов. Поэт Панар рассказывает, что на последнем совете на Олимпе Венера восстала против слишком прозрачных костюмов:
Ничто не мешает взору ласкать
Все прелести женской земной красоты.
Лишь глазу приятно от той наготы,
Ей нечего сердцу сказать.
Женщины опять наденут рубашки, и приличия вернут свои права.
Понемногу все упорядочивалось, но как медленно и с каким трудом! Во вновь появившихся салонах звучат лишь насмешки, здесь собираются, чтобы осмеивать все и вся. В официальные круги стремятся втереться честолюбивые дворяне, и салоны изобилуют интриганами, спекулянтами, никчемными людьми, заискивающими перед всякой властью, какой бы она ни была. Салоны достаточно редки, зато хватает ресторанчиков, кафе, театров, благотворительных балов, общественных парков. В моде кафе Вери, балы у Ришелье, Тиволи, Марбефа, Ганноверский павильон, Фраскатти, и пестрое общество, собирающееся там, не мешает аристократам приходить туда и развлекаться. Родственники жертв не смущаются, встречаясь с палачами. Впрочем, к чему ненавидеть друг друга? Кто знает, не станут ли бывшие враги завтра союзниками? Ведь и у роялистов, и у якобинцев был один противник, который преследовал их поочередно! Победители и побежденные, изгонявшие и изгнанники оказываются лицом к лицу в одном контрдансе.
Представители старого режима с пылом отдаются развлечениям, но и не без некоторого страха. Кто смог бы пройти по площади Революции, не вспомнив об эшафоте? Разве не говорят, что на мостовой еще сохранились пятна крови? И разве не заставит вздрогнуть воспоминание о дне 18 фрюктидора, о депортации в Кайенн, бескровной гильотине, как говорили тогда? Напрасно парижанин старался все забыть. Уж слишком недавними были эти катастрофические события, чтобы не помнить их и не страшиться будущего. Оставшиеся в живых якобинцы открыли клуб при Манеже. Этот клуб уже не такой модный, как раньше, но он еще пугает, а голоса ораторов в нем звучат как похоронный звон. Чтобы уничтожить Республику, противники свободы, друзья будущей диктатуры позаботятся сослаться на красную опасность, красный признак. Не догадываясь ни о чем, все партии примут правила игры Бонапарта. Этот человек, околдовавший Францию не произнеся ни слова, убедит всех, что он спаситель и защитник всего мира. Все разрушится – останется только один человек. По мнению республиканцев, он только военный. Но если все устали от речей, то падки на победные реляции. И теперь парижскую республику больше интересуют берега Нила, нежели Сены. Тем больший интерес вызывают посылаемые Бонапартом доклады, чем реже они поступают из-за английских кораблей, стремящихся перехватить корабли Франции. Как говорила мадам де Сталь, «посланные из Каира письма, отданные в Александрии приказы о продвижении до руин Фив и границ Эфиопии, увеличивали славу этого невидимого теперь человека, но казавшегося издалека экстраординарным феноменом… С ловкостью воспользовавшись преклонением соотечественников перед воинской славой, Бонапарт заставил самолюбивых французов считать своими как его победы, так и его поражения. Он занял место в умах, которое по своей значимости принадлежало Революции, и его имя стало ассоциироваться с национальным чувством, которое возвеличивало Францию в глазах всего мира».
Особенно любопытно изучать инкубационный период диктатуры, ибо VII год прекрасно объясняет Париж времен консульства и империи. Сначала изменения произошли в нравах, затем – в политике. Странная это особенность: поочередное стремление парижан то к свободе вплоть до распущенности, то к порядку вплоть до абсолютизма. Этот непостоянный и непоследовательный народ становится почти без переходного периода то самым неуправляемым, то самым легким в управлении из всех народов мира. Все зависит от того, в какой стадии он находится: брожения или покоя. Когда он волнуется, он ломает все копья и все скипетры. Когда он в покое, он требует от своих хозяев только одного: охранять его сон.
Глава XXIII
ЖОЗЕФИНА ВО ВРЕМЯ ЕГИПЕТСКОЙ КАМПАНИИ
Мы только что бросили взгляд на Париж VII года. Посмотрим теперь, какое место в нем занимала мадам Бонапарт, ее родственники, друзья и общество, которым она там была окружена.
После прощания с мужем в Тулоне Жозефина не сразу возвратилась в Париж. Она побывала на водах в Пломбьер, где оставалась три месяца. Там с ней случилось несчастье. Обвалился балкон, на котором находилась она со своими знакомыми дамами. При падении она очень ушиблась, и несколько дней ее состояние внушало опасения. В Плом-бьере она получила первые известия о египетской экспедиции – начиная со взятия Мальты и кончая взятием Каира, – и из письма Бонапарта поняла, что она должна отказаться от поездки в эту далекую страну. Позднее она узнала, что фрегат «Помон», вернувшийся во Францию, на котором она хотела отплыть в Египет, был захвачен англичанами сразу же после выхода из Тулонского порта.
В конце сентября 1798 года Жозефина вернулась в Париж и купила поместье Мальмезон, расположенное рядом с поселком Рюэй. Она приобрела его за сто шестьдесят тысяч франков, которые были выплачены частично из ее приданого, частично из средств ее мужа, и провела в этом милом владении осень 1798 года, а также время с конца весны по начало осени 1799 года. Зимой она жила в Париже в своем маленьком особняке на улице Победы.
В этот период ее положение оставалось шатким. Не было известно, когда ее супруг вернется из Египта. Отъезжая, он сам сказал, что экспедиция может растянуться на пять или шесть лет, может быть, его одолевали в отношении жены сомнения и подозрения, разжигаемые Жозефом и Люсьеном, завидовавшие влиянию невестки их брата. Недоброжелатели и хулители Жозефины утверждали, что она была неверна своему мужу, но им не удалось доказать свои инсинуации. Впрочем, если нет публичного скандала, история не имеет права заглядывать в альков. Несмотря на все свое недоброжелательство, братья Бонапарта не смогли нанести ущерб репутации женщины, у которой вдали от мужа не было никого, кто бы мог защитить ее.
Мадам Ремюза в своих мемуарах рассказывает о визите, который она и ее мать, мадам де Верженн, нанесли Жозефине в Мальмезоне. «Мадам Бонапарт, – говорит она, – экспансивная по природе и даже часто немного несдержанная и откровенная, едва встретившись с моей матерью, тотчас же обрушила на нее массу признаний о своем отсутствующем муже, своих деверях, наконец, о многих людях, которые были нам абсолютно неизвестны. Была почти полная уверенность, что Бонапарт потерян для Франции, и поэтому с пренебрежением относились к его жене. Моя мать жалела ее. Мы оказали ей некоторую помощь, и она никогда не забывала об этом». Не ощутимо ли в этой речи недоброжелательное отношение к новому режиму и его представителям, так как лица старого режима от этого пренебрежения еще не освободились?
Светское общество уже не так бережно обращалось с мадам Бонапарт, как с другими представителями революции, и несколько иронично и с насмешкой относились к этой семье корсиканского дворянчика, которая при дворе Людовика XIV имела бы такой жалкий вид. Оно упрекало мадам Бонапарт в том, что она поддерживает отношения с такими женщинами, как мадам Талльен и членами Директории. Завсегдатаи маленького Коблентца без почтения относились даже к воинской славе, и те, кто должен был через несколько лет войти в дом императора, пока с пренебрежением говорили о республиканском генерале. Хоть победитель при Арколе и имел фанатичных поклонников, но у него были и безжалостные хулители. В момент его отъезда в египетскую экспедицию распространился следующий куплет:
Сколько богатства напрасно пропало,
Сколько же денег брошено в воду,
Сколько людей ступает в могилу,
Чтоб развенчать сумасброда.
Франция знает, что этот воин,
Нет и сомнения, был бы дороже он,
Славы достоин, если бы стоил
Всего, что в него родиной вложено.
От таких булавочных уколов очень страдала мадам Бонапарт, которую слишком уж заботило мнение остатков общества Сен-Жерменского предместья. Особенно она опасалась красивой и язвительной мадам де Контад, дочери и сестры господ де Буйе. «Все в ней было фантастическим, – говорила герцогиня д’Абранте по поводу этой великосветской львицы, недавно вернувшейся из эмиграции. – Она не была меланхоликом, ей, конечно, было далеко до этого, но, однако, никто не осмеливался бы смеяться в комнате, где находилась она, если бы она не подала этому пример. Примечательной была ненависть, которую она испытывала к Бонапарту. Она не соглашалась даже признавать его достоинства и положение. «Полно, – возражала она в ответ на слова моей матери обо всех его итальянских и египетских победах, – я бы сделала столько же. Одним лишь взглядом».
Послушаем еще герцогиню д’Абранте, передающую разговор, произошедший на балу в особняке Телюссон (на углу улицы Керютти, сегодня улица Лафитта).
– Кто эти две дамы? – спросила мадам де Дамас старого маркиза д’Отфор, который подавал ей руку.
– Как! Вы не узнаете виконтессу де Богарне! Это она со своей дочерью. Сейчас она мадам Бонапарт. О, посмотрите, вот свободное место рядом с ней. Пройдите туда, вы возобновите знакомство.
Вместо ответа мадам де Дамас так сильно потянула старого маркиза, что протащила его против воли в один из маленьких салонов, предшествовавших большой ротонде.
– Вы с ума сошли, – сказала она ему, когда они оказались в другой комнате. – Ничего себе, прекрасное место рядом с мадам Бонапарт! Эрнестина все же будет вынуждена познакомиться с ее дочерью! У вас кружится голова, маркиз!
– Право же, нет! Что, черт возьми, вы находите плохого в том, что Эрнестина познакомится с мадемуазель Ортанс де Богарне? Это прелестное создание. Она нежна и приятна.
– Что мне до этого? Я не желаю общаться с такими женщинами. Не люблю людей, которые бесчестят свое несчастье.
Маркиз д’Отфор пожал плечами и ничего не ответил.
Многие роялисты не могли простить Бонапарту ни 13 вандемьера, ни его косвенного участия в дне 18 фрюктидора, и упрекали Жозефину за ее дружбу с цареубийцами. Они находили, что ей, жене погибшего на гильотине, не пристало входить в подобные отношения, как по своему происхождению, так и по своим предкам, и что в ее действиях есть что-то от ренегатства. Впрочем, она утешалась тем, что другие, более дальновидные, предчувствуя ее будущий успех, старались окружить ее вниманием. С ней часто встречался маркиз де Коленкур и был ей хорошим советчиком. В салоне мадам де Пермон (матери будущей герцогини д’Абранте) она встречала всех тех, кто остался от старого светского общества Сен-Жерменского предместья, а также плеяду модных молодых людей, господ де Ноэй, де Монкальм, де Перигор, де Монтрон, де Растиньяк, де л’Эгль, де Монтегю, де ла Фейяд, де Сент-Олер.
Жозефина прекрасно смотрелась в этом аристократичном и элегантном обществе. Ей превосходно подходила парижская жизнь; она была ей по вкусу. Она любила балы, обеды, концерты, театры, удовольствия. Как истинная светская дама, она талантливо играла роль властительницы в кругу друзей и поклонников. Ее приемы по четвергам в особняке на улице Победы считались особенно престижными. Среди окружавших ее женщин можно было заметить графиню Фанни де Богарне, мадам Каффарелли, графиню д’Удто, мадам Андреосси и двух модных красавиц, оспаривавших пальму первенства, мадам Талльен и мадам Рено де Сен-Жан-д’Анжели. Не получившая систематического образования Жозефина имела довольно-таки смутные представления о литературе и с удовольствием окружала себя модными писателями и артистами. Именно у нее во время египетской экспедиции Бонапарта Легуве читал «Достоинство женщин», а Байи декламировал свою драму «Аббат шпаги». В ее салоне бывали Бернанден де Сен-Пьер, Дюси, Лемерсье, Жозеф Шенье, Меуль, Тальма, Вол ней, Андриекс, Пикар, Колин, д’Арлевиль, Баур-Лормьан, Александр Дюваль.
С Бонапартами Жозефина старалась быть дипломатичной. Она лавировала, скрывая свое недовольство и проявляя искусство и ловкость, чтобы открыто не поссориться ни с одним из членов этого семейства, довольно мстительного и проявляющего ревность к любому, кто мог бы иметь влияние на Наполеона. До своего отъезда он распорядился, чтобы его мать, братья и сестры подобающим образом были размещены в Париже. Несмотря на то, что он был моложе Жозефа, он считал себя главой семейства и стремился подчинить его своей воле.
В отсутствие Наполеона на его близких имела большое влияние его мать, мадам Летиция, родившаяся в Ливорно в 1750 году. Она еще сохраняла остатки былой редкостной красоты и была женщиной энергичной, наделенной властным характером и железной волей. Ее твердость доходила до упрямства, а экономность до жадности, когда дело касалось ее самой, но она была щедрой к бедным и расточительной по отношению к тем, кто приложил руку к славе ее сына Наполеона. Ее отличала внешняя холодность и внутренняя доброта. Сдержанность в обращении с людьми лишала ее всего того, что отличает тех, кого принято называть душой общества. Мадам Летиция была, что называется, античной римлянкой, и она, в отличие от современных женщин, не прощала Жозефине ни ее фривольного поведения, ни ее любви к расточительству и транжирству, ни ее чрезмерного увлечения туалетами. Ей хотелось бы видеть рядом с Наполеоном более серьезную и более экономную жену, и она сожалела о браке, который, по ее мнению, не дал счастья ее сыну.
Старший из детей мадам Летиции, Жозеф, был человеком честным, мягким по характеру, симпатичным, хорошо воспитанным, прямодушным, с учтивыми манерами и приятным открытым лицом. Родился он в 1768 году, а в 1794 году женился на богатой уроженке Марселя Мари-Жюли Клари. Он был обладателем значительного по тому времени состояния. После своего пребывания в Риме в качестве посла Франции он вернулся в Париж, прихватив с собой сестру своей жены Дезире Клари, молодую особу, на которой когда-то хотел жениться Наполеон. В то время она была в глубоком трауре после трагической гибели ее жениха генерала Дюфо, убитого в Риме почти у нее на глазах во время их бракосочетания. Погрустив несколько месяцев, она утешилась и 16 августа 1798 года вышла замуж за будущего короля Швеции Бернадотта.
Люсьен, родившийся в 1775 году, был самым юным депутатом в Совете Пятисот. Он обладал редким умом, получил солидное образование и отличался страстью к литературе. Он писал в прозе и стихах, стремясь прославиться во всем. Словоохотливый собеседник, «общавшийся» на «ты» с античной литературой, энергичный и с богатым воображением, он как нельзя лучше служил интересам Совета Пятисот и, очень способный, оказывал реальное и сильное влияние на своих коллег по Совету Пятисот, даже несмотря на свой юный возраст. Его считали республиканцем, он и был им на самом деле, и 18 брюмера он решил, что остается верным делу Революции. В 1794 году он исполнял скромную должность смотрителя склада в маленьком городке Прованса под названием Сен-Максимин, но с 1793 года называвшегося Маратон. Тогда он взял себе имя Брут. Гражданин Брут-Бонапарт – так называли будущего принца Канино, – воспылал сильными чувствами к прелестной и честной девушке Кристине Буайер, чей отец держал постоялый двор в Сен-Максимине. Только женившись на Кристине, Люсьен мог быть счастлив с ней, но этому противился Наполеон, резко настроенный против этого брака, который он расценивал как скандальный мезальянс. Но надо отдать должное мадам Люсьен Бонапарт. Будучи красивой и доброй, она быстро и легко освоилась в светском обществе и смогла занять свое место в лучших аристократических салонах.