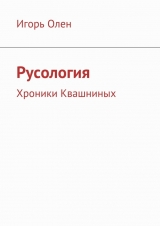
Текст книги "Русология (СИ)"
Автор книги: Игорь Оболенский
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Звонки в дверь...
Мать привела его. Я встречал гостя в кухне, стройного, сухощавого, в мешковатом костюме, в ёжике сивых волос, с веснушками, с оттопыренным ухом, с парой прищуренных умных глаз и – пахшего кардамоном. Он внёс букет, наш Марка, очень большой букет. Разместив цветы подле вербы, – дар ей от внука, – мать стала спрашивать:
– Гоша, как дела? Твоя мама как?
– Дышит. Счастлива.
– Ты не голоден?
– Нет. Мне в Чапово утром; я здесь в отеле снял на ночь номер... Съездил? – он улыбнулся мне.
– Возвратился.
– Чапово нам с окна видать, за полями, – встрял отец. – Ты у нас ночуй, Гоша.
– Но я с машиной. Впрочем... – И он уселся, вынув из кейса кажется 'Рейнское' да коньяк ещё ('Paul Giraud Tres Rare').
Вспоминали Восток, в/ч, истребительный полк, где отец мой нёс службу с его отцом, истребителем-лётчиком (вдруг разбившимся, похороненным средь иных обелисков с красными звёздами)... Но сперва, – мне одиннадцать, – мы приехали; и вергилием новых мест стал 'Марка', я же стал 'Квасом'. Там была Ника, нынче же-на моя, прежде девочка. Там по ложу камней, с неведома, шла река, вся прозрачная; рыбы висли, как в воздухе. Там сверкали поля, изумрудные в мае, жёлтые осенью и с китайскими фанзами. Ночь там жгли светлячки, день там застили махаоны. Красные сопки были в локаторах, в тиграх, в сцинках, в жэнь-шэнях... И там был грохот от истребителей. Там был рай, кой ещё не судили, не препарировали, не правили... Я косился на брáтину под цветочною вазой. Марка же допивал коньяк, раскрасневшись, и сеть морщин возле глаз разгладилась. Подкатив, Родион, мой брат, утянул с собой гостя – продефилировали колонной с песнями и с флажками красного цвета, как на параде.
– Голь одна, – возвратился он.
– Обокрали, – вёл отец тихо. – Жалко, ребятки. В вас мало главного – цели жить... Верно, чем живём? Что мы дали вам? Ничего мы не дали. А что могли дать? Жили мы партией, и она нас подрезала, как коса траву. Вечно бегали, куда плюнут... – Он, взяв бокал с вином, отпил и положил руку вновь на трость. – Жили попусту. Я учил тебя, Павлик? Ты любопытный был, спрашивал, что-зачем. Ничему я тебя не учил: то некогда, то усталый, то и не знал ответ. Вот ведь! Ты был живой, ты спрашивал. Я... я крепости нé дал, ибо пустой был сам... А что партия была? Фикция. Да-да, фикция, и корыстная.
Марка, локти в стол, слушал.
Рос призрак года, ставшего узловым в судьбе – не моей, но Союза. Я пошёл в пятый, кажется, класс, академик А. Сахаров – в диссиденты; в Новочеркасске бунты с расстрелом. Куба, ракеты, Кеннеди и Хрущёв-фигляр; мир ждал ядерной и последней бойни; кризис, Карибский... Маркин родитель в тот год разбился.
– Сигнализация... – услыхал я вой. – Марка!
Он, убедившись, что его 'ауди' в норме, выложил: – Михаил Александрович! Всё вы сделали, что могли. В чём истина? Сам Христос не знал. Что вы там нам недодали? Всё вы додали. Сын хотя б... Обокрали вас? Завтра с 'Sony' начнём, всё купим, вплоть до сервизов. Я обещаю... Купим! – Он махом выпил.
Мать с отцом вышли с болью, что он спивается.
– Ты б не пил, – укорил я.
Он, когда улеглись умывшись (я на кровать, он в кресле) и пробивался к нам свет сквозь тюль, начал:
– Как не пить? Потому что я делаю, что давно уже делалось. Было всё, Квас. Всё уже было. Тошно быть тысячной и стотысячной тенью от Авраама. Я – делец вечный, жид то есть вечный. Я не потомок в сотом колене после какого-то древнеримского плебса, но и не эллин. Я иудей... Не в этом суть. У меня, кстати, много сот лямов. Грабь меня, я не буду в убытке. Я умру рóтшильдом, и схоронят меня в эвкалиптовом склепе на Новодевичьем, под большим могендóвидом. Шёл я тут вслед за Родиком по квартире – и вник в историю: всё круги. А меж тем есть мысль, что история – самоцель. Библейская мысль, святая. Библия освятила историю? То есть – sic! – освятила деяния в первородном грехе? И, стало быть, вся история суть деяния в первородном грехе?! – Он выпил, взявши бутылку, что была рядом. – Но только 'святости' я не вижу. Вижу: как было – так и идёт. Мне проще: я народ Божий, я опекаем. Библия – мой житейник. Мир вообще – это мой мир, мир иудеев. Нам даже смерть проста: родились в Боге – в Бога и канем. Но наша слабость – в Экклезиасте. Знания тщетны, знал он. Стало быть, иудейские знания, глубочайшие, эталон тщеты?! – Марка фыркнул. – Миру – шесть тысяч лет, по-нашему. Христианскому ж миру – семь. Что значит? Что ваш мир древле? Как бы смирение паче гордости? Чтоб признать иудейского Яхве, но намекнуть притом, что есть нечто постарше? Вроде, что ваш Христос – не от Яхве? Вроде, не взялся Он от столь юного, как тот Яхве? Вот фишка русскости: что-то, мол, там, за Яхве. Здесь, мол, ваш Яхве, ну а до Яхве – там пусть вся правда. Вот она, русскость. Ваш Достоевский многого стоит... И я, Квас, маюсь сей 'Das Russentum' . Мне Яхве мало следом за вами. Ибо я вижу, что общепринятый добрый малый, альфа-самец, мужчина и супер-пупер вроде меня – ракалия. За началом бы высмотреть мне, за Библией! – Был глоток, стук бутылки. – Тренд сейчас, что грабёж – путь единственный для новейшей России для отнимания у сограждан на, дескать, бизнес, ведь при застое деньги брать негде. Общества, где таким трендам вольно, чтимы; ну, а где тесно – косные, догонять должны. Се идея, так уж придумали. Но замолчано, что конфеточность, когда добрые Абрамович с Рокфеллером или добрая Англия и прекрасные Штаты сильные оттого, что нищают народы, – эта конфеточность до поры. Надумают вдруг народы, что неконфеточно, чтоб они прозябали; что люди – братья; также что надобна liberté ! – смеялся он. – Вымыслят, что богатство греховно и что Христос тень Яхве, а Аллах высший; главное, после смерти лишь тление и что всё, значит, здесь, не где-то, – и учинят бунт новый, новый Октябрь. Вот русскость, или ИГИЛьство, или же кромвельство с робеспьерами, или гунны с вандалами, или Третий какой-нибудь вечный Рейх... Но я причём, иудей с завещанием, что всё к славе Израиля? я причём?! Что не делаю, чтоб не быть персонажем вечного кругового сценария, чтоб спрямить-таки цикл?.. Я в себе слышу нечто, Квас. Ели плод от эдемского змия, – врёт во мне нечто. Разум ваш тщетный, – врёт во мне нечто. Вам во кругах быть вечных повторов и рецидивов прежде избытого, в путах зла и добра, погубивших вас, обративших вас в зомби, – врёт во мне нечто. – Худо, друг. Пусть же истина, кою, мол, до Иеговы, родила ваша русскость, прянет – и сокрушит круги. Изрыгнём плод познания. Из грехов первородных – вон пора. Возрастёт моя падчерка в стерву рыночной этики, нарциссическая, надменная, коль богатая, пуп земли и окрестностей, – ну, и что? Это было. Всё это было... Спишь?
– Нет, не сплю. – Я следил в потолке свет уличных фонарей; и вспомнилось, что подаренный им букет скрыл вербы яркой цветистостью. – В кругосветку отправься, – бросил я. – Для экстрима.
– Нет, это прошлое...
Его 'ауди' взвыла, но мы не сдвинулись, мысля кошек, и вой действительно стих.
– Экстримом я сыт по горло, – вёл он. – Вся моя жизнь экстрим... Закурю, позволь... Как я первые деньги добыл? – Он, приподнявшись, взял сигареты, и спичка вспыхнула. – Карбамид впёр китайцам. Сделка опасная... Ты Хрипанова помнишь? Борьку? с нами учился? После военным стал и командовал пропускным границы. Дал мне Хрипанов взвод с лейтенантиком... Слушай, чтó там, до Яхве... – Алое выписало зигзаги. – Сделка хоть честная, но притом лейтенантику сказ быть бдительным и чуть что – пли их всех. А он молод, двадцать три годика... Бизнес сделали. Денег – сумки. В радостях выпили. Расплатился я. Сплю в каптёрке, и ночью чувствую, что кадык жжёт. Но изловчился – и уложил врага. Лейтенантик. С Борькой представили, что его в тайге урки... Деньги стащить хотел... Вспоминается вроде первой любви, прости. То есть я – или он. Я, видишь ли, уцелел, чтоб жить, по кругам ходить... – Он умолк, но спросил вдруг: – Ты заболел? Серьёзным?
– Марка, боюсь узнать.
Он курил, объявив потом: – У меня одно дело. Ты не поможешь?
VII
И он заснул вдруг.
Мне – мозг препятствовал. Вздор накатывал, рассыпался, но, собираясь, пёрся в анализ, в тягостный дискурс. Это Москва толклась с массой горестей, плюс и Квасовка. Предстояло работать, также к врачам идти и искать сыну школу... но, прежде, в паспорте заменив 'с' на 'ш', КваШниным стать. Что в нас в нехватке, что вымираем? Следует думать – качеств безнравственных, что доказывало бы... многое. Я нуждался не в выводах, а в среде без дум, где не может быть мук моих, раз нет мыслей о муках... А победителей ведь не судят: дескать, победы это дар Бога. Может, Адам ел с древа познания зла-добра по указке, – вроде как дар ему, – о чём просто умолчано? Лейтенантик, возможно, был Божий Промысел? А убийца лежит здесь, верный традиции 'зуб за зуб', или 'jus talionis'. Я бы вот маялся. А он – спит... Ну, и пусть спит. Мне факт без разницы. Ну, убил и убил; он ведь друг мой. Вдруг он не спал до сих, а с ума сходил и теперь лишь спит, исповедавшись? И коньяк его, может, – с горя?.. Вдуматься – вый-дет, что убийц больше, чем это кажется. Шмыгов, давший мне деньги, вдруг тоже кровь пускал? Сам я с пакостным непрестанным сном, что 'семи с половиною лет убил'-де? Сон во мне часто, сплю и вдруг вижу, что-де 'семи с половиною лет убил'; встаю в поту...
Злой инстинкт – мертвить – рыщет в нас, приучая к возможному... к директивному в человечестве! Не инстинкт, кстати, это – а это умысел жизнь не чтить. Убиение, дескать, истинно, нам внушает сей умысел; душам, дескать, ничто, если плоть убить; души вечные! Тут почтение вдруг к душе как к высшему – парадокс, упростивший смерть; плоть не значит, мол, коль в душе вся суть. От Адама, кто начал смерть первородным грехом, мы в Каине укрепили тренд и должны, как он, убивать, чтоб быть. Ибо мы в руце Господа, но и в самокоррекции, когда нас губит равный нам, находя оправдание в незаконченности, недоделанности, полу– (стало быть) фабрикатности нашей. В терминах это: 'вы-блядок', 'недо-делок', прочие 'недо-'. Наш Достоевский когда ещё: 'недоделанные', знал, 'пробные существа к насмешке'. Мы разделяемся на благих и злых, а конкретней: очень благих (и злых) и не очень благих (злых). Каждый миг мы в развитии. В каждый данный миг, заключаем, есть лишь один в лад Богу, самый продвинутый. От него и потомства, с ним и контачит Бог, ему манна и слава и честь Израиля. К миллиардам других 'недо-' нет интереса; варятся без догляда, ибо суть шлак. Поэтому не затем ли мы, 'недо-', взвинчены в тёрках с Богом и громоздим свой мир Ему в пику?.. В общем, пока Бог с избранным, с самым первым из развитых, апгрейдованных, ваньки варятся и не ведают, что они – не нужны. Истории отведён люд Бóгов, то есть Израиль, что б он ни делал.
Тут-то и трюк с Христом. Снизошёл-де Бог к ванькам, им обещал фавор, если будут с усердием жизнь в слова сводить, ибо Бог это Слово-де, а жизнь так, несуразица. Для чего ванькам надо молиться и грезить Словом где-нибудь в пýстыни, умерщвляя жизнь. Бог, лелея 'народ святой' (иудея-израиля) и ему вменив землю, прочим даст после. Есть 'народ избранный' – и весь прочий брак, что с Христом... Я плод Ветхой и Новой Книг, обращающих в муку, и, чтобы вырваться, нужно выбрать: либо я иудей (незваный), либо юродивый... Только, может быть, ничегошеньки нет? Пространственно-временная иллюзия? Нам показывают, а мы видим-де?.. Чушь! Мура! Мне бы думать, как заработать, – вот куда мысль слать... Ан, слать и некуда. Ничего нет. Есть лишь пространственно-временная иллюзия. Нам показывают, мы видим – вот трюк. Мы не в реальности, мы во лжи болтологии; и давно уже, с первородных грехов... Евангелье есть попытка отвлечь нас или убрать совсем – в пустословие. Холя избранных, Бог отверженным, нам, даст после, – там, в послежизни, мол. Бог внушает не лезть в историю, коя – избранным. Нам – синóпсисы (своды фактов): греческий, вавилонский, коммунистический... А что факты? Это суть прах один, хоть какой бери либо выдумай... И Христос, кстати, Сам признал, что пришёл ради избранных (Мф. 15, 24). Не про нас опять. Он в соблазн нам был, чтоб за Ним брели к мóрокам. Дескать, вам – как Израилю: ему Ветхий Завет – вам Новый. Только Евангелье опирать на преамбулу, где Израиль – 'род избранных'.
Друг мой спит, убив. Мой грех хуже, если я бодрствую... (Про 'отцовскую' он 'любовь' сказал, мальчик в Квасовке под ракитой?)... Дура Россия! Как обманулась! Вверилась, что сокровища в небе, что, дескать, честь-хвала нищей духом быть, кроткой, плачущей – вплоть до савана, кой начало блаженства. Запад иначе: там не пойдут с Христом, не устроив земного. Мы вымираем. Нам смертоносно мерить жизнь Библией; лишь в пустыню шагаем мы с ней. Смерть в Библии! иссякаем! Надо – в до-Бибельность, там ответ и жизнь в истине! Но вот как туда?..
Быстро утрело.
– Закурю? – молвил Марка, проснувшись, и, лёжа, вновь дымил.
– Ишь, история... – начал я. – Карамзин считал, что 'священная' и что 'зеркало бытия', 'скрижали'... даже 'завет'. Как думаешь?
Гость чесал переносицу ногтем. – Он мнил 'Историю гэ Российского' гидом русских, ваш Карамзин.
– А я б хотел, чтоб она стала Библией, – вёл я, – русских.
Марка, встав, потянулся. – Мыслишь 'Историю гэ Российского' образцовой? Не увлекайся. Это гимн власти, и ничто более. Всяк беги из такой страны. Не встречал ли ты, в свете этого, что в России от мысли до мысли тысячи вёрст? Нет рацио, нет анализа; чтят лубки, пошлый пафос, ширь растекания от Чукотки до Бреста... – взвизгнул он молнией дорогих своих брюк. – Россия... Мрак, сила, дыба, царство поверий, хроники деспотов и невежд... 'Скрижали'... Римский Калигула , что с конём в сенат, – мальчик рядом с Петром. И, помнится, Соловьёв писал, что страшился русской истории. Всюду гнёт: в философской Германии и в парламентской Англии, в той же Франции, говорливой, задиристой, – но там дискурсы, свет и тьма; у нас мрак, леность мысли и предрассудки вместе с холопством... – Он включил бритву. – Библия есть уже...
– Книга избранных?
– Да, Квас, избранных. Но читать может каждый.
– С пользою? – потянул я пуловер, грубый, с прорехою. – Дескать, вам как Израилю, но запомнить факт, что он – 'избранный', тот Израиль, ну, а вы 'недо-'?.. Здесь и споткнулась дура Россия. Слишком примкнула. Вверилась, что сокровища в небе, мол, и что надобно – нищим духом быть, кротким, плачущим вплоть до савана, кой начало блаженства. Запад иначе: там не пойдут с Христом, не устроив земного, – я повторился.
Он стоял с бритвой.
– Что я сказать хочу? То, что Библия не про нас, – развил я. – В ней специфичное иудейство; мы с нею вымрем. Всё, Марка, прочь её. Всё, была и проехали, как марксизм. Всё. Хватит.
Он водил бритвой. – Русской истории, – продолжал он, – лучше быть житием: Саровского, Гермогена, Сорского. Факты светские брать дозированно, в мере, чтоб дополняли дух. Представляешь... – Бритва жужжала, и он заканчивал: – Как читалось бы: Сергий Радонежский пришёл в Москву, где призвал всех быть чистыми и где правил Невесть-Кто. Именно! а не сто глав про князя с буквой о схимнике. Житие дай, подвиги духа, с тем, чтоб святые с пророками стали в ряд с Авраамом. Вышла бы Библия, – ну, почти что, – русского племени...
И меня вдруг ожгло. Представился не псалом в честь власти, сплошь беспорочной, вот как у нас днесь. Вспомнилось, что про Грозного Карамзин сказал, будто 'добрая' слава стёрла в нём злую, 'жертвы истлели' и он 'блистал' в Судебнике и в захваченных местностях. Славить изверга, ради гиблых идей прав власти гнуть и казнить жизнь – это у них. Нам – чистое житие дай русских, но и всех 'недо-': всех-всех отвергнутых современных и допотопных иевусеев, моавитян, хеттеев, всех, коих 'лучшие' били в Библии, но и бьют досель; ибо их мир, им мир от Господа, как написано: 'Я лишь вас признал из людей земли', 'вы народ святый Бога'. Пусть у Татищева, Соловьёва, Ключéвского фактология – у нас праведность. Не хвалить смену царств и власть мудрого реформатора, но вскрыть истину в маскарадах дней.
Мы отход, отбраковка; мы вне истории, каковая израиля, где мы есмь подражанием. И Адам – не наш предок; мы от инакого. Языка у нас нет, лишь термины, ибо истый язык как музыка, вроде ^#^r^#^^^^^ #^r^#^╫^^^#^# +^^^^^#^=^=^#^# ^^=0^^0 trrrrrrrь... И, конкретнее, мир вообще не наш; нам лишь тяжкое дважды два в лоб. Кстати здесь о Минхéровиче 'Великом'. Дáшкова, – не Дашкóва (кем-то замечено, швах у нас и с ударными, а не то что с грамматикой; нам конец почти, если даже просодия нам ничто, скоро будем писать, как слышим), – Дáшкова помнила, что Минхéрович всех 'топтал', все маялись 'тиранией'. Вот о попытках стать как израиль в нашей России. Где путь к спасению?
Видя Марку, кончившего бритьё, и собственную щетину, я усомнился: всё ли так, как сужу? Или я отлучаюсь сим от житейских забот, смирения перед жребием, от всего, что и есть юдоль без затей расчленять её на фантазмы и данность? Дискурсы в принципе прекращать пора! Буду всё понимать, как принято в однозначном, явственном мире. Избранные в нём – бриты или с щетиною типа 'элеганс'. Пусть в моём хламье шика нет, но, взяв маркину бритву, кою он не отправил в кейс, я стал, бреясь, планировать, как попасть из бед в 'элеганс', где жрут мясо, делают деньги и, чванясь роскошью, корректируются Молаховым либо Ксюшею, быдловодами, 'инженерами душ и плоти'. Чем жив герой их, преуспевающий, обречённый денежным средствам, свите фанатов и поклонению? А герой такой должен видеть лишь данность в качестве истины и цедить афоризмы в духе реальности, вроде: будь поциничней, и всем понравишься; или: если хреново, будет совсем хрень. Как бы с насмешкой... В зеркале, за изрезанным бритвой сумрачным фэйсом с тягостным носом, с пятнами под глазами, я видел Марку.
– Врут они, – крыл я тех, в кои только что норовил, – трепóлоги! Глянь их: щерятся, в безупречных костюмах. Где, блеют, тульский кузнец с башмачником, вологодский крестьянин? Надо, мол, вкалывать, подымать страну... Жутко врут, как привыкли, с прежних партийных мест подскакав к буржуазным кормушкам с этой в них блядскостью! Мы в душе, дескать, верные коммунизму, но реалисты. Коль буржуазный строй – что ж, готовы, мол, вместе с вами жить в этом строе... Приспособленцы учат опять как жить: куй себе на прокорм, холоп, а мы будем учить, как жить! Они в возрасте и устроены; им желательно доживать без бунтов. О, им не нужно, чтобы додумались до решительных вывертов! Я читал: борзописец из бывших, нынче издатель, гаркал, что не выносит, если кто думает, то есть ценит не данность, – это его слова, – а 'какие-то мысли'. Мыслить не модно; как бы домыслились до всех счастий. Стоп, народ, люби рынок! Он в меня, то есть, чтивами, он трактует мир! Сам я мир не пойму, – он мне мир в своём трёпе даст, я лишь вкалывай, чтоб купить чтив о 'Бешеном' и в нём мир постичь – чисто подлинный, как он есть, с вожделением и с пальбой! и с долларом! – я кричал для одетого гостя и добривался. – Думают, что, как им, – нам бы жрать, трахать баб и деньгой хрустеть. Презирают наш путь и ценности, Марка, выблядки этой схемы, этой библейской власть-баксы-ебля! Гонят нас в деньги, где они главные, и в их мир потребления... – Я прервал и признался вдруг: – И я вынужден... Да, я мыслю! Да, есть вопросы, я не боюсь спросить! Пусть ответит Бог, чтоб не сдох я в неведеньи! Или что, мыслить гибельно?
Марка щурился. – Ты уж очень... Мир примитивней. На-до... – двинул он пальцами, – релакснуться, мозг отдохнёт пускай. Да, ты спрашивай... Но мысль рушит, Квас. Не хватало, чтоб... Я сопьюсь, – улыбнулся он, – с нуворишами, кто деньжат набрал и рыгает от счастья. Хватит мне смерти... И твоей маме... Всё. Прекращай страдать. Стоп пляс мыслей, Квас! – И он вышел из комнаты.
'Стоп пляс мыслей'? Значит, ты тоже, Брут?
Все, все против идей моих! Мне сменить восприятие? перестать мыслить так, как прежде? А значит как тогда? Ладно Библии и её поучениям? Нет, о ней я сказал... Но как тогда? Нам выносят мозг детективами, научая победам в 'истинном и единственном' мире, где предназначено, чтобы Зло вечно гнало Добро в виде Женского Тела (Денежного Мешка ли). Славный Герой же, ищущий правды, вынужден рыться в грязном белье, где, пачкаясь, вдруг находит Добро, естественно в виде Женского Тела (Денежного Мешка ли), кои он, вычистив, водружает на место и удаляется в благонравное, чуть брутальное пьянство – реминисцировать об утратах. Женское же роскошное Тело и Мешок Денег горестно плачут, ведать не ведая, что Герою кайф, в общем, лишь в садо-мазо. Суть детектива вся в Женском Теле и в Мешке Денег, что алчем с мыслями: у нас нет, у него, гада, есть они, но он медлит, гад, цапнуть и жить в довольстве! Вот должный образ 'нравственной' мысли.
Я вышел к завтраку. Через стол пил чай Марка. Мать, пока жарилось, обращалась к нам.
Она замужем оказалась вдруг, где удобства вовне, топка углем и деревом, привозная вода, ну а комната – лишь кровать вместить. Надо печь разжечь, слить помои, мыться из ковшика и стирать в тазу. В заблуждениях о недвижности времени, о твердыне любви и безмерности молодых ещё сил своих, мать мечтала о светлом, радостном будущем, но любила иное, чем её муж. Мать путала в нём стать с цельностью, молчаливость с упорством, нервность с энергией. Гарнизоны закончатся, ей казалось, и генерал Кваснин увезёт её в город, в разносторонность, в шик и устроенность, в мир огней, телефонов, саун, театров, где её старший сын (Кваснин Павел) вырастет в духе нужд, разрешающих жизнь иначе, чем, – то в снегу, то в дождях и в туманах, – взлётные полосы, нравы воинства, истребители, не дающие жить возвышенным... Чином муж не блеснул, увы... После брат мой, увечный... он надорвал её: помню спор, где отцу предлагалось выйти в отставку, чтобы убраться с мест радиации; он молчал в ответ. Мать уехала... целовала нас возвратившись... хаживал чин, жуировал... До сих пор мать надеется, что под видом сутулого, волосатого старца некто иной совсем – сильный, властный, решительный. Мать любя, я всегда был с отцом, с предрассудками относительно рода, чтобы он выдержал (он сражался с ней изнутри себя; мать была Далилá по сути, и он не стригся, это почуяв; есть что-то в женщине!). Так я брёл с ним до пропасти, где попятился, ведь меня ждали сын и жена моя, но и мать, что кляла родовое достоинство, поминая боярство в шутках. брáтину мы таили; вдруг донёсли бы? Пусть не любила мать 'мёртвый этот серебряный экзерсис' (цитата), глуму добавилось в девяностые: Родион болел, я страдал от недуга и появился второй мой сын – ну, а брáтина чтилась идолом, патримонием, вместо чтобы продать её, хоть за тысячу долларов... Передача прав от отца ко мне есть её дело, явно. Мать была дамой, что замечалась и восхищала; в ней сила с волею.
Сели завтракать; и вкатившийся Родион тёр глаза, шепча, что в лицо 'муравьи ползут'. Ночь меня завела, я нервничал. Я всегда летел на огонь чувств жадно; и что я жив – загадка, вспомнить стрелялки, экскурсы по химическим складам, плаванья на плотах в смерч, рейды по чащам. Позже я чувств искал во влюблённостях, в философиях, не ценя той реальности, где имел своё тело. Но для чего я был? Для чего будет сын мой (и для чего был первенец?). Я налил чай. Разом боль вскинулась; стало маетно, как в тумане. Я выбрел в ванную, охладиться, слыша, что к Родиону вроде бы врач пришёл. Увлажнив лицо, я вернулся. Но Марки не было (впрочем, как и врача) ни в комнатах, ни на кухне: вышел курить, мол.
– Тягостно... Понедельник, Бог ищет казнь принять... – ляпнул я.
Мать молчала.
Взялся вдруг Марка в матовом, длиннополом пальто, с еврейским сметливым взором. В детстве он звал меня 'гой', но тщетно, я был терпимым.
– Клавдия Николаевна, вижу вас – воскрешается юность! Помните, как вы пели нам, в шестьдесят, вроде, третьем? Я представлял вас феею.
– А не маму?
– Клавдия Николаевна, embarras de richesses: затруднение от богатого выбора.
– Гоша! – вспыхнула мать, между тем как он вёл:
– Здесь, в Чапово, я завод веду. Повод видеться, чтоб помочь вам. Как я люблю вас... Всех! – И он вышел, чтоб переборами скрытых пулами ног стечь лестницей и стоять потом, поджидая меня.
Мы щурились с ним от солнца, блещущего на 'ауди', и он ткнул зажигалку в угол рта к сигарете. Я уже видел сдутые шины с воткнутыми гвоздиками из цветного пергамента, ведь живые увяли бы в стылом воздухе.
Я сказал, что Кадольск хулиганист.
– Нет, здесь намеренно, – опроверг он. – Что ж, я попуткой. С этой я после... – И он курил-стоял, озирая железного белоснежного зверя с маркой из связанных в ряд колец.
Взвыл шлягер, и от соседнего, справа, дома чья-то 'шестёрка' брила нас фарами. Сквозь кусты и снега, с сигаретой в опущенной, на отлёте, руке своей, он пошёл туда скорым шагом. Фары попятилась. Он вернулся, вытащил из шин стебли.
Двинулись на стоянку, где моя 'нива'.
– Выследили... – вёл он. – Я заметал следы... Помнишь, ты заезжал ко мне? от Закваскина был детина с намёками? То есть начали?
И я вспомнил.
Я вспомнил джип с тем хамом, кто спрашивал на 'М-2' съезд к Чапово и Кадольску – и, странным образом, прибыл в Квасовку... Давят Марку? То есть не джип, а типы в нём? Факты звали в реальность. Зло подсекло меня. Возникала задача, чтоб в ней участвовать, при условии, что Закваскин московский будет и квасовский. Нелюдимый, не приобретший дружб, исключая знакомства, я, долговязого и смешного обличья, – если б не рост, мне б тыкали и юнцы, – нелепый, я в нужный час, как в сказке, стал в нужном месте. Съезжу вновь в Квасовку убедиться (ясно же, исподволь), что Закваскин московский и тамошний суть одно, сойдусь с ним (там нас лишь трое) и помирю их. Пусть он и хам, Закваскин, – но будет лучше, если ровесники кончат 'драчки', как изъясняются, и не будут давить друг друга. Мы не юнцы дурить.
– В Чапово! – сел в 'ниву' Марка. – В Чапово. У меня там завод. И встреча. – Пóлы он подобрал сев, чтобы не пачкались. Мне привычная, Марке грязь в авто вчуже; он позабыл её и стал снобом, в честь чего, верно, пах кардамоном, самой изысканной из всех пряностью. – В общем, – вёл он, как ехали за Кадольском вдоль речки Мóча в льдах и сугробах, – я не курить исчез, а ждал доктора. Объясни своим, что платить впредь не надо; я заплатил за всё, лет на пять вперёд. Врач теперь вам обязан.
– Марка, спасибо. Но ты не должен... Так не положено.
– Мы друзья, Квас?
– Без достоевщины, – я ответил.
– А достоевщина, – он курил, – это жизнь без моральных игрищ и трюков. То есть подспудное – вон давай. Или дрянь душа, как сейчас, когда гнут её? Вздор душа? Душу прячут, где ни возьми; мол, этика. На работе, в искусстве, в мысли и в чувствах – рамки и порции. На Давида, на статую, надевают подштанники. Маскируются части тел в кинокадрах. Ну, а 'Джоконда'? Что мне в ней надобно? Я б взглянуть хотел, как она оправляется; речь её не вульгарна ли, стоит рот раскрыть? Не тщеславен ли и не глуп сей перл? Может, явной Джоконде было привычней пить и ругаться. Вот что мне нужно, кроме улыбки этой Джоконды, кою мир славит. Всю её нужно!.. Дозы в искусстве, порции в жизни... А Достоевский всё пёр наружу: мерзость в морали – но ведь брильянт живой. Кроме Фёдор Михалыча, кто вот так в жизнь за истиной? Жизнь нельзя кромсать... Глянь пейзаж, – оглядел он деревню, что поползла обочь, и сказал странным голосом: – Кто б спросил меня: что с тобой? Но не спросят. Все, Квас, таятся... Что между нами? Ты не обязан мне. Ты о деньги споткнулся? Деньги – стена, так?
– Кто не споткнулся? – я объявил. – Мы – ладно. Сам Бог споткнулся. 'Сикль' сперва, после 'кесарю кесарево'. Вспомнил? То или – или, то компромиссы...
Что-то не так со мной. Я гнал психику, а она меня грызла... Знак непригодности для меня детектива как стиля жизни? Я что ж, не мачо, грубый, рассудочный, верный ценностям мира с сиклем на троне? Мне длить мой дискурс?.. Либо, напротив, зло – в изоляции, если даже и Марка, клявший 'пляс мыслей', час спустя сетует, что не может приблизиться, что – 'стена' и препоны меж нами?.. Необъективно. Я не могу быть всему виной. Это он не в себе с его просьбой приблизиться... А к чему? к его деньгам? Он, в меру циник, скрытничал больше. Мы, по мне, в самый раз близки. Марка хочет рублём в меня – тем, в чём я вяз действительно, распознав в деньгах страшное. Он рублём выбьет брешь во мне, чтоб втащить свои гéморы? То, что рвёт его, – мнит в меня? То бишь, я, сам истерзанный, получу ещё новый гнёт? Без того лейтенантик, кой был убит им, жжёт меня. Труп в Маньчжурии отыскал кров в некоем Кваснине, ха!.. Я причём? Чтó за тыщи вёрст меня мучает, если быть должно, где его кто-то помнит? Или же нет таких и он ладит в меня?! Я – Христос сострадать душе, убиенной корыстью?! Фиг, не желаю! О, я напротив зол лейтенантиком, что тягчит боль о том во мне, кто пусть мёртв, но любим мной...
Я глянул в снежную и холмистую ширь под солнцем. Нет, я не выдержу. Пусть идут к чертям с их проблемами. Погубляя их, Марку с жертвой, я произнёс:
– Стоп исповедь.
Он смолчал, но увидел, что я боюсь его. Мер содеянного я не чувствовал и не вник, чтó значила отворённая в меня дверь, которую я закрыл. Нет, стать спина к спине я готов. Однако же, слыша слёзные 'друг, я всё тебе!', я не верил, чувствуя клюкву. Всё вам никто не даст, о важнейшем не просят, это константа дружб... Я не понял: он в тот миг не себя, а меня спасал, углядев во мне бездну... В общем, я ехал; рядом был спутник, ставший мне 'кент', стариннейший, – но не друг в полной мере.
Чапово прежде был показательным кластером 'коммунизма': комплекс коттеджиков, магазин, баня, клуб, маслобойный завод, коровники, сыроваренный и колбасный цех – спектр затей под станки, что купили за доллары за границею. Иностранцам являли рай для колхозников, созидающих рай питания из того, что везли из упрятанных в дальней грязной глуши бедных, серых деревнюшек. Год гайдаровский лак содрал, в девяносто втором покатилось всё к пропасти. Пока бились за собственность, Марка встрял с пряным делом, выкупив два фасовочных (итальянских) конвейера. За аренду платил он в колхозную, а потом в ТОО-вскую, а потом в ОАО-вскую кассу, также директору ломанувших к стяжанию бизнес-форм сего Чапово. Грузы с перцами, кардамоном, лавром, имбирем, цедрой, гвоздикой и многим прочим здесь фасовались и отправлялись в Москву на склад, в тот же Л. переулок (там маркин офис) и на Ходынскую, где столовые, торги, лавки, пекарни, кухни и частники разбирали их. Но потом разбирать товар стали также отсюда, с этого Чапово. От зари до зари трясся пряный конвейер с именем '1-ый Пряный Завод Г. Маркина'. Фирмы 'Щёлк', 'Агроэкспорт', 'Спайс' и 'Гвоздичка' с ним конкурентили; флагман был всё же маркинский '1-ый Пряный...' Думали, что таинственный 'Маркин' – вождь революции. Благонравный бренд.








