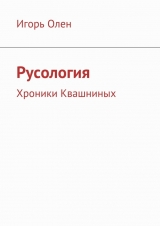
Текст книги "Русология (СИ)"
Автор книги: Игорь Оболенский
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Наш котелок был в пламени.
– Нарекли хлеб тот манной, белой, медовой, – сказал я, – сладостной.
Хрустнул шаг. С топором, в длинной светлой фуфайке, в светлой папахе выбрел Закваскин, буркнув насупленно:
– Пламя пáлите? Упредил бы. Мне что, легко ходить? Потому как ответственность. Гришка твой бы ни в жизнь, пьянь... Вижу, огонь жгут. Кто?.. – Пнув сушняк у костра, он прошёл топорищем ткнуть в ствол ракиты. – Вот дрова, коль свалить её. Только как поднять к дому?.. Будет, пойду. Сын явится, а я с вами тут...
Я молчал. Разговор он устраивал с дознаванием выгод, что представлял я имуществом, остающимся в доме. Если я сообщал ему, где что спрятал, по возвращеньи не находил схрон. Вдруг он сейчас ко мне?.. Я смотрел вслед и думал: что во мне ноет и не уходит с ним? Он ударил в ракиту – это ли? Он наметил срубить её?
– Пап, кипит.
В котелок я добавил чистого снега.
– Варим из белого, – подытожил сын. – Манка белая, ивы белые, белый снег, белый сахар... Пап, будет сладко?
– Да, – обещал я, видя, что, от удара ли, от огня ли, буква 'М' стёрлась. Но я подкрашу.
Как-нибудь...
Стало радостней; настроение вмиг улучшилось; ипостась моей ломаной и никчёмной судьбы обретала здесь цельность. Здесь пока я отец, не утративший чад моих; здесь отрадное прошлое, когда я был здоров ещё и трудился в лингвистике; и когда Родион, мой брат, был нормальнее, а жена моя – пресчастливая мать была; и когда мой другой сын видел наш сад в цвету, слушал птиц; мы чинили с ним крышу, крыли полы, белили; вечером мы спускались к раките, пела кукушка... Может быть, этот дом его счастье – дом, где теперь варю им двоим одну кашу, мёртвому и живому... Понял я: в той бездумности, с коей прибыл я, есть резон: бегство в место, где я был счастлив. (Здесь потом на снегу поздней ночью в искрах от пламени был зачат и второй мой сын). Мне нигде не быть с первенцем, пишущим на раките 'Митя и Папа'; мне с ним лишь здесь быть, около Лохны.
В варево я влил мёду. Ели... 'Напузившегося', на сленге, осоловелого, я тропой, затвердевшей, ломлющей ноги, позже отнёс его в дом, в постель... При луне уже, вновь спустился к раките, к угольям, багровеющим тускло... Всё, вроде, прежнее – но я стал вдруг чужой снегам с плеском речки под ивами, стынущими в свой праздник. Я развёл пламя; темень попятилась.
Он приблизился.
'Ты, сынок?'
'Папа'.
'Я не додумался, где ты'.
'Я здесь всегда'.
'Здесь?'
'Помнишь, вы уезжали, 'нива' работала, дом был заперт, вы меня звали, но не могли найти. Я был здесь и мечтал, как я делаю от ракиты к дому вверх лестницу, и она вся из мрамора'.
'Ты в Чечне тогда...' – я пихнул головню.
'Да. Резали пальцы и посылали, чтобы ты выкупил. Про отцовскую толковали любовь; мол, выкупишь. Но я знал, что нет денег... Пап, расскажи, как в детстве'.
'Хочешь про масти?..' – Я повёл об игреневой, о гнедой и караковой, о соловой, мухортой и изабелловой... Было сладостно, и костёр мой дымил в луну. В Лохне тихо плыл бобр... Надорвал тишь голос двухрядки: то Заговеев выл про три 'муромские сосны'; под праздник он часто пел.
'Я... Прости, сынок...'
'Папа, не за что'.
'Хочешь в дом?'
'Нет, могу только здесь'.
Он здесь...
И я обнял ракиту.
VI брáтина
Я ушёл на рассвете, ясном, холодном, как предыдущие. Сердце ныло – я оставлял его там, внизу. Скарб отнёс Заговееву, что сидел в обветшалом белье под тулупом около тополя во дворе на телеге: чубчик он ровно, ладно подрезал, выглядел лучше, если бы не глаз с похмелья, красный и мутный. Он вынимал курить; его руки тряслись. Мерин стыл вблизи, куры бегали; овцы сбились у хлева; хрюкали свиньи. Ископыть не сминалась, ставши как гнейс в морозе.
– С праздником, – обронил я.
– А и тебя, Мих... – Он вдруг закашлялся. – Выворачивает... Злой кашель... Пел я, Михайлович, спать мешал? Волоки вещи внутрь! – понеслось мне вслед, заходившему в дом с баулом. – Как не пить, не попеть? Распоследние дни досужие! Там назём возить, после пахота, да покос с пастьбой, да сорняк с жуком... Хоть, к примеру, блоху взять! И колорадский!! С виду пригожий!! Но не натурой... – сбавил крик Заговеев, так как я вышел. – Не было; он стал с Брежнева. Прежде взрослый жук, и личинки. Банками обираешь их в солнцепёк – он снова... Он из жары, что ль?
– Всё из энергии.
– Жрёт ботву... Хорошо, сын – Мишатка мой – помогает. Мне в зной несносно. Он, мой Мишатка-то, сорока нет, – дома игрушки; маленький в их играл, Мишатка... В Флавском он. А завод их не дышит, он там как мастер. Спонсера ищут, чтоб, значит, денег дал... Во как! Спонсер им... – И старик, вздохнув, почесал ступню, скинув валенок. – Чтобы спонсер им денег дал, а они бы украли? Я ему, что он лучше бы бизьнес вёл, закупал мясцо; не то ферму взял. А Мишатка мне, что ему не дадут: весь рынок, деньги и связи тут у чеченов и у богатых. Дело, мол, сложное – скот сбывать. Чем кормить, отвечает, если поля у их? При заводе – почёт как мастеру... – Заговеев качнул ступни. – Пальцы чтой-то не ходят. Думаю, к смерти... – Он отшвырнул бычок. – Смерть у всех, что ж. А вот как с мерином? Доброезжий, хоть боязливый. Он куда?
Я смотрел: ни в морщинистой шее, ни в редком волосе с детским чубчиком, ни в мозолях натруженных рук его, ни в покатых плечах и ни даже в глазах, красных с водки, смертного не было.
– А назад когда? – Он запахивался в тулуп.
– Бог весть когда.
Я таил, что Москва мне скучна, напрасна, – именно со вчера, как впало, что не могу быть в Квасовке, а потом, с этой ночи, что и без Квасовки не могу, лишь здесь мне жить, что я здесь и живу, вдруг, по-настоящему, в полноте и свободе, как неутратный... И я пошёл к себе по-над поймой, часто косясь вниз, где было мёртво, где не дымил костёр, близ какого сидели мы, где ивняк и ракита лишь серебрились. Там был мой первенец, и он звал меня, звал годами, я же не слышал... Может, и стрелки, что с потолка, знак: дуй туда! – а я, олух, не рою снег, не ворочаю камни, пусть там мне счастье... Склоном в снегах вдали лезла фура к ферме Магнатика. Скоро Пасха, скоро конец постам, он решил сбыть убоину?.. Сын сидел уже в 'ниве'. Я задержался. В доме я глянул в потные окна, что будут медленно остывать без нас, тронул печку, взял карабин, с ним вышел.
– Ну, пап, поехали!
– Нет, забыли... – Что – я не помнил. – О! Вербу бабушке и для мамы. Тоша, иди нарежь... Постилали одежды, дабы Он шёл по ним; а другие, сламывая ветви, клали. Богу осанна! Славятся в Господе! Он вошёл в Град восцарствовать! Аллилуйя! Я подожду. Иди.
– Вместе!
– Я подожду.
– 'Осанна' значит, пап, что?
– Спасение.
Это я вниз ('отцовская, – где-то ныло, – любовь'?) хотел. Да, хотел, но – его послал, чувствуя, что, уйдя, не вернусь, как знать... Впрочем, я уже весь там, возле ракиты и у золы в снегах. Сев за руль, я мчал памятью в строках писем от предка: '...о матерьял в 'Труды'... есть свидетельство нам дарёная... братина от Вел. Князя... в помощь мне ключница из наперсниц в Бозе почившей... – Здесь я помедлил, и потому что вдруг яростный гуд возник, и затем, что, стремясь к нужным фактам, выискал этот: – ...сколь раб в начальницах, Фёклу кличут Закваскина, в роде чуть Квашнина, читай... – и дальнейшее: – Мы селили селения... израстания... по названью 'Сад Квашниных' тож...'
Гуд рос надпойменною дорогой; воздух вибрировал. Я прикрыл дверцу 'нивы', длить ритмы памяти: 'Лохна сузилась десяти сажень подле Квасовки, очевидно по вербам, в коих есть пристань, – каменна, поизмыта водою, сникнувшей, так что стал скотский выгон... Новый брег уж заросший... пристаньку учинили близ водных струй... лодчонки, в коих я плаваю, соревнуя пейзаж... украшивать, но сочтя красу не заимствовать, а старанием из себя творить, ибо чуждое суть пародии, как бы мы иноземцы, то я не саживал италийских пальм, но ракитку, что власно дух слезит...'
Да, 'ракитку' – ту, что внизу сейчас.
Гул сотряс меня, и я вылез. Через Закваскина с Заговеевым, а точней, их подворья, виделось: прёт бульдозер, кой отгребал снег. Сын мой примчался вскоре с лозинами.
– Папа, что гремит?
Я устроил его на магнатиков снежный вал, чтоб глянул, как ярко крашенная в желть масса, влезши на выступ (Квасовский выступ меж двух разлогов), двинулась до моей территории. Тракторист спрыгнул к джипу, к чёрному... 'Шевроле', нет? Толком не видно.
'Нива' взревела. Сын припустил ко мне. И поехали.
Ветер встречный, солнце сияет, склон слепит снегом... Вон перепёлки. Ибо 'весна идёт...' Прибывает день; из снегов и морозов выбьется мир в цветах, в соловьях, в благовониях... Нас вело в колеях из льда; шины взвизгнули... В заднем виде исчез сперва дом наш, после и лиственницы у дома.
– Пап, а какие есть джипы? Ну, по названиям? – На плече взялась варежка.
– 'Нива' джип.
– Пап, и всё?
Я назвал. А он слушал.
И я подумал вдруг, что пристрастие к звукам в нём – от меня, остывавшего к смыслам, склонного к донному, к интонации; в ней есть то, что глубинней слов. Потому-то словами, понял я, не без умысла говорит с нами велий Бог-Слово, он же Бог-Логос, – чтобы скрыть главное. Истина – в музыке. Общего у мелодии и у логоса нет; пара дружит насильно, как самец с самкой. Сын любит звуки, он музыкален, и слововязь ему как смычок для играния на невидимой истине.
– 'Хондэ-гэллопер', 'форд-эксплойер' и 'гранд-чероки', – я продолжал, – ещё 'мерседес икс триста', 'хаммер-пи-ди', 'хайлэндеры...'
– Самый лучший какой?
– Пусть 'хаммер': шесть пять десятых, климат-контроль, – ответил я, – эй би эс и лебёдка, чтобы вытаскивать, коль завязнет; турбонаддув притом.
Я дал газу. Грязью и щебнем выбрались мы с полей в снегу к межрайонке.
– 'Шевроле' сильная?
– Да.
– Пап, ехали из Москвы, сломались, ты чинил 'ниву'. Джип тот нас спрашивал... Он тебя ещё 'малый' звал. Номер шесть, шесть и шесть. Джип видел? Ну, этот в Квасовке? Это он ведь! Он почему здесь? А, пап? Не знаешь?
Глянув приборы, я удивился, что мало топлива.
– Говоришь, он сюда, джип? – бросил я (три шестёрки... тот, что мне встретился? Пассажир его – сын Закваскина?).
Справа Лохна, видная с горки, коей мы ехали, предлежала подъёму в склон, на каком мы тряслись вчера в заговеевских розвальнях (чтоб потом, возвращаясь, я лёг близ свалки). Там и мелькал теперь тот бульдозер. Мы были рядом с ним – и вот врозь... На мосту через Лохну, что подсекла асфальт, распрощался я с Квасовкой, в водах черпая не офорты улиц, в кои въезжали, но – дом с ракитой. Ехал я в то, увы, что, скопив тревог, приведёт меня вновь сюда. Сквозь кошмар вый-ти к цели – мне предстояло. Я катил во враждебный мир, в вавилон на семи холмах, и, чтоб свыкнуться, отвлекал себя внешним. Флавск... Постоялый двор Квасовки, её как бы приёмная, вот что Флавск, если вдуматься... Квасофлавск... Много здесь, тьма имён, начиная с квашнинских: были здесь и цари-императоры, и подвижники 'духа' (здесь Толстой продал рощу). Сей рубеж, квасофлавский, – не географии, но культуры. Кем-то заявлено, что Россия не Запад, но, одновременно, не Восток, – а мы мост между ними или род базы, где бы коней сменить (самолёты заправить) да поохотиться (взять трофеи). Среднее. Никакое. Смутное. Русским нужен не ум, не знания (солженицынская 'образóванщина'), не опыт. Нужен нам – 'русский нрав', по Витте. Мы для всех нечто, склонное то в расчисленность, то в нирванность. Впали мы в качку с Запада на Восток и, путаясь, забрели в бардак, что нас травит 'идеями'. Квасофлавск та среда, где все смыслы мрут. Вместо них брезжит истина. Впрочем, это – догадки. Нужен анализ... Но отчего же здесь русскости несть числа? Здесь Квашнин осел; а спустя уймы лет здесь и я шарю корни, чувствуя не восточность и западность, но спасительный третий путь... Мост мне был – Рубикон. Проехал – и ты в России, прянувшей к жизненосным сосцам Европы (или к повапленным выделительным органам?). От Москвы поотвыкший, я слушал радио и катил 'М-2' с засыпающим и заснувшим вскорости мальчиком.
Теннис...
Траур продолжен, только сегодня официально объявленные потери всей операции составляют...
Он, блин, не рэпер! Кто? А попса он!.. Да, так рифмуется; вот Кай Харчев, можно и к этому подобрать, но сложно, хоть неизвестно, что это модно: тут, если все сочтут, что крутяк, то...
Спорт всегда...
Интерсевис – Россия! туры на пять, семь, двадцать дней! Лондон стоит – тысяча сто уе! Горнолыжные Альпы – тысяча триста! Гоа – две тысячи!! Куршевель... Куршевель...
Президент сказал...
Вслед за взрывом в Печатниках, дом пятнадцать, был взрыв в Беляево, на руинах работает пост пожарных и эмчеэс... трагедия... список жертв достигает... в том числе пять...
...омоновцев; вся кампания обойдётся в пять миллиардов, но не рублей, естественно, а война лишь в начале...
С ЛЭП были срезаны шестьдесят тысяч метров и...
Что я думаю? Власть забыла нас, одиночек без мужа, мой доход равен двести пять долларов; как, вам нравится? нам зарплату не платят больше полгода, и мы бастуем, нас обзывают, всяко грозят нам... мне воровать идти, что ли?..
Ельцин относится к словоблудам-политикам...
Нет, куда-а смотрит школа! девчонку не узнать! фанаты рок-н-ролла! хотят с ней танцева-ать!
О спорте...
Взрывы жилых домов и в Москве, и в Буйнакске связаны...
Но чиновник, спецпредставитель в ООН, признал, что утечка финансов – сто миллиардов...
Стала призёром евросезона...
И юбиляру от фортепьянного мастера... с монограммой из золота... первой красной дорожкой шла на места VIP-персон дочь французского президента, следом принц Чарльз... бомонд...
Каратэ, финал, Путин любит...
...посланы в жопу. Всё, что мы создали, власть сыскала и поделила по своим родичам, а вот нас, создавал кто, власть не находит...
Взрывы, унёсшие триста жизней...
В теннисе...
Видел Ангела, говорящего громким голосом: горе вам! мене текел...
Свалка с убитыми... находили фрагменты... были и дети...
Серотонин – juice счастья...
Ксюша звезда, её блоги как путь во тьме! Ксюша – то, чем всем нужно быть...
Вы поймите: эти законы, взять силы тяжести, смерти, – строятся на незыблемом дважды два есть четыре, вечно четыре... Тут ведь АНАНКЕ – необходимость, бог философии. Дважды два – это так же незыблемо, как и факт, что никто из смеющихся здесь персон через сто лет не будет громко смеяться...
Да, пять тысяч семьсот сто десятый год мира по иудейскому...
Спорт – ты жизнь! Оспортивим страну, ура! Оболваним люд!
Расколбас... Главно, денюжки заколачивать, лучше доллары...
Королева Испании, принц Монако, принц Лихтенштейна, и из Голландии две принцессы... а из России были: Рушковы, Чушкин, Барыгис, Хрюшко-Наганов, Жанна Диченко, Ксюша Сочоксель, Эзра Дашиев, Птецкая, Болингброк – вот несколько из имён...
Корысть кругом...
Ясновидящая, на прибыль, дёшево!
Все валькирии тенниса...
Под блатные мелодии, из творцов коих Макс Кодлошинский... сам из Америки, но работает здесь, в России... здесь спрос на пошлость...
Бабское есть не Женское, заявляет нам Кристева...
В целом, триллеры, также женский роман...
Догхантеры убивают собак, жгут кошек. Жизнь презирается...
Я, наслушавшись радио, стал к обочине и, пройдя в лес, обнял осину. И ради этого, что я слышал, жрал Адам плод познания? И вот в это я еду?! Господи, царствуй! власть Тебе! Но, возможно, и нет, не знаю. Я ведь не вопль ста тысяч. Даже и сотен. Даже десятков. Я лишь один воплю, а все счастливы, все покорствуют дважды два есть четыре. Я в одиночестве среди радостных! Только я дитё первородных грехов, отпрыск зла и добра! Ведь велено, чтоб от древа познания не вкушали; то есть не нам решать, в чём добро и в чём зло. Вдруг мнимое злым есть благо, а что добро – вдруг худо? Но, если счастливы все таким бытием, – что ж, рай вокруг и лишь я, кто отведал плод, маюсь? Так, что ли, Господи? Мне любить Твоих агнцев и не судить о них? Мне любить Твой мир?
(Как: 'отцовская', мол, 'любовь', – вёл первенец у ракиты?). Я побрёл к 'ниве'. Сын мой позёвывал.
– Где мы, пап?
Мы в Московии, где леса громоздятся с жёлтыми в мочевине сугробами вдоль шумливой 'М-2'.
Выл стартер, двигатель кашлял... Я отвалил капот. Пахло. Бензонасос, оказалось, сочил вовсю, так как рыск индикатора я заметил давно, у Квасовки. Я заткнул дыру. Бак пустой, близок вечер. Нужно шесть литров, и денег не было. Мчали, брызгая таяньем, что текло с 'М-2', агнцы Божии. Только я стоял, тварь запретного плода, ведавший зло с добром. Я боялся их. Я, преемник греха в раю, был заблудшая немощь, вроде червя в воде и беззубой гиены. Выдать не знающим, в чём 'добро', а в чём 'зло', опасно, так как пропасть могу. Слышал я, что в развалинах дома, что подорвали, раненных грабили отречённые от познания зла-добра и невинные агнцы Божии...
Не желаю в участники райских игрищ. Боже, спаси мя!
Пачкало стёкла и завихреньями сотрясало, мазало грязью левый бок 'нивы'. Транспорт летел к Москве. Я прищурился солнцу, ползшему книзу, чтоб, крытый мокрядью, оглушаемый рёвом, с вздетой рукою, стыть долговязостью, устремив взор в блистание, что стекало с заснеженной полосы меж курсов к югу и к северу.
Задержался 'жигуль'.
– Пожалуйста, литров шесть. Нет денег.
– Чё ты стоишь тада?
Он уехал.
Солнце склонялось. Я чуть подвинулся, чтоб по-прежнему ослеплять себя блеском вод от асфальта. Сделавшись грязным, я жевал губы, сплёвывал мокрядью. Тормознув, 'ЗИЛ' дождался, чтоб я приблизился.
– Литров шесть. Но нет денег, есть инструмент взамен.
Он захлопнул дверь.
Я влез в 'ниву', чтобы согреться, но тепла не было. Я отчаялся.
– Папа? – Сын меня обнял.
Кто он, мой отпрыск? Будущий нуль, как я? маргинал? Или станет князь мира? Путь присуждён давно; тщетно бьётся любовь моя уберечь его от опасностей. Я бессилен, слеп, немощен, не умею жить.
– Ты замёрз, сынок? – Я смотрел на приборы. – Ты мне поможешь? Нету бензина, нету и денег. Нужно добыть их. Я и надумал... Выход есть. Поиграй-ка на флейте. Мы б заработали.
– Я боюсь туда... Нет! Стоять? И там грязь... И не слышно, пап, флейты. Я не хочу, пап!
– В Квасовке ты помог мне. Выручи снова. Мы не уедем, нам нужны деньги.
Он с флейтой вылез. Я, повернув руль, вытолкнул 'ниву', – так, чтобы, выставив, отводить от обочины (от него то есть) трафик. И запасное я откатил в тыл с тою же целью. Сел потом, но с раскрытою дверцей, ноги наружу. Сын стоял между мной и откаченным диском. А исполнял он – то, что я сам, да и едущий, не расслышал бы. Вихрь трепал полы заячьей шубки... Я ему чужд стал, выгнавший в ужас с яростным шумом, с промельком множеств, с хлёсткою влагой, с сумрачным холодом. Он играл, боясь глянуть в транспортный хаос, медленно пятясь. Это страшней, чем когда он брёл в Квасовку, ведь сейчас он не ведал путь, проходимый сквозь страхи, – как и не ведал, кто человек вблизи, обрекающий страхам. Он играл долго; дали десятку; и я вернул его в 'ниву', думая: 'Сходно ты, Бог, Адама!..' Тряского обмотав его курткой, я начал сам дрожать.
'Форд' вдруг взял меня на буксир без просьбы. Я нечувствительно поводил рулём и следил за натянутым тросом. Час спустя, оплатив мне бак на ближайшей заправке, 'форд' испарился. Мне не догнать его, и едва ли мы встретимся; вдруг это ангел? Я обнял сына.
– Пап, не бросай меня, – я услышал.
Я обнимал его – и погибшего первого, кто надеялся, что отец всемогущ.
Как жить? Почему Бог дал глупость лишь размножаться, мудростью же любить – обнёс? Как сделано, что сей мир есть страдания, где отец и мать обряжают плод в саван? Что, за Адама месть? Первородный-де грех? Бог правит нас? Но Он может взмахнуть перстом – и в момент беды сгинут. Или Он бросил нас, вникших в 'зло' с 'добром'? Чаша полнится... Бог, пребудь со мной! Или, всё-таки, не до всех Тебе дело? Может, Ты не рассчитывал на нас всех, Бог избранных, говорят иудеи? И наши беды вдруг – к счастью избранным?
Мысли комкались. Я полез к рулю.
Спорт, ты жизнь...
Погрузили русь в немощь, продали доллару...
День за днём в шоу Сирия, Украина, США и Европа... а про РФ когда, бабаяны толстовские, также оркины и иной блаблаж? Что за жизнь пошла?
Авиация контролирует перевалы с дорогами...
Мы, бывает, проснёмся и не в ту степь пошло. Будет, нет? Успокойтесь. Хоть у нас вечно вдруг, но вот здесь мы, товарищи, не свернём, нет... Спите спокойно, чтобы нельзя нас...
Жесть!
На волнах нашей станции хит великой, очаровательной даны блямс: без тебя нет меня, беспокоэшься зряа, потеряйся в снах, улэбнись в ответ, я с тобой я твояа...
Жизнь в розовом цвете? Ксюша Сочокс покрасилась, и её стали лайкать...
Φεύγωμεν δή φίλην είς πατρίδα...
Прыгая с места я отрываюсь метр шестьдесят в футболе...
Вы, друг, в бордель с утра чтоб отделаться?
Мы о спорте макс тарабаров... Все фаны спорта с нищей зарплатой и патриоты, вот мечта власти.
Снятся богини, сочные груди, крепкие бёдра; всё это радостно, усладительно, щедро...
Текел и фарес... #раковых и сердечно-сосудистых... алкоголь и убийства... дом в волгодонске тоже был взорван... раненных с жертвы... акции... расчленил садист... медицинских и... #господа берестовский нескольким... быть должны арестованы... быдломода... он уже торкнул... и миллиард из них на других счетах... дар славянской тоски... футбол... без воды, как насос сгорел, а куда ж пять старух с рождественки? все кто слышит нас!.. #юбиляр поздравления... весь культурный мир... фонд составил... маг-друид в экстремальных депрессии и инсультах, счастье на бизнес и управление... интернешнл!.. Спорт ты жизнь!.. Выйти замуж – для образованных, но пока не нашедших свой... А кредит и коллекторы... #К вам игил идёт... на спортивном... пятый у форбса... маленький птычка, я его шпарил и в хвост и в грив, вах, он мнэ лайк в личку, я – вах! – красыв... Мексиканского, что с кавказским акцентом... тысяча первую сериала брат... был до старости... ты зачем ни с чем... тарабаров... центр орды перетёк в москву... некасаемый кирдяков&висульева... бала-бала! мне очень мала, н@х... лера вульвина и пиздон беллетристов... всякие книги, кроме книг гениев, – стопроцентно из общих мест, потому всем понятны. 'Как интересно!' – так мыслят массы, слушая, видя копии своих вкусов, правил, масштабов, и наплевать на факт, что расхожее гнусно, гнусно смердит, вонь низкого пристаёт к нему... бала-бала, ба! я приду без стука, не спасёт засов, я приду в час духов и мохнатых сов... не хожу боровик здесь розов... всякие... в душном скурвенном городе не в москве гламур... #в голове лишь два слова первое а второе я руссоистка но почему тогда!.. сикль и бакс... сикль как шекель... да, деньги главное... из себя хайер клёвый чтобы тащились все ты не нуль если ты ещё глюки с разные крейзи, я еду чатить будет террор один... а курс доллара... и коррупция... а ещё и нацгвардия, чтоб прокручивать деньги... Φεύγωμεν δή φίλην είς πατρίδα... Следуем в дорогое отечество... мене, текел... #яхты рублёвка, сиськи, газгольдеры, рэп особенно... М. Царапова. М. Царапова... Все валькирии тенниса, также Ксюша Сочокс, дом два это русский тип двести лет спустя...
Я стремился сквозь хохоты, сексуальные выкрики и трепню о стяжании – и мне чудилось, что я нужен, что я с какой-то важною целью в падшем отечестве, что я в нём пригожусь...
Приехали... Вновь Кадольск, вновь стоянка, где оставляю дряхлую 'ниву'... дверь в подъезд... тьма пролётов, точно шагаю вверх до того, как унижен реформами, до того, как издал свои дискурсы о герульском/гепидском. И до того ещё, как в ином дому, давнем, я нёсся к Нике, чтобы обнять её... (Или, может быть, вслед за тем, как умер, чтоб не шагать по лестнице до и после, ибо всё кончилось?).
Нас встречали.
– Ы! Телевизор! – требовал Родик, сорокалетний и сумасшедший, сходно увечный, мой брат, с коляски. Он был в слезах и красен.
– Павел, потом поймёшь, – объявила мать, гладя внука, бурно вещавшего: 'Праздник, Вербное! Это ива! Взяли у Лохны! Баба, а где халва?'
Появился отец из комнаты – и унёс своё длинное исхудалое тело.
Позже, за ужином, он сел боком, руки на трость причём, с бородатым, пророческим, византийским лицом. Кормили нас не с сервиза (то есть с фарфора), а с нержавейки, с памятным, правда, оттиском 'Нерж', – том самом, что мне казался, в детских фантазиях, городом за высокою, белоснежной стеной в чащобах. В парусных стругах, в красных и синих торбах из бархата, звонких в тряске, Нерж доставляет грузы к пакгаузу; и несут их в вагоны, и отправляют их к нам в удел, скучный, пасмурный... Нерж навеян был Китежем плюс обёртками от кондитерки в их славянистом имидже. Всякий раз я, увидев 'Нерж' и забыв 'нержавеющий', грежу городом с древним добрым царём в бармах. Мои дети, каждый в свой час, расспрашивали о 'Нерже'; я привирал им.
Мать была в синем в блёстках халате, сын хороводился, а отец, опершись на трость, трогал чай чайной ложечкой.
– Что там с Квасовкой?
– Хорошо.
Сын играл с динозавром, скачущим пó столу. – Выдай масти, пап, лошадиные!
– Нас ограбили, – произнёс отец. – Унесли сервиз, телевизор.
Знали бы, что теряем и Квасовку, что их внук зарабатывал на бензин в пути и что я чуть не сдох на свалке.
– Я, – вёл отец, – жил честно... Но ненормальны мы, невпопад мы... Я, Павел, нас спасал... – Он вдруг поднял взгляд. – Я спасал нас подменою 'ша' на 'эс', и влезая в мундир потом, чтоб – 'товарищ майор', без имени. Я весь стёр себя, отдал им Квашнина, стал винтик. Не было места, где был собою, – всё-всё казённое, коллективное, стадно-общее, как им нравится. Хоть на пенсии, чаял, выпрямлюсь, превращусь в себя. Мыслил пенсию цензом воли... Хлам я жалею? Нет! – прокричал он. – В душу мне влезли, грязь внесли! Доказали, что здесь опять их власть и что я проходной коридор им, сделавшим скверну из моей Родины! Да, вот так, сынок.
Я прошёлся. Срезана люстра, недорогая и, в общем, блёклая; но я жил при пяти её лампах, вставленных в псевдолилии. След в обоях был от ковров, их сняли. Но и за стёклами чешской стенки, прежде с сервизом, – пусто. Лишь книжный шкаф не тронут (книг не читают), как и диван-кровать, кресла, стол и настенное бра, плюс эхо – чадо пустот... Бог властно напомнил нам нашу малость, так же как жителям с ул. Гурьянова и в Помпеях.
Мать гладила льнувшего к ней урода, чьи мании отпечаталось на лице... Поправлюсь: был отпечаток загнанной под спуд психики. Чуя боль сознающей, что пленена, души, я подумал вдруг, что под спудом-то – изверг. Дýши и сделали всё вокруг – бытийно-культурный ужас. Дёрнувшись, брат погнал вон коляску, сбивши племянника, кой захныкал. Но не о сыне я вдруг подумал. 'Здесь она?' – возбудился я.
И отец принёс спрятанный в тряпках свёрток, сел за стол, стал разматывать тряпки, молча, сурово. Сын мой следил за ним.
Серебро в свету... брáтина.
Толстостенный жбан, круглый. Серебряные мор. коньки были ручками, под вид амфорных; изумрудные очи выпали, лишь один сверкал. Был поддон, окольцованный золотой тонкой лентой в крупных корундах, с надписью на церковно-славянском: 'День, иже створи Бог, взрадуем, взвеселимся в он, яко бог избавляет ны от врагов наш и покори враг под стопы нам, главы змиевы сокрушаи'. Выше был горельеф щитов и, в орнаментах да в сапфирах, лики святых – шесть ликов. Верхний край окольцован был золотом с гравировкою, что-де некогда, в леты давние, князь Василий Васильевич наградил Иоана, сына Ондрея, кто впредь 'Квашня бысть'. А завершалось – толстым серебряным нешироким кольцом в орнаментах. Крышки не было, лишь проушины для крепления. 'Удостоился братины ест серебряна с золочёною крышкаю, весу в оной пять фунт тридцать семь золотник, шубы турскага соболя, аще пуговиц золочёныи, да село со просёлок, да и сельца два, восемь деревни тож, ради крепость и верность...' – всплыло в цитате.
– Это твоё впредь, – вёл отец. – Ты давай и владей с сих пор. А я... всё.
– В ней чтоб фанту пить! – ляпнул в миг, в кой дрожала история, сын мой.
– Нет... – бормотал я. – Так не положено. Не ответственность, нет... – Я сбился. – Но... я ведь жил ею! Вы понимаете? Я никто, вошь... А с брáтиной как бы есть чем жить... Она больше нас и важней нас... В ней – символ русскости. Я никто... С нею... брáтина... это знак, что не зря живём. Для кого смыслы в деньгах, но для меня как раз, что есть брáтина и я с нею Квашнин. Традиции...
– Ты Квасснин! – уточнил сын.
– Павел, – изрек отец и ссутулился. Волос, длинный, отпущенный в те поры, как погиб его внук (мой первенец), вис с его головы. – Придётся. Я чересчур устал. – Он подталкивал древность к центру столешницы. – Будь Квашнин с сих пор... И ты, Клавдия, вдруг права? Толку в брáтине? Лишь металлы... Жизнь больше смыслов... В общем, впредь Павел пусть... Что ты хочешь, пусть он и делает; пусть хоть выбросит. Мне ничто... – Он увёл под стол ноги, чтоб, обхватив трость, ждать.
Сын позёвывал. Я отнёс его в комнату, где оправил детские губы лечащим кремом: он их обветрил. Я виноват был; я на проклятой той магистрали гнал в сыне детство – самое ценное, что есть истина и цвет жизни, даже и жизнь сама, ради коей, возможно, цвет вместе с истиной. Человечество не в ООН и не в РАН, уверен. Он, мой сын, человечество 'малых сих'. Я пытался стащить его в ил реальности. Потому ль дети портятся, что попытки, как моя, часты?.. Сын детски пах – пах раем. Выключив свет, я вышел.
– Паша, мне в туалет бы, – ждал меня у своей обворованной комнаты брат с брошюрой. – Паша, читай давай!
Я повлёк его из коляски, многажды чиненной. Он достиг унитаза; он был в испарине, охал.
– Паша! – просил он.
– 'Тезисы, – начал я из брошюры, – как звёзды в небе. Цифры горят, блистают и льют энергию, и от них пламенеет сердце и воля! Алы мартены. В зелень каналы в жарких пустынях. Золотом пышет юная озимь. Радугой льются лёгкие ткани. Цифры – конкретика идеалов. Что было сказкой – нынче реальность. В мифах прославлено царство разума. Это время пришло сейчас, и мечта стала явью! Твёрдо, решительно, под водительством партии, весь советский народ идёт по пути коммунизма – самого справедливого и гуманного в мире! '...
Так я читал. И чудилось, что в глазах его выбилось... не назвать что... нечто глубинное, то, что, вслушиваясь в посулы, будто им верит и собирается в яркий мир, к нам... Я читал громче. Здравицы обратились в овации... Блеск риторики, демагогия, фразы, лозунги, смыслы, догмы и тезы – всё верещало! Скрытое в брате как бы вовне пошло... Но я, вздумавши, что оно, это скрытое, сущность жуткая, как всё вольное абсолютно, вздрогнул в испуге... Тут же мне впало, что, изводя порок, Бог даёт его валом Библии, но про рай Свой, Царствие Божие, куда кличет всех, – ничего, исключая побаски. Я бежал в кухню.
Брáтина – на столешнице. А отец ник над тростью.
Мать, стройная до разубранной головы на шее, царственно восседала... В общем-то из простой семьи, она кончила Дальрыбвтуз (Приморье). Но, жена офицера, жившая в 'дырах', и мать увечного, не работала, а случалось – лишь в штабе, эпизодически. Где брала силы – тайна. Как несла красоту свою рядом с тихим подавленным мужем и с инвалидом? Как и зачем? Куда?! В Царство Божие? Ну, а как его нет совсем, Царства Божия? Вдруг она живёт раз лишь – и вот у финиша? Или мать – чтоб мне мучиться, поражаясь: как в лживой фикции, чем является мир наш, страждет красивая? Даже, значит, красивому, даже истине мучиться?.. Либо знак мне в ней, что рождён я не только профанным, но и подспудным, трансцендентальным?.. На фотографиях, – в плиссированных юбках и белых шляпках, – мать обольстительна. Про отца (я расспрашивал, всё понять хотел) говорила, он покорил её 'непонятно чем': высоченный и сдержанный, ворот сталинского мундира (а женихались полковники, капитаны торгфлота, ректоры)... 'Непонятно чем'... Может, схожестью? узнаваемой тайной? – предполагала и, пожимая плечом, итожила, что, в конце концов, 'суждено'.








