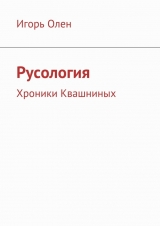
Текст книги "Русология (СИ)"
Автор книги: Игорь Оболенский
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Мы свернули к строениям; там стояли в ряд фуры с потными стёклами. Ослепляемый солнцем, я вылез в ветер, тянущий с поля. К Марке шёл невысокий, в куртке до пояса, смугловатистый человек. Тип в ватнике поспешал в припрыг от конторы под вывеской тоже к нам; вслед – толпа.
– Виноват, Андрей, – подал первому руку Марка. – Я припозднился... Мутин: охрана, сыск, безопасность... Павел Михайлович... – он представил нас.
Сыщик кашлянул. – Мы, Георгий Матвеевич, провинились. Мы виноваты; был ресурс избежать проблем. В оправдание сообщу, факт сложный, неоднозначный, нужно заметить... И, как бы ни было, – он подёрнул плечом, – мы действуем. Установлен заказчик. Кто – доложу вам. Наедине. Поймёте... Вы вольны разорвать контракт. Я, сказал, признаю вину...
Мы зашли в толпу лиц, телогреек, курток, галдевших: – Где товар?! Нам плевать!! Ёшкин-клёшкин, где ваш начальник? Мы со вчера тут! Я сам с Воронежа! Мы не спали! Деньги вертай, со штрафами! Да мы – в 'Спайс' отсель, в 'Агроэкспорт', там понадёжней!
Мутин водил плечом. Я оглох, задыхался от гари выхлопов фуры, в коей люд грелся. Марка извлёк курить.
– Утрясём. Я начальник, – тихо он начал: – Что шуметь? Будут скидки, траты оплатим. В Митрове... Митров как, Андрей?
– Укреплён. Самых опытных, чтоб вы знали.
– Мы вам из Митрова подвезём. Там цех у нас... – Марка ногтем скрёб переносицу. – Кто останется, сдайте Нилычу накладные для составления гензаявки в Митров. Всех завод приглашает в ноль-ноль четырнадцать отобедать в Кадольск, в харчевне. Вас отвезут.
– Лады тогда! – загудели.
– К вечеру вы загрýзитесь. А вы – 'Спайсы'... Всем быть во фраках! – бросил он под галдёж с улыбкой.
Цех был с конвейерами в одном конце и со складом – в другом. Так прежде – так и теперь под мощными и горящими лампами, но с бездействием всех станков средь луж и с оплывшей, в пенистой шапке, грудой товара. Через мобильный Марка звонил-стоял и смотрел на охранников, в чёрной форме верзил; у младшего кровь на лбу. Спрятав трубку, он, улыбаясь, ждал объяснений.
– Тут, – начал старший, чуть шевельнув рукой, – к четырём, кажись... Нет, к пяти... Значит, все уходили, то есть рабочие... Я не помню кто...
– Барабанов.
– Он сказал: иномарка. Я сразу выглянул: есть, ага. У ворот стоит. Все ушли, и я к ней пошёл. Мне качок тянет карточку: налогслужба, да с матюгами... Вдруг повыскакивали пять в масках... Ну, налогслужба ведь. Саня: кто с тобой! А я – 'органы'...
– Он: с налоговой! – начал младший. – Я и не знал, как быть. А назвали мой адрес, я и поверил. Пушку забрали, вмазали... и к трубе на наручниках; взяли лом, сбили кран, лили воду. Тут я допёр тогда.
– Знали адрес?
– А и не только, – выдавил старший. – И про детей моих.
– Ты их видел?
– Как мне их видеть? Маски ведь...
– Номер транспорта?
– Я не помню, – старший потупился.
– Главный, – вставил напарник, – он с наглой мордой. Склад поливали и по станкам ломьём, а он чипы бил у станков. Нарочно. Нас после Нилыч спас: он очки забыл да вернулся...
Мы прошли к блоку с выбитой секцией, под которой был мусор. Марка скомандовал, чтоб сырой товар разложили для сушки. Все заработали. Мы остались средь цеха, – я, Марка, Мутин, – полного скрежета. Лишь станки были мёртвые. Мы на них не смотрели. Марка беседовал, глядя вниз, куда стравливал носом дым сигареты.
– Я не виню бойцов. Угрожали, знали их адрес. Тут и любой смолчит... Значит, здесь в шесть ломают... в восемь – звонили мне от Закваскина. Я, как помните, – сразу вам, чтобы дочь с женой спрятали. Через час вы звонили, чтобы людей прислать, для охраны.
– Не получилось. Вас не нашли вчера. – Мутин вытащил файл со справками.
Марка выпустил дым под нос. – Я был с другом... Ну, так и что, Андрей?
– О Закваскине? Вот, тут всё, что нарыли, – тряс тот бумагой. – Вкратце досье его... Дело сложно. Рекомендации я вам выскажу.
– Квас, езжай, – Марка выложил. – Благодарен, что ты подвёз меня. Созвонимся. Ты будешь нужен.
Знаю, чем 'нужен'. Даст мне подстрочник, переведи, мол, после оплатит как за китайский либо за бáнту; купит ботинки, дескать, размер не тот и 'ногастому подфартило'. Только не он мне – я помогу ему, коль Закваскин тот самый. И, в силу этого, мне нужда слышать Мутина, все подробности, хотя кружится голова, жжёт внутренность. Потому я остался. Сыщик, или не знаю кто, пробежал по мне взглядом, но вряд ли выяснил, чтó я – квёлый хиляк, жердина, 'Павел Михайлович', 'друг' клиента. Я же угадывал, что я в центре события, ведь охранно-сыскное, в образе невысокого, в куртке, смуглого человека с именем 'Мутин', располагает только лишь справками. С первых слов его я тотчас успокоился относительно собственной роли, незаменимой, как представлялось.
– Эн Эн Закваскин, – Мутин читал для нас, – Николай Николаевич, Тульской области, сорок лет, проживает в Москве, бездетный. Рано в колонии... Дальше вновь разбой с отягчением, срок – шесть лет. По отбытии, в Магадане, в Ногликах и в Охе затем, занимался рыбацкими и другими делами с вором в законе, нынешним председателем ПэДэПэ, госдумцем, спикером фракции Львом Барыгисом, погоняло 'Барыга'. Эн Эн Закваскин – главный охранных ООО 'Витус' и управляющий рынков, гостиниц, дюжины моек, все в Подмосковье. Он был замечен в дерзкой активности в Чеховском и Кадольском этом вот округе, где наладил свой бизнес. Член ПэДэПэ – Прогрессивно-Дем. партии; член Цэ Ка ПэДэПэ, называемой 'крёстной матерью криминала'. Он привлекался в деле убийства мэра из Холмска, но был оправдан. Есть информация, что в партийной структуре, также в барыгисском частном бизнесе возглавляет бойцов. Пять дней назад ликвидировал президента 'Инкредит-банка'. Амбициозен, но, как я думаю, интеллектом не блещет, что, с концом войн за собственность, отставляет его на второй и на третий план в ПэДэПэ, побуждая спешить с освоением собственных бизнес-ниш. Говорят, друг Барыгиса... – Мутин спрятал файл в недра кожаной и короткой выцветшей куртки. – Что ещё? Агрессивен, фрукт девяностых. Также признáюсь вам... – Он смотрел в мою сторону.
– Вы, Андрей, – бросил Марка, – всё говорите. Нет тайн. Я слушаю.
Сыщик кашлянул. – Дело, собственно, не о вас идёт. А о нас, об охране. Мы подвели вас...
– Кайтесь.
Мутин темнел лицом. – Извините. Мы бесполезны вам; не про нас масштаб... – Он замялся. – Коротко: вам, Георгий Матвеевич, ставят мат. Барыгис либо Закваскин вас принуждают... Вы, кстати, бизнесом на Востоке кинули высший тамошний криминал, де-факто. Я о Корейце. Вы подчинитесь – либо убьют вас. Это им просто. Хватит средств замести след или устроить, чтобы не видели тот след службы, должные видеть. Мы не спасём вас. Наше – бандгруппы, гопники и залётные. А на вас – оргпреступность высшего ранга. Вы подчинитесь ей, либо вас найдут на шоссе, в кабинете или в квартире с дыркою от контрольного выстрела. Пострадал ваш завод. Следом будет воздействие на вас лично... или на дочь, мать, друга. – Он показал в меня скоком века. – Мафия... только деньги... Твари на всё идут... А потом этот рубль – в шалманы, чтобы увидели, до чего он крутой, магот! – взволновался вдруг сыщик.
– Вы от бессилия? – Марка вставил. – Вы горячитесь, словно не знаете, что так есть и так будет. Денег всегда хотят, кроме странных, как Павел, – он улыбнулся. – Вы, между прочим, денег хотите? Вы ведь из органов ради них ушли? Нет? Призвание? Проявите способности, если вам выпал случай. В органах вам мешала казёнщина, вероятно, коррупция – здесь что? власть уркагана? – Марка ощерился. – Помогите мне, помогите. Вы, знаю, профи. В руки рогатину – и мразь в пах, Андрей. Как, поможете? Без нотаций о тварях, целящих крыть меня. Ведь не вся ПэДэПэ наехала, не сиятельный Лев Барыгис, чтобы я сдался? Давит нас вошь. Почти вошь... – Марка склонился к уху молчавшего невысокого Мутина. – И поэтому он пускай, вас цитируя, где-то с дыркою от контрольного выстрела. А мы с вами мочой в него... Вы ведь в сыске, чтобы когда-нибудь завалить зло и чтобы ведать, что его нет впредь ни в ресторане, ни в казино, ни в бане, ни у путанок: и на Тверской нет, и на Арбате, и на Солянке. Да, нет Закваскина Николай Николаича! И вон в том 'мерседесе' больше не он летит. Ибо он с вашей пулей числится в морге. Ведь ради этого вы со мною? Нам ли, друг, маяться в юридических рамках и отступаться, если желается пнуть зло?
Тот бегал взорами... Я ж молчал, вызнав нужное, что Закваскин их – мой, из Квасовки, и что дело, судя по фактам, замысловато. Право бессильно, то есть инертно, как и всегда. Карт-бланш, волей случая, у меня. Зря планы, что не рассматривают роль Квасовки, точно... Мутин завёлся, дёргая курточным, с кобурою, плечом. Помедливши, потемнев лицом чуть малайского типа, он смутно начал:
– Я, раз так... Я, Георгий Матвеевич... Сколько раз, когда был ещё в органах... нет, срываются... Я вёл дело, вдруг обложили: стуки в дверь, на детей наезд. Из своих меня сдали... – Он убеждал себя, ущемлённого чем-то. – Их всех – рогатиной. В пах их!.. Но не решил притом... Словоблудия быть не может, если рассудим, вы да я, что все тысячи, наши люди, сто миллионов, ниже дерьма уже с их законными рамками, а дерьмо – в своём праве и управляет... Я понимаю вас – вас с рогатиной, отчего вы решились... Правильно. Если будет, как вы решили, – что же, не против... Но, – он закончил, – лучше терпеть. Советую. Им отстёгивать проще, чем воевать с ними...
Марка перечил: – Нет, друг, рогатиной! И прочь рамки. Что этим рамкам? Местный разрыв, Андрей. Нам же будет вдохнуть что: воздуха. Нам один только нужен, тот, переквашенный, волк в овчарне. Это реальный путь, и он стоит... Я миллион дам, американских. Ясно, не вам. Вам нужно? Нет, вам не нужно. Деньги – семье пойдут, вашим детям. Вам нужно, верю, видеть шваль мёртвой. Мы так и сделаем. По рукам, да? – И Марка сделал шаг, но с руками в карманах.
Сыщик нахохлился; по виску потёк пот. Расслышалось с лица тёмного: – Я обдумаю... Но пожму, в знак намерений. Другу вашему тоже...
Вслед за чем он исчез.
Он мнил убивать, не зная, что он не нужен вместе со всеми, сколько ни есть в нём, грёзами и идеями. Он из 'недо-'. Богу плевать в таких. Но он прав, соглашаясь 'за рамки', ибо мораль в нас, в 'недо-', то есть в отверженных, коих в общем и нет, смешна; в нас мораль – словно бич флагеллантам; только себя казним. Он гонял мысль за мыслью с попранным неподвижным Закваскиным и с горячим стволом в руке. Приоткрыв двери цеха, он посмотрел на нас – укрепить свои прихоти, обещавшие статус избранных – победительных, правых, праведных. Я почувствовал, он решил уже. И пресечь его не стремился, понял я, Тот, Кто 'свободою воли' как высшим даром скрыл бойкот ферезеев, русских, хеттеев, прочих отверженных. Он исчез за дверями. Я хотел, чтобы он, умерев в свой час, не полез в меня, этот сыщик, за лейтенантиком.
Марка был в оборот ко мне, в эксклюзивном пальто, с левой, прямо отставленной от бедра непреклонной рукой с чуть дымившею меж двух пальцев в ней сигаретой.
– 'Нынче призрю на вас, – вспомнил я, – и размножу. Я есмь ваш Бог с сих пор, а вы род Мой; вам побеждать врагов. Я Господь, Бог Израиля'... Мутин – новенький в мартиролог? – я усмехнулся. – Скольких ещё убьёшь?
– Бог весть, – вымолвил Марка. – Я исторический персонаж. Кто прочие – я не знаю. И не стремлюсь знать. Пусть не встревают. Я длю историю. Я творю её. Это участь израиля. И моя, значит, участь.
– Но им всем верится, что они творцы тоже.
– Нет, это я творю, а они только средство, даже и Кремль ваш... Мне нужна помощь, – вставил он. – На Востоке.
– Нет, прежде в Квасовку.
– Ладно... Мне хлопоты предстоят. Езжай давай. Нике кланяйся. Прилетят мои, посидим.
Я вышел. Вновь солнце, ветер, снег, фуры, люди, ждущие и ходящие, псы и голуби на асфальте, лес вдали... Есть Монмартр, Пикадилли, Токио – а я видел лишь это, жгущее чувствами колоссальнейших мер. О, Родина, моя Родина! Мне б в каморке пить горькую, чтоб запить тоску, потерявшись в громаде, что вобрала мой род к тайному, неподъёмному всякой нацией, непостижному, – да и нам непонятному, – ради коего мы ломаемся, чахнем, гибнем, так и не ведая, для чего, ибо нет у нас ни богатств, ни счастья; разве что в мае, лепящем кроткий русский наш рай, мы нежимся перед сумраком вьюг и слякотей в криках воронов средь пустых серых далей, чтобы и впредь хранить окаянные, словно вросшие в плоть безмерности для каких-то нечеловеческих перспектив. Вдруг Бог здесь сойдёт в Свой час?.. Невольные, бдим мы вверенный окоём, а рыпнемся – лишь творим разрушение как урок не бежать судьбы, но стоять вечной стражей, кличущей тщетно: что тебе, Родина, мать и мачеха?
...От осевшей до дисков маркинской 'ауди' я побрёл в магазин вблизи, куда долго, циклически, возил пряности – элитарный, непопулярный, но товар праздничный. При звучании: лавр, шафран, имбирь, стевия, – блещут призраки моря, пагоды в тропиках, смуглых ног незнакомки и, может, счастья. Я среди специй грезил здоровьем, выправкой кэпа чайного клипера, повернувшего судно в галфинд, грезил о знатности, гордой старости, о блистательных ужинах в Новой Англии или Выборге, о спокойствии и довольстве. Но не о дёрганном и замешанном хворью нищенском быте с вечной угрозой мук и несчастий.
Всё вело к моим подвигам.
'Этуаль' был ровесником моей фирмы. В мгле девяностых, изгнанный с лингвистических пажитей и ища, чем кормить семью, занялся я конфетами, утюгами, также РС-шками, серебром, красной ртутью etc., бывшим разве в бумагах и не принёсшим корысти, кроме терзаний. Вдруг – мысль о пряностях. 'Этуаль' был тогда 'Промтовары' с номером двадцать пять горторга; он, впав в угар реформ, растерялся, где добывать товар; он, как сотни других в стране, торговал всем на свете: яйцами, конфетти, розетками, клеем, скрипками – до поры, когда фабрики сдохли. Год ещё предлагал он ввозной хлам типа спирт 'Ройял'. Я же со 'специей' (совокупность коры, лепестков, рылец, листьев всяческой флоры) занял свободную, в общем, нишу, не приносящую сверхдоходов, но мне пригодную. Я вплыл в заводь, где не толклись рвачи, и отыскивал, сбывал пряности. Но найти товар и доставить стоило денег. Было, что на привычном некоем месте встретивши вакуум, я мчал в новое, чудом всплывшее и словчившее, чтоб в оплаченных мной пакетиках 'Перец чёрный горошком' был сбор черёмухи, а 'Мускатный орех' был жёлудем. Сдав товар в галопирующей инфляции, прибыль я снимал редко: то, скажем, банк исчез, то вдруг вместо 'Наташеньки' некий 'Стройинвест-главк'. Так жили мы: я с поставкою специй – и 'Этуаль', менявшийся из лебёдки совторг-коммерции в буржуазную утицу с банковским счётом и с возрастающей склонностью закупать товар дёшево, чему я, при большой конкуренции, отвечать впредь не мог. Зрел крах. 'Этуаль' всё имел со старта, всё, кроме навыков, кои он приобрёл-таки; у меня – моя 'нива' с вялым квашнинством как неумением оборачиваться (вообще быть), плюс тоска от синóпсиса, или нашей истории: от того, то бишь, что Бог знает один сюжет – не про нас.
Вот таков Кваснин: лез к реальности, в злобу дня – ан опять сумбур. А ведь нужен обкорнанный, однозначный Кваснин с идеей, где сыскать пропитание.
Дамы вешали рис, грамм в грамм. Глаз внимателен, и совок снимал лишнее, чек низался за чеком. Но, клянусь, в них – любовь, мысль нравиться, беспокойство о детях и порой промельк: что я такое? Хоть мне не кажется, что наш мир только воля, в лад Фихте-Юму (мол, пропади мозги – вмиг всему конец), но внутри что-то шепчет мне, что наш мир от понятий, кои рождает мозг, оттого в нём нет истины. И что правильней: сознавать или жить? – проблема.
– Нам нужно перцу, – вышла директор, рыжая, тридцати лет, с зеленью глаз. – Сто пачек. И желатина, двести... – Это она всё – мне.
– Желатин? Он не мой товар, – засмущался я и извлёк лист с ручкой. Путает меня с кем-то; ей все одно.
– Чей? Чеховских? Вы кто – пряности? Я забыла вас. – Она стукнула по прилавку крашеным ногтем. – Да, желатин ведь чеховских, а вы пряность... Всё записали? Так, и когда вас ждать?
– Деньги бы... ну, за старое, – намекнул я. – Сразу вам новое...
– Не распроданы, – прервала она, – ваш шафран и мускат с корицей. Это любителям; я сама обхожусь лишь перцами... Кстати, дорого. Желатин что привозят, могут дешевле, нам обещали... – О, она знала: я в её власти; я был единственным, но теперь, с фирмой в Чехове и с пройдошливым 'Спайсом', я не один, тем более спекулянт по сути. (Марка мне скидку дал, но я вёл с ним дела без скидок и, стремясь к суверенности, обращался и к прочим, даже и к многим). Я конкурировал, но, возможно, час прóбил. – Да-да, дешевле! – произнесла она. – Мы узнали: в Чапово фирма. Чапово ближе к нам... Вы оттуда? Можно дешевле?
– Хоть я оттуда, – врал я ей, – но у нас не всегда всё. Есть товар из других мест... Верно, дороже, но ведь мы как вам: без предоплаты, в ассортименте. Чехов не сможет так... – Я украсил свой вид ухмылкой: этакий дьявол бизнеса. – Мы вам разве руно не возим; в целом Кадольске только у вас все пряности. – Для солидности я упёрся в стёкла прилавка и наклонился к ней, позаимствовав мудрость Кáрнеги, что-де надо пленять людей. Стёкла треснули.
– Вы... вы что! – она охнула, дёрнув рыжей причёской. – Ну, точно маленький!! Что наделали?! Ведь стекло стоит много!!
К нам обернулись.
– Я... Извините... Я ненарочно...
– Ох! – завелась она. – Вы не знаете, что нельзя на витрину жать?! Это как же так?!.. В общем, перец не надо! Ваш перец дорог... Хватит, зачем нам? Вы нам возите лишь кардамон, шафран!
'Этуаль' был потерян. Мне отказали в прибыльных пряностях, а на редкостях, поставлявшихся пачек десять-пятнадцать (что, несмотря на то, нужно где-то найти-купить-транспортировать), не возьмёшь своё... Бизнес сдох. Я кивал... Но я знал, что не стану возить товар. Я подвинут был от кормушки; сходно недуг гнал с жизни. Слёз я не смог сдержать. У неё вдруг сел голос.
– Что вы не пишете? Кардамон пять, дальше, шафран пускай и имбирь и мускат пять пачек... ну, и бадьян с гвоздикой; и ванилину, пачек под сотню. – Явно смутившись, пробуя чёлку тонкими пальцами с обручальным кольцом, закончила: – Триста я вам найду дать... Хоть и не продано.
Мы пошли в кабинет, где сели. Рыжая ныла, чиркая ордер:
– Вы точно маленький, право слово. Слёзы? Зачем вы... Ладно, не вычтем... И... вы не очень. Спали с лица тотчас... Неприятности? У кого их нет! – Она в бланке строчила, чтобы и спрашивать, но и повода не давать решить, что беседуем как мужчина и женщина либо что ей действительно важен я, не ордер.
– Да, простудился. Мы... я на даче был... – стал я врать ей. – 'Нива' сломалась. Мне нужно денег. Но, о стекле, настаиваю – за мой счёт...
– Где ваша дача?
– Флавск, это город... Юг Тульской области.
– Флавск... А правильно я пишу? Кваснин вы? Павел Михайлович?
– Да, Квашнин... Нет, Кваснин пока. Пока 'эс', не 'ша'.
– Как? Вы что? Я года пишу ордеры, а и то растерялась: 'ша' или 'эс' вы?
– 'Эс' пока.
Встречи М и Ж сводят в рамки морали, чтобы замедлить резкий срыв в пропасть, в малоосмысленный вопль тел, устремлённых друг к другу. Есть исключения. Но, как правило: где мужчина и женщина – там эдем, кубок полон, пламя без дров горит. Где она и он слиты – там мы как Бог.
Рознь – с умыслом. Если вспомнить, как всяк нелеп в сём мире: заболевающий и давящийся пищей, и задевающий за углы, икающий ни с того с сего, страдающий от жары и холода, потому что расколот в эти вот пóлы, то сознаёшь: не к счастью 'твари по паре', но с жутким замыслом извести нас. Я б стал могуч, как бог, доведись мне быть целостным! Первозданный, с невыломанным ребром как с Евой, я Богу в пагубу. И сейчас, рядом с сей незнакомкою, я, идущий к концу, сдыхающий, говорил себе тайному: а не эта ль та самая, что была вне судьбы моей, но какую нашёл-таки? Не отсюда ль все беды, что я – не с той всю жизнь? Я прильнул к ней в безудержной нетелесной тяге.
– Вот, вам стекло разбил, – брякнул. – Что за работник?
– Может, не ваше, эта торговля?.. Хоть время сложное, трудно всем сейчас. – Она кончила ордер. – Вот у меня все друзья в торговле, бывшие техники. Даже медики.
– Даже ? – Я вдруг завёлся, вместо чтоб двинуться в бухгалтерию с её ордером, как положено: этикет такой: 'благонравие', 'лимитировать', 'здравый смысл', 'жизнь для дел', 'нормы', 'рамки', 'не позволительно' и 'пристойность'... полный 'бонтон' то бишь. Мы в условиях, где ступить в ширь, вольно вдохнуть и выдохнуть, посмотреть полным зрением, выдать прямо, что мыслишь-чувствуешь, – трудно. Жизнь под запретом. Движемся робко, думаем тупо, чувствуем вяло. Мир наш Бутырка; камню вольнее; нам дважды два везде; я сто лет в этих чёртовых дважды два. – Что медики? – нёс я. – Чем они лучше? Муж у вас медик? Им привилегии? Отчего, если медик вас трогает, – я накрыл её кисть своею, – вы полагаете, что он право имеет как вас врачующий? А не медику – неприлично, пусть бы не медик высмотрел важное, несравненно больное в вас! Может, он бы почувствовал, что вам плохо и, пусть вы дышите, – но не в полную. Что вам медик ваш, если вам нужна истина?
– Мне...
– Век видимся, – ну, и что, кроме просьб привезти товар? – перебил я. – Что кроме выписки накладных с упрёками, что гвоздика не пахнет? Вы хоть задумались, что я жив, не мёртв! что мы видимся чаще, чем ваши медики, кто, однако, вас учит и наставляет, что и как делать? Воображали вы, что я, может, нужней вам этих всех медиков? Думали, что умрёте, помня лишь ящики, сметы, чеки? Я для вас накладная? Знаете... – Я сдавил ей запястье. – Я не приеду, я не хочу вам возить товар. Вы вам посланных мните хламом, в коем единственно драгоценная и живая жизнь – ваша. Я вам не пикуль.
Рыжая вскинулась. – Что вы? Муж мой хоть медик... я их случайно... Вовсе не пикуль вы... замечаю вас... Как вам вздумалось, что вы пикуль? – Вытянув пальцы из-под моих рук, встала.
– Вы – замечаете?
– Да. Наверное... – подняла она взоры. – Но... Как вы знаете, что порою тревожно? Вы не психолог?.. Я буду думать впредь... – отошла она к шкафу. – Знаемся долго, а говорим мы и вправду в общем-то в первый раз, не о перцах, а как... как люди.
– Будем дружить, – я встал. – Вас звать...
– Вера... Но... – притворилась, что смотрит в папку. – Ведь при других мы не сможем так... разговаривать? Не поймут никто...
– Скажут, мы влюблены, – изрек я.
Вмиг покраснела.
Я к ней приблизился. – Да, не шуточно влюблены, не смейтесь. Как нужно всем любить... – И я смолк. ('Отцовская', обронил он, 'любовь'?).
Я вставил: – Расскажете о себе? Когда-нибудь? А я вас спрошу о такой вашей жизни. Мне это важно. Мне интересно: вы как есть и вся жизнь ваша, вдруг вас приведшая вот сюда вот директором, чтоб выписывать чек, краснея.
– С рыжими вечно... Это жуть бесит.
– Бесит... – я вторил. Я уходил в себя, где внимал уже первенцу и словам его про любовь – 'отцовскую'.
– Я все деньги дам.
– Нет... – Я чувствовал муки. – Верочка... Нужно... нужно идти. Всё...
Я брёл к родителям, благо близко. Шашни с директоршей? Я не выгод ищу, а Жизни, чувствуя: сгинь я, кто меня вспомнит как человека, не как лотошника? Мне б – естественность, вроде той, что земля летом тёплая, месяц жёлт, девы нежные. Я ломлюсь в людей, так как все скрыты в панцирях под замками.
Взяв сына с брáтиной, скрытой в ветошь, я вышел к 'ниве'. Мать сошла в шубе. Мы с ней проехали до Сбербанка, где наши деньги 'власть бережёт от нас', пояснила мать. И я ждал её, глядя, как норд метёт лёд в клумбе.
– Пап, она скоро?
– Да... Вон, вернулась... – Я открыл дверцу.
Мать села рядом.
– Что?
– Я хотела... – Мать, взяв ладонь мою, как и я час назад брал Верочку, шла за 'рамки'. Только напрасно; я ведь не мальчик, кто жив уроками; у меня свои взгляды, принципы, скептицизм и ирония; отстранённость в итоге. Пусть из-за хворости автономия свяла, но в меня сложно.
– Мама, – я начал, чтоб отдалиться. – Марка врачу платил, ради Родика. Знай впредь.
Мать отвела глаза. Ей мечтался сын сильный. А вместо этого неродной, звать 'Гоша', им помогает. Будь я моложе, я обещал бы ей звёзд с небес. Но я только вздохнул, уверенный, что судьбу не сломать; красавицам, начиная с Елены Троянской, горше, чем кажется.
– Мы хотим тебе счастья, мам.
– О, я счастлива вами.
– Мной? – подал голос Антон, мой сын.
– Я хочу, чтоб мой внук имел что положено. Чтоб вы с Родиком жили. Честь Гоше. Но его мало.
Я нервно тронул руль.
– Продавать её. Ясно? – Мать улыбнулась: гладкая кожа, собранный подбородок. – Хоть за пять тысяч... Да хоть за сколько.
Я был растерян, стал заикаться и возражать ей: – Я ме... меняю скоро фамилию! Чтобы я это слушал? Нет, ты не можешь так! Так нельзя! Мы никто бе... без брáтины. Он никто – внук твой, я никто.
– Он никто без учения. Ты же... Ты и сейчас тень. Родя наш гибнет. Нам нужны деньги, очень большие. Деньги любые.
Я вылез справиться с дурнотой, сыграв, что смотрю, как там шины. Сняв ногтем наледь на дряхлой щётке на лобовом стекле, сел дослушивать.
– Почему отец дал её? – мать продолжила. – Павел, вещь не его уже. Он не смог решить, не дерзнул решить. А продашь её ты.
– В ней род наш! – я бормотал. – Как род продать?!
Мать расстроилась. – Ты уверен, что сын твой, кто дремлет сзади, дюжину лет спустя, без тебя, я хочу сказать, не сменяет вещь на какой-нибудь 'бээмве', девицу?
Я мучась слушал. Я жил квашнинством. Бедность, никчёмность не угнетали, если ты близок древнему роду и есть свидетельства... Мне отец отдал мне брáтину, чтоб с себя снять ответственность? Или он так спасал меня? Я представил, что, вот, продажа – и, ненашедший себя в сём мире, чахнущий от распада тела и духа, я лишусь брáтины... Вряд ли вынесу, вряд ли. Но почему мне опять решать?! Как мне жить в двух ужаснейших ситуациях, не продав и продав её? Отдавая мне брáтину, вместо чтобы самим продать, мать с отцом потерять могли Родиона, вечного мальчика дней Гагарина: я могу удержать вещь. Что, я дороже им? Но как кто? Как нормальный кормщик их внука?
Знали бы, как нормален я – издыхающий, вкупе с предками и потомками представляющий вторсырьё в историческом празднестве колен Гадова, Неффалимова и Рувимова. Богу – я нуль. Матери – нуль второй сын, бедный увечный? Ибо, что б ни бы-ло, выбор сделан: я могу не согласен быть, и впредь мне решать: жить ему, Родиону, либо же мне жить славою рода? Или смекнула, что, после первенца, уступлю?
– Он плох? – Я глотнул седатива в виде двух капсул.
– Он жив условно, – произнесла она, чтобы я, это зная, крепнул в решении. – Ты и сам плох.
Брáтину не спасти, я понял. – Ладно, продам её... Будем жить, мама, – я покривился. – Но не сейчас, не вмиг... Ладно?
– Павел, обследуйся.
– Да, – сказал я. – Конечно.
И она вылезла.
Я глядел вслед величию и надеждам, спрятанным под облезшую, но на ней – шубу царскую. Я решил: как бы ни было, подарю ей песцов с шиншиллами. Пусть у гроба сынов своих плачет статная элегантная женщина, не жена, не невеста, – мать в утешение...
VIII Береника
Ехали близ руин взорванного в Москве дома. День назад гордая, башня сделалась грудой плит, балок, мебели и раздробленной утвари вперемежку с телами, в коей ворочались краны и экскаваторы, сортируя, сгребая хлам. Блоки стенок в обоях, где отмечали рост чад родители, кровь героя вой-ны, струны скрипки студента консерватории отвезут в карьер, свалят в яму. Станется квази-кладбище. Но никто не придёт туда, а оплакивать взорванных будут снег и дожди; и весной, в апрель, когда нет ещё зелени и обломки светлы в лучах, на пруту, что торчит, как шест, ветер тронет эластик с некогда самой стройной ноги второкурсницы из Московского инженерно-строительного – как укор судьбе, как порыв проявиться вот так хотя б...
Я, давя газ, тронулся дальше.
Мы жили в длинном, как такса, коробе, что одним торцом к Карнавальной ул., а другим – в сквер с деревьями. Бросив 'ниву', вышли к подъезду, нёсшему груз забот властей в ипостаси снабжённой кодами двери. Я же рассчитывал, что меня и семью мою и соседей выручат не подобные двери, но серость, блёклость и неприметность сей жилой ветхости.
За табличкой с номером 70 был склад ящиков с этикетками '1-ый Пряный...' То есть вновь специи. Что неправильно. Мы решили кончать; я в Квасовку ехал, словно стирая всё, – а жена набрала товар. Как, откуда? Это ей Марка дал. Эскулап Родиону плюс это значило, что, и так задолжавший, я вновь одалживал. В мыслях вижу, как, позвонив ей ('поговорить, Ник'), Марка, вняв жалобам, что заказчики 'ждут уже', а нет 'пряностей', отпустил товар, наболтав, что в его интересах сбыт его бренда. В комнате – пачки, тучные сумки и накладные в 'Торги', 'Ритейлы', 'Трейды' и прочее, учреждённое, чтоб оказывать мне любезность взять товар, распродать и потом рассчитаться. Я был в убытке... В общем, баланс мой был отрицательный, что знал я и сам Марка. Но не жена моя. То есть женщина, что достала всё это и где-то бегает, разнося заказ; эта женщина с звучным именем Береника Сергеевна – мне жена... Берениками были дамы Египта и древней Греции; и дочь Ирода, истребителя вифлеемских чад; и врагиня ап. Павла; также метресса кесаря Тита, сжёгшего город избранных. Береника по-гречес-ки 'Βερενίκη', 'Победоносная'. С тонкой талией, ноги-руки излишествовали в длине и тонкости, голова как бутон на стебле – вот она. Также рост с разнобойностью членов, что создавали вид, что они изгибаются. В Нике сходство с мадоннами длинных шей чинквеченто (женщины-башни). Плюс длинный рот ещё, что от скул оттеснён умилками; подбородок с ложбинкою; две миндалины глаз в их сини и соболиные, под высоким лбом, брови. Вот моя Ника – вся локомоция, линеарность, странница во трёх соснах и попаданница вечно-всюду впросак. Мать звала её 'Невпопад', я вспомнил. Вешалась в детстве; ей вдруг подумалось: май закончился, – и она расхотела жить. Я, пройдя к телефону, шумно звонившему, слушал.
– Ты, Феликс?
'Сэр! (Звук вздоха; я сразу понял, что он в бездельи). Рад тебе... ВСЁ! Облом! Знаешь, к чёртовой матери всё сворачивай и шуруй у Эуропу! – Шмыгов коверкал речь. – Всё, заСТОЙ!! Мерзопакость! Это не год назад. Как я жил тогда! Взятку дашь – и всё продано... Впрочем, мы лишь реклама, что на концерне в снэжном краю под названием Швэцыя делают лэктротэхнику, а вот здесь на одной восьмой суши – или сто-дцатой? – не покупают швэцкую тэхнику и ждут выборов смыться в Англию'.
– Возвращаю долг, – я прервал его. – Помнишь, триста брал? Где мы встретимся?
'Dear! – и он хехекнул. – Мой уважаемый герр Квашнин, сэр! Помню! А вам известно, – хоть о таких делах лучше с пьяночкой в 'Bishop's finger'е, – вывел он интонацией, – то, что минимум джентльмена – лям, не меньше. Так что имей он их, Шмыгов был бы в неблизком некоем месте-с! Ты должен триста? Я их возьму, сэр, чтоб пропить в 'Бишопе'... Ба! Мне мэрия!.. Dear, после... Фёдор Васильевич! – взвыл он. – Рад вам!..'








