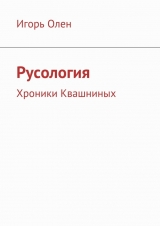
Текст книги "Русология (СИ)"
Автор книги: Игорь Оболенский
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Он утомлял меня, пусть нас связывал век студенчества. Впрочем, он бы остыл ко мне, не пиши про нас, Квашниных, историк, кой, он признался, был его прадед (он, кроме этого, принц Уэльский, так он врал выпив). Он чтил реликвии и блистал, умеряя невежество не слыхавших про Холмских, Глинских, Тюфякиных, Квашниных, Стародубских, Татевых на собраниях, где болтали про вечных и представляющих знать 'Голицына с Оболенским'. брáтину он раз видел, но счёл поддельною; хоть признал, что за двадцать 'штук' (то есть тысяч и, ясно, баксов) смог бы продать её; обещался помочь при случае. Он угадывал, я плохой делец.
Вспыхнул свет, осветивший зал. Я увидел сашé (пахучие, разной формы подушечки), древний чёрный сервант с фужерами и старинный рояль с распятием о восьми концах от Рогожских. Старообрядческий, род их был из купцов. От бабушки получив письмо, Ника к ней прописалась. Так я попал в Москву. Тесть мой, лётчик в отставке, зажил в Хабаровске, ближе к воле, чтобы с ружьём пройтись, выпить беленькой, поболтать под чад 'Севера'. Весть о внуке он вынес трудно и приезжал к нам...
Я сел у полок, где были папки, и потащил одну, сыпля чеки, платёжки, справки и бланки, чтоб найти фото... 'Грозны! АЛЛА АКБАР! Тебе с Новым'. Далее – криво и его почерком: 'нужно выкуп дать, мол, отцовская есть любовь, пап... Им 300 тысяч... ты жди Марата, он передаст письмо... режут пальцы... ' Даже продав всё (вместе с квартирой), я б собрал тысяч семьдесят. Но кто знал, уверяли, что, хоть ты всё отдай, нет гарантии; эйфория: русских всех выперли! газават алла!.. Я общался с вояками, что твердили: 'Всё, сына нет, считай'. Шмыгов выделил тысячу. Марка сто дал – как я просил. Он всё б дал, но я не знал, богат ли он (я в Москве, Марка жил на востоке). Да и скрывал я, даже от Ники... Многое вкось здесь, многое! Тьма отчаянья; во-вторых, Марка был лишь наездами, что мешало сдружиться после разлуки. Здесь ещё, и что он любил Нику. Также квашнинство здесь, не дающее отягчать других, и неверие, что вернут ('отцовская любовь' сникла). Я собрал двести, мне в ответ: 'Трыста!' – от неуступчивого Марата; плюс это фото, где сын без пальцев. Вдруг МВД ко мне: это мой ВАЗ с госномером '30 – 70'? А у них информация; не спущусь ли?.. Как?! Под сидением 'крэк' наркотика? Протокол... В отделении проторчал полдня; отвели в кабинет с табличкой: зам. нач. чего-то там 'Хаджалиев Э.'. Чем живу? 'пряным бизнесом'? Вот как найденный 'крэк'?.. 'подбросили'?.. Мне пока обвинение по статье 228-ой, часть два. Кандидат наук, как могли?! Я спорил; взялся Марат, здесь свой, усмехнулся мне, ввёл кавказца. И я спроважен был в 'обезьянник'. Э. Хаджалиев утром итожил: дал бы ход делу, но, учтя трудности, связанные, мол, с выкупом, он простит меня; без того преступлений в óкруге много. Я был подавленный, точно стал иностранцем в собственном городе. У меня была родина, но теперь я не ведал чтó... И ещё я не ведал, кто я, сына предавший, не поступившийся, чтоб спасти его, ни квартирой, ни брáтиной, из резона, что, мол, зачем оно, коль есть шанс, что обманут. Я подавлял мысль, что, сходным образом, шанс имелся спасти его. Но для разума значит логика, а не чувства... Я хранил тайну; Ника не знала, как и родители... Через месяц: 'Кваснин Д. П.', военком сказал, сгинул 'без вести'. Символ мук стала брáтина. Я разгадывал: вдруг бы спас? вдруг цена ей сто тысяч, что не хватало? Может, уверенность, что в ней якобы русскость и слава рода, – вздор один? вдруг ценней просто жизнь, не смыслы?
– Папа! – воскликнул сын, углядев меня с тем трагическим снимком. – Фотка?
– Нет, справки, – комканно врал я.
Он кивнул на картонные короба, сверхлёгкие (в них пакеты гвоздики).
– Сложим, пап, крепость?
И я помог ему, сам в прострации. Он играл потом, защищая картонную 'крепость' то ли от орков, то ли от гномов... После я усмотрел Беренику, дымчатый взгляд её.
– Вы приехали? – скинула плащ. – Я рада! Тоша, поди ко мне. Как деревня?
Я, смолчав о Закваскиных и о призраке под ракитой, начал на кухне, где она жарила: – Снова пряности?
– Марка дал.
– Ника, бизнес наш умер. Нет его. Есть ишь видимость. И напрасно...
– Нет, есть заказы, я выполняю их. Я купила на рубль, продаю на рубль сорок. Разве не выгодно?.. – Облизнув палец, резала лук. – Где деньги? Тоше на обувь, на остальное? С этих заказов. Плохо ли? Нет.
– Бесприбыльно, – вёл я. – Платят не сразу; ждём – и выходит: нам должны меньше, чем мы потратили. Ведь инфляция. С этой партией долг возрос.
– Есть сфера... – Ника задумалась, – адвертайзинг. Вроде, торговля в целях рекламы. Да, адвертайзинг... Он сказал, что ему от нас нужен лишь адвертайзинг с этим... с promotion. Чтоб узнали о фирме. А адвертайзинг с этим промоушен, уверяет он, стоят трат. Вот поэтому мы нужны ему. Как рекламщики.
Темновласая, кожа гладкая... Я искал в ней след горестей, но встречал облик сфинкса с мягкой улыбкой.
– Ника, – твердил я, – он меценатствует. Мы не можем висеть на нём.
– Адвертайзинг... – Взгляд её и кромсание лука в темпе паваны ясно являли, что она грезит. – Да, адвертайзинг с этим, с promotion...
– С предложением, – отозвался я. – Когда он, студент, предложил тебе руку.
В ней что-то сдвинулась, улыбнулась. – Я тогда, после 'Шéрбургских зонтиков', не в себе была: в фильме Франция и любовь; у нас – порт во льдах, девятнадцать лет... Он зашёл, был навязчив. Он стал разыскивать, что имелось в реальности от блуждающей в Шéрбурге.
То, что Марка любил её, тайной не было; но открытой мне близости я не знал. Ишь, 'девочка-невпопад' – сказала и нарезает лук как ни в чём не бывало.
– Ты огорчился?
– Да, вероятно, – молвил я. – А вот ты прослезилась, и не от лука. Сладкая память? Ты сожалеешь, что упустила шанс? Знай я истину... – произнёс я. И вдруг устал, сказав: – Наплевать... Но гадаю: он помогает мне для тебя? Или он всё же мой друг?
– Гоша наш общий друг.
Я настаивал: – Он за Родика платит. Снова твои дела?
Она плакала: – Что не так?.. У меня поползли колготки! Я хочу умереть! О!
Плач – не по тряпкам. Гнавшее меня в Квасовку было свойства, что и пролившее её слёзы. Пять лет назад, весной, сгинул первенец.
– Хватит! – я просил маясь, глядя на длинность и на безвозрастный вид её... Помню, как в метро дамы, тучные и худые, висли над нею, дабы гримасами, обсыпающими визаж, внушить, что фифочке, долгоногой, вольно рассевшейся и живущей в своё удовольствие без детей и иных невзгод, нужно встать, уступив место возрасту и заслугам. Я был свидетелем, как красавчики попадали в сеть, затевая флирт с их ровесницей, мягкой, милой, участливой к их стараниям, как краснели вдруг, выяснив, что стараются перед той, кто общалась в них со своим мёртвым сыном. Это – береникизм, я мнил, жизнь в обществе словно как бы вне общества при содействии некой матрицы, что царила над разумом, так что правящий комплекс принципов, точек зрения, предрассудков, мод, норм и кодексов, бытовых и больших философий рушился в истинах её личности. Этот тип хладен к разуму; он обходит рассудочный гордый мусор. Женщина с этим качеством – дар избраннику. Вас желают любить ради вас и без видов на выгоды. Вот кто был со мной. С Никой я, как и с Верочкой, магазинной директоршей, под иным углом видел вещи и, мучим 'миром сим', инородным мне, мог задерживать, что сползало лавиной, что, – я предчувствовал, но конкретно не знал пока, – мне несло избавление вкупе с ужасом.
Я принёс в кухню сумку. – брáтина. Я наследовал. Так с чего начнём?
– Как она...
– Как досталась? – я отмахнулся. – Случаем. Не гадал не ждал... Но отец явно любит нас – Родю, внука, меня, мать – больше, нежели символы, патриотику и культурные ценности. – Я смотрел в окно и повёл вдруг: – Нет, здесь не город. Эти панельность, трубы заводов, базы, обшарпанность, трассы с фурами – хостел. Город, Москва то бишь, за Рогожским, Пресненским валом. Станься возможность – мы убежим туда. Мы не в городе.
Я почувствовал, как дрожит её голос: – Денег нет... У нас будет ребёнок.
Я не ответил. Тёк понедельник трудов моих и Страстная неделя. Сын, вбежав, затянул, как мы ели с ним вербу.
Вскоре я выскользнул и поплёлся, чтоб сделать нечто – то, что давно хотел.
Я шагал вдоль дороги; ветер дул в бок. Три новости: мальчик в Квасовке, и 'грех' Ники, ставящий Марку в пакостный ракурс, если он спал с ней, пусть в давней юности, и ребёнок, что будет, – швах в моём случае, но естественный. В точь по Диккенсу, кто сказал, что нужда и болезни – столь заурядное в большинстве стадий жизни, что их трактуют как отправление, дефекацию... Я и есть тот кал. Кто тем в 'мерсе' или вон той, в песцах, – кто им я с моей болью? Сор в сытой жизни?.. Вдруг аритмия взяла меня. Я свернул шатко к липе, сломанной бурей, и прислонился к ней. За газоном тёк транспорт в дыме от выхлопов. Здесь снег грязен, и я не мог, черпнув, охладиться... После в ларьке взяв пиво, я его выпил. Зыркнул в газетку 'Труд и Работа', что на витрине: в ней 'треб.' садовники, маляры, бухгалтеры, секретарши, все от семнадцати до, желательно, тридцати. Лингвистов в полста лет нужно? Нет, их не нужно... Я знал немецкий, но, как груз к возрасту без привязки к коммерции, он ничто, язык.
Пиво торкнуло. За моим рослым остовом мир поплыл беззаботней. 'Крепко вас, разлюбезнейший, – бормотал я. – Ась? не Квашнин пока? Вскоре будете! Птицу видно в полёте, как говорится...' После я минул группу нимфеток близкой здесь школы, кои хихикнули, так как я им не дал курить, объяснив про здоровье. Я расстегнул пальто, видя цель: МВД за дорогой. Но, очень странно, там был ОМОН, три взвода. И, тоже странно, слева шагала как бы колонна, вся в чёрных куртках, – рейд бардакóвцев, тщившихся в их воинственных шоу с маршами, зигованием, хоровыми кричалками. Лидер где-то полста этих в чёрном, разной комплекции, разновозрастных пыльных лиц был дёрганный и поджарый нервный холерик в твидовой кепке. Он задержался на светофоре и бормотнул мне, пьющему:
– Пиво 'Хейкенен'?
– Нет, 'Трёхгорное'.
– Гой еси! – он вскричал. – Честь! Русское – лучшее! Собрались в Москве русичи много лет назад и вошли в пай Трёхгорного пивоварного товарищества. Сам Морозов участвовал! Выпускали – сто тысяч вёдер. Эх да Россиюшка! Квас и пиво русская сила! – Он подмигнул мне. – Ну, ты орёл!.. Люблю! Ты – Петров?
– Квашнин.
– Гой еси! – он опять вскричал. – Род боярский! Наш муж, природный! Это не выскочка! Пиво русское, стать гвардейская, мысль в глазах, а ручища... – он тряс мне руку, – прям богатырская! Пятаки гнёшь?
Я глотнул пива. – Гну пятак, а меня гнёт копейка.
– Гой еси! С тебя б статую, чтобы видели, кто есть русские! Вот с такими сметём врагов! В Квашниных вся Россия! Где ты работаешь, что не можешь жить в справности... – Так витийствуя, он следил вокруг и схватился, как только вспыхнула светофорная прозелень: – Шагом марш вперёд! Марш, соратники!
Я был первый, кто перешёл проезд, за каким ОМОН окружил и повёл нас в нужном мне ракурсе, к МВД, – что отнюдь не входило в план бардакóвцев. Лидер их вскинулся:
– За порядок! Право на марши! Кто запрещает – штраф тыща МРОТов либо же срок! Честь русским! Руки в карманы от провокаций!
Главный омоновцев сообщил: – Так, группа задержана к оформлению данных о нарушении городского движения. Все за мной.
– Что ж, идём! – крикнул лидер.
И мы опять пошли, но, едва я замешкался, раздалось: 'Ну-ка, взад, жердяй!' Держиморды ярятся, если их отвлекают. Пили чаёк себе, анекдотили, вспоминая гудёж да шмар, – а тут сбор из-за грёбаных 'бардаков'... 'Пьянь длинная!' И нас вдвинули в огороженный двор. Сев к солнышку на вид тумбы, к норду спиною, я успокоился. Пиво 'строило'. Мнилось, что я здоров, не беден, брат – мастер бокса, первенца не было, а норд выдохся и немедленно на прыщавый лик города с ртом повапленных европейски бульваров выплеснулась весна...
Люд с камерой? Лидер шествия начал:
– Слава России! Бог и порядок! Год назад нас сажали в кутузки. Нынче нам двор мал. Завтра не хватит Москвы на нас! Их судьба – отступать и склоняться, наш удел – укрепляться. Их судьба – растерять друзей, наш удел – обретать их. Вот, здесь наш новый друг! – Он кивнул на хмельную вялую кучу, чем я и был в тот миг. – Из бояр, Квашнин, – он стал наш теперь... Эй, там, с камерой! – лидер дёрнулся. – Вы кто, СМИ? Нет, не вы нас ведёте – мы пробиваем путь. Примыкайте. Слава России! Ей впредь не быть в дерьме! Мы отменим фарс 'Будь богат или сдохни'! За справедливость, веру, порядок! – Сняв кепку, он стал креститься. – Это наш ход с Христом. У нас – Бог. А у них – фальшь, водка, смрад и наркотики, завезённые сволочью с неславянским прищуром. Их же – война в Чечне...
СМИ ушли. Он подсел ко мне.
– Пётр Хвалыня.
– Павел Михайлович.
– Ты реально Квашнин?
– Да.
– Знатные стати! Мы именитых, срок будет, выделим. Князь, боярин Квашнин.
– А фон Квашнин?
Он закуривал. – Тренд не тот.
– Ну, а 'ста'? – предложил я. – 'Ста', знак старинного уважения. По традиции, и нейтральнее. За 'графьями' с 'боярами' антипатии классовых и иных свойств. В вашей идее, зиждущей в родовых институциях, ненормально различие кости чёрной и белой. 'Ста' это выход. Вне номинаций вроде 'штурмфюрера', – развлекался я.
Лидер шествия посерьёзнел. – А мы получим власть. Непременно. Шуток не надо.
– Да, ста Хвалыня.
– Ты образованный, но одет не в стиль, – он сказал. – Мы тоже: с нас сними форму – мы все не лучше. Жить Кремль не даст тебе. Мы – дадим.
– Мне никто не даст, кроме... Впрочем, не будем. Ваша цель – гнуть нас, наша цель – выжить. Так, и non possumus, ста Хвалыня.
Он сунул карточку с нечто схожим со свастикой. – Позвони мне.
Крикнули: обратится к нам 'зам. начальника Хаджалиев Э.'... Он, тот самый, я опознал в момент... не майор уже – подполковником... Меня пот прошиб. Лидер шествия всех построил; но с первой фразою в характерном акценте все отвернулись. И я примкнул к ним, глядя на 'зама', чтоб досадить ему: пусть припомнит нас с мальчиком, с моим мальчиком... Он узнал меня, располневший. И я почувствовал, что срываюсь; я был в истерике, нёс хрипя:
– Хаджалиев! Акцент плох! Не разобрать!
Он скрылся, и нам сказали: – Будет вам ваш. Игнатьев, Игорь Степанович.
Красномордый пасмурный русский, выйдя поведал: в мэрии злятся 'за нарушение норм морали этим вот маршем'; 'вас всех проверят', а после выпустят, но, ребята, 'без драк давай'.
– Слава русским!! – гаркнули наци.
Я, двинув в паспортный, обнаружил там толпы и свернул к Хаджалиеву на второй этаж. Буржуазка талдычила ему что-то, он ей: 'Всо сдэлаем, Афият Бекбулатовна'.
– Паспорт! – брякнул я, обернув изумление его в злобу, смытую скрытностью; у них быстры эмоции.
– Зáнат.
– Мне, – я нёс, – мне помогут эти вот в чёрном. Но я уверил их, что проблемы не будет, что подполковник худа не хочет... Кстати уж, что случись со мной – жди недоброго. У них адрес есть, где живёт подполковник... Око за око, а?! – я затрясся.
Час назад он меня бы убил, спасаясь-де от 'бандита'; трупу вложили бы в руку шило. Нынче он трусил. Я блефовал вовсю; они ценят лишь силу. И он поверил мне. Бардакóвцы, шумели СМИ, убивают нерусских; я ж был один из них, как представился. Он снял трубку и на кавказском что-то велел, закончив:
– Сдэлают... Жалко старого в очэрэд... – Отвернувшись, он ждал ярясь, чтоб я вышел.
После майор с лицом, будто я где-то в Нальчике, проводил меня в паспортный, где Лейлá (Мадинá) сказала, чтоб пришёл завтра. 'Нет!' – возразил я. 'Дай', – майор буркнул... Следствие с регистрацией было их в данном случае. А в других как? В óкруге? по Москве? в России? Что, прибирают власть? Мало их лишь на первый взгляд; относительно, в смысле доли, – много, и чересчур... Так Рим погиб. Центры манят сброд, в центры лезущий, чтоб стяжать и владычить. Это опасно. Если мой сын убит, раз они не хотели жить вместе с русскими, – мы вольны жить без них в ответ. Не одни, впрочем, пришлые нам впились в нутро с беспардонностью крыс, объевших нас и налгавших, что мы в дерьме не по их вине, но по общим законам, взявшим да и уславшим нац. достояние, например, на Венеру. Но очень скоро звёздные клиперы (к чему следует потрудиться под, ясно, благостной и единственно верной – вновь! – властью секты Е. Т. Гайдара, бывших парторгов, ныне спасателей пляжа Мáлибу) – скоро звёздные клиперы устремятся к Венере и возвратят всё. Ну, а они, 'шанс этой страны', помогут...
Мне стало худо. Боль нарастала – и сорвалась в скачках нервных мыслей. Как прекратить мир, где сребролюбие, где я слаб и беспомощен? где Марат, поводя пальцем в перстне, вместе с сотрудником МВД ставит мне ультиматумы? где власть ищет содрать с меня всё имущество, чтоб отдать его своим родичам? где живут вполне лишь при банде, клике и партии?
В новом паспорте я, увидев 'Квашнин' (вот так! здесь не смена фонем и не хилая алтернация, а рывок, vita nova!!), вышел и двинулся к Карнавальной. Я был нетрезв ещё, спотыкался; мысли роились. Господи! Что, со мной или с обществом непрерывный психоз, отчаянье, межеумочность, тягости? Кто соль нации? Хапуны и паскудники, возглашённые 'светом', 'духом новаций'? Или же тяглые, вот такие, как я?.. Хватит! Надо другое. Сыну – науки, образование. Беренике – покой... Родиону помочь, чтоб жил... Диагностику... Vita nova ведь. Имя новое – всё-всё новое.
Так я шёл, затверждая цель и ломая квашнинство, в смысле что русскость... О, русскость, русскость! В чём она? Я считал, что Бог создал мир иудеям; прочей же накипи дал Христа с Его царствием после смерти. Русскость, ишь... Что вокруг неё копья гнуть? Что она? – Промежуточность, сораспятость добру и злу вместе, игрища с совестью, чтоб терзать её в гульбищах и желать царства Божия – но не ранее, чем захапав земное; жажда прельстительных европейских благ – но чтоб сами шли к нам под ханжеский возражанс; петь ближнего – но не дать ему ни клочка; чтить Господа – но за то, что чужое дал. Алчем тайно, верим не веруя, есмь никак. Проще Гамлету: 'быть не быть' не тождественно быть не будучи. Русских нету, нигде: ни в данности, ни в абстрактах 'Царства Небесного'. Труп живой, глюк, иллюзия, наплевавшая в Бога и в человека. Вот что в сей русскости... Хватит! к дьяволу до корней припасть, к коим лез я сменой фамилии! Прикладное квашнинство – вот что мне надобно и что первый шаг к иудейскому раю: к роскоши дома, к пряной жене, к престижности, к образованным детям, сплошь яшахейфицам, и к счастливым родителям. Как легко: Бога чтя, набивай мошну!.. Отыскав в пальто мелочь, я шёл к киоску, чтобы продлить успех. Я Квашнин! Я связал концы, что блуждали с притиснутым, настороженным, как оса у губ, 'с', кой сменился спирантом из корональных, нежно глубоким, множащим 'шиканье'... Пиво туркало; новой порцией я продлю релакс... 'Герр Квашнин!' – произнёс я, и стало сладко. Этот Хвалыня врал: богатырь я? Плечи имеются, но пальто их круглит. Не то пальто, от кваснинского! Квашнину подберу я иной стиль. Пивом отпраздную не кваснинство муторной психики, а квашнинство активности, достижение всепобедных троп избранных и – исход на них! Так что к паре ларьков вблизи шёл я взвинченный и стоял, ожидая, сходно как в первый раз, по пути в МВД ещё, из окошечка пива. Но я ждал долго и за витринами обнаружил ребёнка, прежде чем взял своё.
– Ты кто – девочка? – хмыкнул я.
– Нет, – ответили. – Это мальчик... Мне вам открыть?
– Эй! – бросил я, получив не дешёвое, а немецкое пиво. – Мне бы из наших...
– Павел Михайлович, – голос стал вдруг спокоен, как и рука на тарелочке с мелочью мне для сдачи. – Я угощаю.
– Анечка?!
Я хотел уйти – и не мог. Здесь была повзрослевшая прежде девочка, доморощенный клон от Барби, первая и последняя, по всему, страсть первенца.
– Вы войдёте?
– Да, – я сказал, – Конечно... – Но продолжал стоять.
Эта Анечка занималась гимнастикой в ЦСКА, сын – плаваньем. И до этого знали друг друга: я с её матерью был знаком по работе. Семьи сошлись; благо, жили мы через нечто, схожее с хаосом, что, стремясь от Москвы-реки, просекало две улицы исполинским квадратом с вкрапленным парком, студ. общежитием, гаражами, отелями, диспансером, торгцентрами, речкой, прудом, заправкой, маленьким храмом, цирком из нескольких жёлто-красных шатров на площади, метростанцией и кофейнями. В 90-х мы не встречались. И я одно знал, что отец Анечки, пиквикист в очках, развернул сеть ларьков, а жена его и моя сослуживица в те поры пекла докторскую про аóрист, кажется, в старопольском – труд для новейших дней лишний... Сын ушёл в армию; в девяносто четвёртом, осенью, он был в отпуске с Анечкой, первокурсницей МГУ в тот год. Он попал на Кавказ, в Чечню. Было фото, где его мучат... Я ей сказал тогда: 'сгинул без вести'. Она долго справлялась: где пропал, что и как? Я был холоден, неучтив, невежлив, даже молчал в ответ. Года три ходил сломленный. Пил. Сгорал. Бизнес дурно вёл. Не сиял позитивом, важным в торговле. То есть сейчас, я знал, лучше было б уйти.
Вошёл-таки. Сел на ящик. Анечка – в фартуке, а малыш за ней стих. Я хмыкнул и, сжав бутылку, быстро глотнул кривясь.
Она справилась: – Нравится?
– Анечка... – Я стыдился ношеной обуви. – Извини меня. Я случайно... Вот, был в милиции... Столько лет прошло... Да, лет пять почти... Я забыл, что ларьки у вас. Не узнать: был ларёк голубой, из стали. А этот млечный, и из пластмассы... Ты замещаешь?
– Что?
– Продавщицу.
– Нет. Я сама она... – сняла фартук.
Впрямь, не богато: тушь на ресницах виснет комками, ногти без лака, блёклые джинсы, старый пуловер над мини-юбкой, туфли с фиглярской толстой подошвой, куртка из замши близ строя ящиков. И малыш ещё.
Я сглотнул нервно. – Кризис... Вы экономите? Поясочки затянуты? Я и сам так... Фёдор Викентьевич, знать, в другом ларьке?
Обслужив покупателя, она вдруг повернулась. – Нет папы. Нет. С девяносто восьмого. Взял ружьё и убил себя, – объявила в лоб. – Банк тогда обнулил наш счёт, 'крыша' нас доконала. Было сто семьдесят тысяч долларов, стало – пять. Он не смог вернуть долг. Поэтому...
Говоря, хочет слышать другое и провоцирует. Душу, что ли, грызёт мне?
– Нет его, – я прервал. – Не будет. Ты не ждала его? Мудро. Что ждать пропавшего? – Солнце било в витрину. – Быт, он и есть быт... Ну, с прибавлением! – Я кивнул малышу. – Приветик.
– Как же так? – голос сбился. – Павел Михайлович, почему вы сказали: нет и не будет? Вы получили весть?
– В общем... – я решил кончить. – Если так нужно... Он был заложником и... казнён был.
Анечка села, тихая, бледная, и малыш утопил лицо ей в колени. Анечка плакала:
– Отчего... Почему мы не знали? Вы... Что, он ваш? да?! Ну, а другие: я, папа с мамой? Мы бы спасли его! Вы молчали; и разговаривать не хотели, сколько ни спрашивай! У вас право на сына? (Я дал платок ей, вытереть слёзы). Знали вы, что мы с ним в отношениях, может, более близких, чем даже ваши с ним? Мы венчались с ним в отпуск, здесь, в церкви Знáменья... Он мне муж.
– Был, прости.
– Нет, он есть! – Она, взяв сигарету, чиркнула спичкой. – Вы говорите. Мне нужно всё знать.
Слушала и курила, глядя в пол в угол. Мальчик, припав к ней, был неподвижен.
– Вы... Нет, как смели вы!.. – начала она сдавленно. – Мы спасли б его; отыскали бы денег. Но вы молчали, вы не сказали нам... Никому. – Пепел падал на джинсики на округлых коленях и к башмакам затем; тушь с ресниц поплыла в расплыв. – Нет его – из-за вас лишь. Вам не хватало? Я бы смогла достать... на панели хоть. Митя жив бы был... Нам бы папа дал! – Она дёрнулась. – Вы, всеведущий благородный муж, – лучший? Сами решили? Как же, и вправду: вам унижаться, спорить, просить нас... Вот и живите... Вы, вы убили... О, были выходы! Папа б дал!.. – Она плакала, лоб в упёртую в бедро руку.
Я тщился сбить взрыв внутренней боли.
– Анечка, я не всё сказал. Я любил и люблю его. Выкуп был невозможен, будь даже деньги; разве процент из ста... Говоришь, твой бы папа дал? Испытать христолюбие: дал бы он или нет? Смогла бы ты жить с ним, если б не дал-таки? Ты б казнила его за одно, себя за другое; а на панель не пошла бы. Анечка, верь мне: выхода не было. Сикль сильней любви. Сикль есть вечные тридцать сребреник, за которые... Он был мёртв во всех случаях, при любых обстоятельствах... Извини. Ты просила... я счёл досужим. Годы, семья, мнил, новая – оттеснили боль... Как ты? Кончила эМГэУ? А мама...
В дверь влез кавказ с усами. – Ана, учот, нэт?.. Здэсь что, праверка, да?
– Это друг... мамин друг, Ахмат, – объяснялась с ним Анечка.
– Надо Ана работат, да? Прыбыль малэнкий. – Он ходил и командовал.
Мальчик, выпрямясь, отступил за мать.
Я поднялся.
– Мытя здэс? – нагнетал Ахмат. – Мнэ ынспекторам штраф платыть? Эта видна тавар Ана? – Взяв двумя пальцами, он помахивал пачкой. – Здэс нада ставить 'Снэк' на витрине, да?.. Гдэ ты был вчэра? Как дурак ждал... Ва! Курышь травка? хочэшь статья нам?
Анечка скрыла руку с окурком. – Прав, Ахмат. Извини... А ты, Митенька, стань вот здесь.
Тот не слышал, пуган метанием как Ахмата, так моим видом.
Я сказал: – Выйду.
– Миг, Ахмат, – встрепенулась вдруг Анечка.
Вышли.
– Павел Михайлович, это больше не наш ларёк. Я здесь лишь продавщица, а не хозяйка. (Мальчик смотрел, как мать, на меня снизу вверх). Не кончила эМГэУ... Звоните. Маме приятно вспомнить лингвистику... – Она медлила. – Вы не правы насчёт меня... А иначе смолчали б?.. Митя – он внук ваш, Павел Михайлович.
Я засунул руки в карманы. Что-то тягучее, подымаясь, так и не выплыло.
IX Содомское просвещение
Сдав анализы, я лежал (с эндоскопом в желудке, в фартуке) в процедурной – и за стеклом зрел даму в сходных условиях. Завитáя блондинка, ягодка сов. эпохи с острою 'чуйкою', когда можно права качнуть, а когда и смолчать, с особенным нюхом к выгоде (что найдёт грош, минувши тысячу); из бегущих трудов и дел, обожающих стадность, массовость как шанс, спрятавшись в толпах, спать. Вдосталь было вахтёрш, секретарш, комендантш в НИИ, трестах, ведомствах, управлениях, главках прошлого, что любили поспать. В ельцилюцию разбрелись они кто куда – но всё в крупное, где побольше сотрудников. В странах развитых этот тип живёт на пособия, в нищих – ходит с сумой, достаёт права инвалидности, чтоб додрёмывать на дому уже. Вдруг не я символ русскости, а она; так как взгляд на дебелую, без душевных и умственных бурь, пшеничность, склонную к дрёме и посидеть с чайком, воскрешает объятую сном Московию с треском сальных свечей, с болтовнёю о мухах, свадебных сговорах, разговениях. Впрочем, с неких пор, русскость и в сериалах, где лень с дремотностью получают приправу из томно страждущих на тропическо-фешенебельном фоне дам. Этот тип плюнет в истину, лишь бы спать-дремать.
Завитóй извлекли прибор с комментарием про 'акулий желудок'. Я же отправлен был на рентгены, где вдруг припомнил, как звонил Анечке, но ответили, что 'Приваловы не живут здесь'. Съехали, а она не сказала. Много обрушилось на неё... на нас тогда... Я тревожился, и нервозность гнела меня тряской века с промельком Квасовки. Я оделся к встрече с профессором.
Было трое в белых халатах, в белых же шапочках, у сверкающих окон, как аллегория: грешник судится светом. Главный бог в кресле вспыхивал линзами.
– Настроение?
– Лучше знать. В суть вещей . – Я зажмурил глаз с дёрганным веком и отвернул лицо.
– Вы не юн, смотрю? В меру были сознательным, вижу, в год первых спутников? Верно, слышали их 'бип-бип'? В журналах был персонаж Бип-Бип! я кончал академию! – сообщил он со смехом. – А я вас старше. Помню смерть Сталина... И прекрасненько! Нам досталось волшебное, невозвратное времечко! Фееричное даже, яркое! Мы имели быть обществом с затянувшимся детством, полным иллюзий. Выехав в первый раз на Таити, я расхоложен был: нет, не столь хорошо, как грезил; ибо легенды лучше реальности. Я уверен, вы понимаете, раз прочли мне Горация.... Это дар Божий, страшно доставшийся, – та советская жизнь. Вот Франция с революцией: скоротечный восторг, горение, марсельезы, империя, но потом прагматизм, стяжательство, век рутинности, буржуа. А у нас стройка радости и дурманная цель, что в седьмой пятилетке счастье приложится. Я то время люблю, уважаемый э-э-э... Квашнин Пэ. Мы с вами пожили – вы согласны? – пожили, когда лозунг был жить всё лучше, каждый год лучше... Нынче как быть должно: внешне лоск, а внутри боль отчаяния, дорогой вы мой... Боль давно ощущаете?
– Год.
– Прекрасно... – Он, сыпля блики левою линзою, барабанил в стол. – А у вас, уважаемый, опухоль близ фатеровых ампул. Обморок, дурнота была? Средоточие поджелудочных и иных проток... Операбельность символичная, дорогой мой, лишь коррективы. В США будет этак сто с лишним тысяч; также в Германии. Но у нас, в Москве, знаю центр, где за тысяч пятнадцать... – кстати, у. е. Я честен? Как вы просили?
– Крайне признателен.
Он осклабился, вздёрнув голову, сыпля блики с двух линз. – Прекрасненько! Начинается суть. Жизнь кончилась. С коррективом увидите, как сирень цветёт. А иначе – черёмуха, дорогой вы мой! Май!.. Что выбрали: нашу клинику? Штаты? или тот центр?
– Я?.. Клинику.
– Славно! Что ж, собирайтесь – и просим милости. Завещание сделайте... В общем, встретимся: случай тонкий, сам буду пользовать; гарантирую!.. – Он, обдав меня ветром, скрылся. А медсестра меня вывела, передав список нужных вещей 'клиентам'.
Дохнущий, я терял социальную и иные ценности; вообще вступал в статус временных... Я брёл лестницей вниз в прострации... и присел на ступени. Был человек – вдруг мёртв. Почти... Миллиарды так, без свидетельства, что их Бог призвал, что они не пропали к чёртовой матери, напрочь, вдребезги!.. Бог не наш. Когда спрашивают, как мог Каин, сын Евы, дескать, 'жениться' и 'породить' потом (то есть как получилось, что, кроме Евы, там были люди), я им: окститесь! это об избранных, остальные не люди, вот как сейчас власть творит своё, плюя в сирых и бедных, точно те мусор. Бог нас не брал в расчёт. Я не верю, что через тыщи лет небрежения Он поможет мне, если даже Христа казнил как радетеля за побочный шлак сборки избранных. Хорошо это, плохо – быть отщепенцем? Есть и хорошее: я свободен, я волен, раз не держусь Его. Нет корысти: Он мне болезнь дал, Он убил первенца; Он меня томил в скудости. Да пошёл Он! Нынче я сам себе, пусть жить месяц... Я, вдохновившись, встал на мосластые и затёкшие ноги и продолжая спуск вниз, вниз по лестнице, типа я нисходил как Бог... Да, Бог, именно! У меня есть ряд избранных: Родион, Береника, сын, Марка, Квасовка, мать, отец... но и первенец близ ракиты... внук ещё!.. И плюс важное, что щемит, но не вспомню... Что свершит пария, бросив Бога? Мой рак как стимул. Кто кого: я успею облечь план в данность – либо смерть съест меня и мной вырыгнет?








