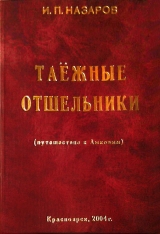
Текст книги "Таежные отшельники"
Автор книги: Игорь Назаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Глава пятая
К Лыковым на новоселье
Еще весной позвонил Н. П. Пролецкий из Абазы и сообщил, что Лыковы благополучно пережили зиму и, более того, перебрались на новое место жительства. Вернее, не на новое, а на старое на реке Еринат, туда, где они жили 43 года назад. Выходит, они все же осуществили свою мечту, которую высказывали прошлый раз и которая нам казалась совершенно невыполнимой. Но как же Агафья с больным и немощным дедом справились с этой задачей? Невероятно! Как Карп Иосифович с больной ногой смог по горам, по снегу, по реке с незамерзающими полыньями пройти путь в 18–20 км? Как Агаша смогла перенести весь скарб на такое расстояние? А приготовить пашню, вырубить для нее деревья? Возникает множество и других вопросов, на которые мы пока не имеем ответа. Но главный вопрос, который интересует, волнует и даже интригует меня: «Как могут, в общем-то, слабые люди перенести такую огромную, просто немыслимую, работу и при этом еще и выжить? Неужели возможности человека, его тела и духа, так беспредельны? И где тот источник, из которого они черпают свой оптимизм и силы?»
И вот мы снова собрались к ним, теперь уже на новое место жительства – на новоселье. В этот раз кроме Льва Степановича Черепанова и меня, в экспедиции будут участвовать Александр Матвеевич Губарев, кинооператор, опытный турист и альпинист, а также доцент Ишимского сельхозинститута Витольд Игнатьевич Шадурский. Он занимается историей земледелия в Сибири и надеется, что у Лыковых сохранился опыт земледелия первопроходцев, осваивавших таежные просторы нашего края.
2 сентября 1987 года. Выезжаем на поезде в Абакан.

Проспав ночь под мерный стук вагонных колес, утром мы в Абакане. К середине дня на автобусе добираемся до Таштыпа и сразу на аэродром. Узнаем, что вскоре к геологам прилетит вертолет. Однако геологи не хотят нас брать, аргументируя это тем, что вертолет уже загружен «под завязку» и взять нас нет возможности. После трудных переговоров с геологами и «очной ставки» с командиром вертолета выясняется, что винтокрылая машина недогружена и свободно может взять нас на борт. В 16 часов загружается в МИ-8 и через 15 минут взят курс на р. Еринат к Лыковым.
Кабина летчика открыта, и я с удивлением смотрю, как они управляются с массой различных ручек, кнопок и рычагов. На магнитофон (черный ящик) надиктованы исходные данные, и полет начался. Сидим, зажатые между какими-то кроватями, досками и бочкой с бензином, которые ждут геологи на Каире. Навстречу поплыли огороды Таштыпа, дороги, поля, а затем и леса. Все ближе горы, на гольцах блестит вечный снег, а на наиболее высоких уже и свежий. Деревья на горах, как в бисере, – покрытые только что выпавшим снегом. Глядя на эти заснеженные вершины и засыпанные снегом деревья, ясно ощущаешь, что зима уже совсем близко.
Чем дальше летим, тем белее горы и леса. Среди заснеженных гор чернеют темной водой озерца. У Черного озера по берегам тоже белое покрывало. Поворотная к Каиру гора вся белехонькая, летим над ней так низко, словно катимся по снегу.
Вот уже и видны домики геологов на Каире. Идем дальше, мелькает сначала нижняя изба Лыковых, а затем и на речке Сак-су. Делаем большой разворот на запад, внизу – незнакомые горы, видно слияние речек Еринат и Курумчука. Вертолет падает вниз между гор и зависает над косой Ерината. Быстро выпрыгиваем на гальку. Вертолет взмывает вверх и уходит на Каир. Становится тихо, только шумит быстрая речка. Озираемся кругом. Избы не видно, но едва заметная тропочка идет вверх по левому берегу Ерината. Пока мы думаем куда идти, на береговом пригорке появляется сгорбленная фигурка Карпа Иосифовича. Радостно идем навстречу. Дед оживлен, радостно блестят глаза, идет быстро, опираясь на посох. Узнает нас с Львом Степановичем, приветствует по имени – отчеству. Знакомим его с остальными участниками экспедиции. «Со прибытием Вас! Добрые люди, однако, прибыли. Милости просим в новую избу», – приглашает нас Карп Иосифович.
Взвалили рюкзаки на плечи, вслед за стариком идем вверх по каменистому руслу реки, освобожденному сейчас от паводковых вод. Через 2–3 минуты входим под стройные сосны и кедры прибрежного леса. По профессиональной привычке сразу отмечаю про себя, что, несмотря на тяжелую травму ноги, перенесенную в прошлом году, Карп Иосифович идет шустро, слегка опираясь на посох, и даже не прихрамывает. Только спина больше согнулась. Значит с ногой у деда все в порядке.
Метров через сто справа от тропинки в глубине леса замечаем красиво сработанный новый лабаз, устроенный высоко на деревьях. Карп Иосифович охотно поясняет, что это первое сооружение, построенное Агафьей на новом месте. «Избушечка» из толстенных бревен поднята метра на четыре над землей и закреплена между стволов деревьев. Конечно, это потребовало от Агафьи огромных усилий и необычайной сноровки. Даже трудно представить, как это хрупкое существо могло справиться с работой, непосильной даже для здоровенного мужчины. Видать, выручила природная смекалка и большой объем практических навыков. Ясно, что именно с лабаза следовало начинать освоение нового жительства – ведь надо же где-то было сохранить от зверя все, что переносилось из старой избы, создать запасы провианта, семенного картофеля и много другого, что так необходимо для жизни, разработки и посадки новых пашен.
Вскоре тропинка от реки начинает круто подниматься на косогор, и мы выходим на ровный пригорок, прямо к свежесрубленной избе, сработанной всего несколько дней назад лесниками по всем правилам таежного строительства. Новое жилье, остро пахнущее смолой, расположенное у восточной стороны полянки. Возле него, привязанный к пню, стоит, наклонив голову, и в возбуждении перебирает ногами козел. Он учуял чужих и мотает головой – кажется, что приветствует нас. Мощные крутые рога его любовно украшены хозяйкой бело-голубой лентой. Новый просторный дом светится на солнце свежими боками и очень эстетично вписывается в обстановку.
Метрах в двадцати на запад от новой избы полянку замыкает малюсенькая, старая, серенькая и наклонившаяся избушечка – подремонтированные остатки прежней избы Лыковых, стоявшей здесь более 40 лет назад. Возле нее привязана коза. С севера высоко в гору уходит созревающий уже огород. Вокруг пашни масса вырубленных и поваленных деревьев. Виден светло-зеленый участочек ржи, грядка гороха и далее в гору далеко-далеко – зелень картошки. Но как же Агаша смогла вырубить столько деревьев и приготовить такую огромную пашню среди тайги? Невероятно! Но факт!..
Карп Иосифович с удовольствием показывает свои новые владения, оживленно жестикулируя руками и посохом. Речь его эмоциональна, глаза горят. По всему видно, что новое место жительства ему по душе, сбылась его мечта, к которой он, вероятно, так долго стремился. По словам деда, новую избу лесники сработали за семь дней, «можно было быстрее, но были праздники». «Ране-то (более сорока лет назад) это место выбрали, попробовав сначала посеять. Где березы-то – земля лучше бывает. Попробовали посеять – больно хорошая земля, родит хорошо, теплей, нет ветров», – поясняет Карп Иосифович.
Агафьи нигде не видно. Оказывается, что она с «Николой» пошла на речку к старой избе, притащить когда-то брошенную геологами железную бочку. Теперь Агафья задумала из нее сделать печку в новой избе. Узнаем от Карпа Иосифовича, что «Никола» – это Николай Алексеевич Линков, как будто бы дальний родственник, который этим летом приехал к Лыковым из Грузии со своей женой Матреной Савельевной, 58 лет. Сейчас она уехала назад, чтобы «доделать по хозяйству, продать дом». Оба они уже на пенсии, одной с Лыковыми веры. «Собираются остаться на зиму жить, обещали помочь убрать урожай» – поясняет дед и добавляет: «Но очень был против Ерофей, еле пробились к нам». Тут же Карп Иосифович высказывает и другие претензии к Ерофею Сазонтовичу Седову: «Ерофей-то льстится к Агафье, потому и людей других не пускает сюда. Даже вас, Игорь Павлович, не известил, что я ногу сломал. Опять же переезжать не помогал, да деньги, присланные нам, прикарманил. Ерофей Агафье-то сказал, что в новой избе вместе жить будут». Не сразу и сообразишь, где правда, а где, возможно, и своеобразная трансформация в голове деда грубоватого юмора Ерофея.
Вскоре, толкая перед собой железную бочку, появилась Агафья с Николаем Алексеевичем. Последний выглядит весьма экзотично и чем-то напоминает лесного гнома. Он маленький, приземистый человек с черными живыми глазами, моложавым лицом и густой седеющей бородой. На ногах загнутые резиновые сапоги, за кушаком – топорик.
Агафья рада несказанно. Тут же бросается рассказывать все перипетии своего перехода на новое место жительства. «Тридцать пять раз ходила, два раза летала на вертолете, много раз ходила на Каир просить вертолет, никак не могла допроситься, чтобы помогли переселиться – и все одна», – говорит Агаша, еще не отдышавшись с дороги. «Ерофей отказался помогать. Только одно слово выправил (сдержал) – помогал дом рубить. После того как таскала (переносила из избы в избу), то две недели на ноги вставать не могла. Ерофей нисколь, никак не помог, даже разругалась. Тогда умолкли-то и все. Поплакала, полежала – до того он меня оскорбил», – скорбным голосом повествует Агафья.
Спохватившись, что еще не показала нам избу, Агаша соскакивает и приглашает пройти: «Избу-то посмотрите. Новая!» Пригнув голову, входим в пахучую смолой избу. Пол еще чистый и светится новыми половицами. В восточной и южной стенах прорублено три окошка, довольно светло. В «красном» углу уже сделана божница на свежеструганной доске. Иконы почищены груздями и сверкают. На полке под божницей аккуратно расположены религиозные книги. Слева от входа заложено из камней основание будущей русской печки. Агаша поясняет, что сегодня принесенная бочка будет разрублена вдоль пополам и послужит сводом для обкладывания ее камнями. Вот какой выход из трудного положения с сооружением печки нашла Агаша! В смекалке и сноровки ей не откажешь. В этой обширной (по сравнению с прежней) избе, источающей древесно-таежный аромат, Лыковым, конечно, будет лучше.
Оказывается, Н. А. Линков в этой избе пока что не живет. Он устроился в старой избушечке, где отдельно от Лыковых молится и проходит испытательный срок. Не исключено, что в чем-то «староверческие» установки и толкования отдельных моментов учения у двух сторон не совпадают, поэтому они пока присматриваются и прислушиваются друг к другу, а молятся – врозь.
Пока хозяева рассказывают нам свои новости и с удовольствием, с какой-то чисто детской радостью, показывают новое хозяйство, Александр Матвеевич уже достал свою фотокамеру и пробует снимать. Но Агафья хорошо слышит треск аппарата и боязливо оглядывается. Кинооператору приходится прятаться за деревьями, за углом дома и даже маскироваться на чердаке избы, уходить дальше в лес или вверх по огороду.
Агаша, посмотрев на небо и кругом, решает, что сегодня ночью может быть заморозок, и торопится «прибрать» (вырвать стебли со стручками) горох. По ходу этого занятия она с охотой отвечает на все, льющиеся как из рога изобилия, вопросы доцента В. И. Шадурского. Видно, что он столкнулся с очень интересными приемами и методами земледелия, а горох Агафьи его просто поражает. Горох очень крупный и «выдюживает» пять градусов мороза. «Я такого еще не видывал», – констатирует Витольд Игнатьевич. К вечеру весь горох убран и Агаша с удовлетворением говорит: «Управились с горохом, слава богу!».
У костра завязывается оживленный разговор, непринужденное, доставляющее всем радость общение «мирских» людей и «таежных робинзонов». Узнаем, что зиму Лыковы перенесли, несмотря на все трудности, сносно. Правда, кашляли, но «не очень». Пользовались травами и мазями, перцовым пластырем и горчичниками, которые мы им оставляли прошлый раз, но таблеток не принимали. Зимой Агаша, вырубая лес под пашню, «порушила» (поранила) палец, так воском и йодом залечивала.
Разговор подтверждает наши предположения, что основными причинами, заставившими Лыковых переселиться на новое место жительства, был не уход их подальше от людей, как многие думают, а истощение пашен и поиск места, где «легче дышится и больше солнца». В этом плане место на Еринате, конечно же, лучше прежнего. Оно расположено значительно ниже над уровнем моря и открыто со всех сторон солнцу, а земля более плодородная – чернозем. Место это закрыто от ветров, особенно надежно – от северных. «Агаша, а скажи честно, уходя сюда, вы не хотели спрятаться от людей, чтобы никто к вам не приходил?» – спрашиваю я. «Да никуда-то нам не деться, сядут на вертолет-то и увидят сразу», – был ответ.
Переезд на новое место потребовал от Лыковых, и в первую очередь от Агафьи, огромных, просто нечеловеческих усилий. Ведь только для того, чтобы перетащить из старой избы все необходимое, Агаше пришлось зимой и весной много-много раз сходить туда и обратно. И это километров двадцать по горам, по снегу, через полыньи на реке, в одиночку, с тяжелым грузом за плечами. А чтобы появилась эта уже созревающая пашня, Агаше пришлось затратить поистине титанический труд. Она приходила сюда за много верст из «северной» избы и ручной «лучковой» пилой спилила и растащила не один десяток сорокалетних деревьев. Она сваливала деревья на склоне горы, затем распиливала их на части и растаскивала, освобождая земли под огород. Чтобы управиться до весны, по словам Агафьи, приходилось работать даже зимними лунными ночами. Представить эту маленькую отважную женщину ночью в мерцающем свете луны, одну среди безбрежной тайги, в трескучие зимние морозы вершащую эту нечеловеческую работу, просто невозможно и жутко!
Огромных усилий от Агафьи потребовало возделывание самой земли и сооружение лабаза. Благо хоть избу помогли построить лесники, за что им большое спасибо. К тому же зимой у Агафьи сильно болел правый глаз, была краснота и опухоль. «Только под ноги маленько-маленько смотреть могла», – рассказывает Агафья. Карп Иосифович перебрался на новое место в конце зимы, шел он по глубокому снегу и горам четверо суток, ночуя на снегу у костра.
Слушаю повествование таежных отшельников, и невольно в голове всплывают неразрешимые вопросы. Но как же Агафья с больным и немощным отцом смогла проделать эту чудовищную работу и преодолеть все препятствия? Невероятно! Как Карп Иосифович с больной ногой смог по глубокому снегу, по горам, по реке с незамерзающими полыньями пройти путь в 18–20 километров? А как они жили вдвоем остаток зимы и весну в малюсенькой (2x2 метра) избушечке, сквозь щели продуваемой всеми верами? Как Агаша смогла перенести весь скарб, семенной картофель и запасы пищи на такое расстояние? И куда в это время смотрели геологи? Неужели нельзя было помочь им «всем миром» и вертолетом? А приготовить пашню и вырубить для нее деревья? Как могут в общем-то физические не сильные люди перенести такую огромную, просто нечеловеческую нагрузку и при этом еще и выжить? Неужели возможности человека, его тела и духа, так беспредельны? И где тот источник, из которого они черпают свой оптимизм и силы? Возникает множество и других вопросов, на которые я не нахожу ответов.

Лыковы рассказывают, что «с весны долго морозы простояли, летом было мало тепла, да и снег выпал рано на горах». Но, не смотря на все это, новая пашня сулит хороший урожай лука, гороха, редьки, репки, ржи и, конечно, картошки. В Еринате, по словам Агафьи, рыба не ловится, а в Курумчуке Ерофей ловил. В общем, Лыковы чрезвычайно довольны новым местом и избой. Они в радужном настроении, на душевном подъеме, живут в предвкушении радостных перемен, хлопот и урожая с новой пашни. «Теперь-то хорошо живем, изба новая, большая, воздух здесь легче, да и пашня родит. Жаль только, жить немного осталось», – спокойно рассуждает Карп Иосифович.
Весь вечер Агаша периодически покашливает, поэтому на ночь налепили ей на грудь перцовый пластырь. Спать устраиваемся в новой, пахнущей смолой избе. Я лег на узенькую лавку под божницей ногами к иконам. Но Агафья возразила: «Так-то негоже. К иконам головой надо, а не ногами». Пришлось исправить ошибку. Спал беспокойно – в голове причудливым образом перемешивались и проплывали картинки из увиденного и услышанного сегодня. Отнюдь не способствовала хорошему сну жесткая и узкая лавка, с которой я все время боялся свалиться.
4 сентября. Лыковы проснулись как всегда в 7 часов. Агаша подтопила печку, начала хлопотать по хозяйству. Вперемешку с молитвой продолжает рассказывать о своем житье-бытье. Вновь с обидой возвращается к Ерофею Сазонтовичу, к тому, что он нисколечко не помог с переездом. А затем с юмором заключает: «Каирские-то мужики говорят, не согрешила-то с ним, вот он и не стал тебе помогать». А сама смеется.
Часов в восемь вышел из избы, картина вокруг совсем другая, чем на прежнем месте. Метрах в двадцати внизу шумит речка, катит свои темные валы. Солнце еще освещает только верхушки гор, внизу по распадкам разлиты темные тона, четко контурирующие лес, отдельные деревья, горы, камни и реку. Южная гора, та, что напротив нас через реку, стоит со сверкающей белой шапкой снега на вершине. Довольно холодно, трава покрыта инеем. Выходит, вчера Агаша была права, опасаясь за горох.
Бегу вниз по реке умываться. Вода обжигает, остатки сна и утренняя вялость вмиг улетучиваются. Без пятнадцати девять из-за восточной горы выплеснулось солнце и все сразу резко изменилось. Речка стала светло-прозрачной с белыми бурунчиками на камнях, горы светло зеленые с размытыми контурами. В этом месте, в отличие от прежнего, солнце, наверное, будет светить целый день.
Возвращаюсь к избе. Агаша уже отмолилась и беседует с членами нашей экспедиции. Завидев меня, говорит: «Лани-то (прошлым годом) для Игоря Павловича деревянный кедровый крестик вырезала», – и пообещала подарить после.
Измерил у Агафьи артериальное давление – 120/70 мм рт. ст., пульс 72 уд. мин., ритмичный хороших качеств.
Часам к одиннадцати завтракаем у костра, который мы утроили на берегу шумливой речки, метрах в ста от избы Лыковых, на месте кострища плотников, возводивших отшельническую «хоромину». Солнце уже высоко и ярко светит. Стало жарко, остаюсь в одной тельняшке. Место очень красивое, шумит река. Сижу лицом к реке и солнцу. За спиной глухой ельник, слева – высокая «курумчукская» гора. Где-то левее, высоко по распадку, старая Лыковская изба на стремительно летящей речке Сок-су, берущей начало с гольца. На юго-востоке распадок, по которому течет река Курумчук, один из истоков Большого Абакана. Прямо против меня, строго на юге расположилась почти треугольная со срезанной вершиной «Туйдайская» гора, а правее – двугорбая «Развильская» высокая гора с вершиной, покрытой белым снегом. Между «треугольной» и «двугорбой» горами течет небольшая речка Туй-Дай, перпендикулярно впадающая в Еринат напротив нас и которую, по словам Агафьи, и считают началом Абакана. На северо-западе видна высокая гора, из-под которой выходит река Еринат. К «Еринатской» горе река подходит почти перпендикулярно, а ударившись в нее, делает поворот под 90 градусов и течет к нам, к тому месту, где мы сейчас сидим.
Подошла к костру Агаша, принесла нам на угощение свою прекрасную картошку, сваренную в мундирах. Завязывается разговор. Оказывается, с этого места Агашу увезли на втором году жизни, и вот она снова здесь. Спрашиваю: «Помнишь ли, как бегала здесь в детстве?» – «Никого не помню». – «А кто у мамы роды принимал, когда ты родилась?» – «Тятя-то». – «А могла бы ты выйти замуж за Ерофея?» – «Ни в коем-то случае. У него уже дети от двух жен. Его сын Николай был у нас. Даже если Ерофей разведется с женой, все равно это будет прелюбодеяние. Жениться страшно. Детей-то, ежели в училище отдать, то потом ничего признавать не будут. Да и годы-то мои уже прошли», – с грустью добавляет Агаша. Далее Агафья жалуется на отца: «Весной по талой воде тятя в одних носках и рубахе бродит и меня не слушает, а по ночам кашлят – разругалась с ним». Удивительно, как всего несколькими словами Агафье удается четко передать суть происходящего и нарисовать яркую картину, живо встающую перед твоими глазами.
Сидим у костра. Вдруг Агафья срывается и бежит к лабазу. Быстро приставлена лестница и Агаша уже внутри лабаза что-то разыскивает. Затем скатывается по лестнице и с улыбкой раскрывает ладонь. А там искусно вырезанный ею из кедра красноватый крестик со всеми полагающимися надписями, изображением креста и головы Адама внизу. Надпись на лицевой стороне: «Царь славы Иесус Христос сын божий», а на теменной – «Кресту твоему поклоняемся Владыка и святое воскресенье твое славим». Далее тут же Агаша стремительно сплела из крепких ниток веревочку – «гайтан», продернула в специальное ушко в крестике и надела мне на шею кедровый талисман. Присутствующий при этом Карп Иосифович одобрительно кивает головой. Я сердечно благодарю Агашу за доброе отношение, за большой ювелирный труд. А дед тут же заводит разговор о вознаграждении мне за лечение: «Ничего нет-то, может, соболька-то жене да дочке?» Я, конечно, отказался категорически: «Человек должен помогать друг другу, а я тем более – врач. Вот я помог вам, и вы сказали спасибо – это для меня радость. И другого мне ничего не надо». – «Да, благодарение господне, а то бы помер я. А Ерофей того и ждал и не хотел вас приглашать». Агафья добавляет: «А я одна-то с ним жить бы не смогла. Ерофей говорил: „Изнасиловать тебя, что ли? Но ведь 15 лет дадут за изнасилование.“ – Вот с ём Ерофеем-то чо!». Хоть Агаша обычно и понимает шутки, но этот «черный» юмор сибирского медведя Ерофея до нее не доходит и, наверное, следовало поберечь ее душу от таких испытаний. Видно, сильно нарушилась дружба Седова с Лыковыми, если они все время возвращаются к этой теме.

Лыковы отмолились и обедают (около двух часов дня), а мы пилим толстенные березы на дрова. Занимаемся этой работой до пяти часов дня. Напилили шесть здоровенных берез. Особенно досталось от огромного березового пня у самой двери избы. Но и его мы одолели – теперь придется Агаше искать новое место для привязывания козла. Вся работа проходит весело, в шутках, в которых активно участвует Агаша. Александр Матвеевич бегает кругом и со всеми возможными и даже невозможными мерами конспирации снимает то на камеру, то на фотоаппарат. Сниматься Агаша по-прежнему боится, а Карп Иосифович воспринимает уже спокойно – не замечает этого или делает вид, что не замечает.
День ярчайший. Тихо, только шумит река. Тепло, хоть загорай. Но у дома много мошки, зато у воды – прекрасно! Как хорошо после работы освежиться этой холоднючей и чистейшей водой. А вкус ее просто изумителен! Кстати, вода в Еринате имеет несколько другой оттенок, чем в Абакане – не светло-зеленоватый, а светло-сероватый. Горное солнце жарко печет, появились бабочки и даже маслята показали свои симпатичные головки среди мха. А на вершине противоположной горы по-прежнему сверкает снег. Вот они, контрасты Саян!
Пока варится обед, я забрался на большой камень среди реки и сижу – блаженствую. Время пять часов, но день еще ярок. Вода шумит на перекатах, как будто ведет беседу с окружающим лесом, горами и со мной. В омутках и затишьях за большими камнями вода отличается темным глянцем и кажется, что там непременно стоит хариус и только и ждет, когда я подброшу ему «мушку». Но брать удочки и двигаться совсем даже не хочется. Вода с убаюкивающим шумом обтекает мой камень и такое блаженство кругом и в душе. Даже мысли замедлили свой бег и кажется, что струйки воды вокруг – это и есть мои приятные, отрешенные от всех земных забот мысли. Погружен в нирвану природы, чудесного дня, подаренного мне жизнью.
Но вот окрик «Иди обедать!» выводит меня из этого блаженного состояния и, приподняв бродни, плетусь к костру. К обеду на десерт Агаша принесла свой удивительно вкусный ржаной квас. И вновь пошли разговоры и воспоминания: как перетаскивалась, как Карп Иосифович шел четыре дня с ночевками на снегу, как ездила в гости в Киленское и прочее.
Витольду Игнатьевичу Агаша рассказывает всю свою технологию земледелия – что, где, когда и как садить, и убирать, возделывать и хранить. Перед этим Витольд Игнатьевич облазил по горам все пашни Лыковых, внимательнейшим образом осмотрел их, замерил. А сейчас ведет «аграрные» разговоры и в восторге от глубоких знаний и умений таежных отшельников. Их разговор идет «на одном языке», они с полуслова понимают друг друга. Слышится множество подробностей о посевах гороха, озимой ржи и прочего. Многое наш ученый муж записывает в свой блокнот, дабы сохранить этот ценный народный опыт. А опыт в этом деле у них просто огромен, я даже не мог и представить.
С большим интересом прислушиваюсь к разговору Витольда Игнатьевича с Лыковыми и открываю для себя «неизвестные острова». Например, Лыковы знают, что в местах, где растут березы, ивы и осины, земля хорошо родит, она плодороднее, чем на других таежных участках. Поэтому признаку около пятидесяти лет назад брат Карпа Иосифовича Евдоким и выбрал место для пашни на Еринате. Проверка показала, что почва рыхлая, хорошо прогревается на солнце, так как расположена на южном, открытом для солнца, склоне. Пробные посадки подтвердили правильность выбора. Но чтобы это место превратилось в пашни, нужен был еще огромный труд.
Карп Иосифович выкорчевывал вековые березы, но делал это с умом и экономно, не тратя лишних усилий. Он не торопился спилить большое дерево, а затем выкорчевывать огромный пень с разветвленной сетью корней. Он поступал более мудро, очищал от земли корни, некоторые наиболее крупные подрубал, а остальное доделывал ветер и наклонный склон горы. Изредка помогал и аркан, наброшенный на верхушку дерева. Сваленные деревья скатывались по косогору вниз. Но расчистка склонов от деревьев еще не решала проблему. Нужно было вспахать раскорчеванный участок. Лошадей и плуга не было, да на таком крутом склоне они бы и оказались бесполезными. Потому Лыков отковал мотыгу и насадил ее на нужным образом изогнутый березовый черенок. При этом размеры и формы мотыг были разными в зависимости от почвы, на которой приходилось работать. На твердых, не проработанных почвах оказалась более целесообразной крупная и широкая мотыга, на мягких – более легкая и узкая. По мнению Витольда Игнатьевича, переход от пашенного земледелия к мотыжному в этих условиях – это прогресс и свидетельство таланта русского крестьянина, осваивающего таежные просторы в сложнейших агроклиматических условиях.
Первые посадки картофеля на небольшом участке возделанной пашни показали плодородность данной земли: из девяти посаженых ведер картошки Карп Иосифович собрал в восемь раз больше. Одновременно, пока он жил во временной землянке и осваивал новое место, были установлены и природные факторы, влияющие на земледелие – заморозки возможны до первых чисел июня, а осенью возобновляются в начале сентября. На следующий год огород уже был расширен, а посадка картофеля возросла до 50 ведер. Урожай составил 470 ведер, собрано было и 330 ведер репки, 50 ведер отменного гороха. Это решило вопрос о переселении на Еринате всей Лыковской семьи, в которой в то время было уже трое детей – Савин, Наталья и Дмитрий. Вскоре на месте землянки начала расти новая изба.
В первый же год жизни на новом месте, Лыковы обнаружили среди порослей гороха случайный колосок пшеницы и ячменя. Цепкая память Карпа Иосифовича четко зафиксировала, что в первом колоске пшеницы было 30 зерен, а в ячменном колоске – 25. На отдельных участках в течение 5 лет старательно разводилась пшеница и ячмень, причем для посевов отбирались лучшие колосья, а в них ядреные зерна, которые по наблюдениям Карпа Иосифовича находятся в середине колоса. Хлебные посевы стерегли как зеницу ока. Семена хранили по всем правилам в тряпичных мешочках и берестяных туесках «на воздухе».
Вот и сейчас Витольд Игнатьевич обнаружил в запасниках Лыковых семена Голозерного и Обыкновенного старорусского ячменя, Обыкновенной пшеницы, озимой ржи, «мозгового» гороха, репы, брюквы, конских бобов, льна, конопли, лука-ботуна. По мнению доцента сельхознаук, это богатейший генофонд для селекционеров. Например, здешний горох имеет 25–30 стручков по 7–8 больших горошин в каждом на одном стебле и значительно превосходит по урожайности селекционные сорта. Горох, по наблюдениям Лыковых, «питательный», нетребовательный к плодородным землям, не боится заморозков и его можно высевать весной первым, после него лучше родятся другие таежные овощи. На грядках Лыковых находят место и бобы. Горох и бобы отшельники едят зелеными и вареными.
Среди зерновых Лыковы предпочитают выращивать озимую рожь, так как она меньше страдает от заморозков, хорошо переносит жару и засуху, не требовательна к почве. В связи с нехваткой рабочих рук, существенно было и то, что озимую рожь убирают среди лета, когда другие культуры еще не созрели. Ячмень у Лыковых тоже в почете – он не требователен к теплу, почве, быстро созревает и дает хороший урожай. Пшеницу Лыковы считают ненадежной – она менее устойчива к холодам, требует плодородных почв. Но они прилагали все усилия, чтобы и ее сохранить в своем арсенале.
Слушая этот поток народной мудрости и удивляясь смекалке и наблюдательности Лыковых, тому, как они легко понимают сложные вопросы Шадурского, я тоже решил внести ясность и сдуру ляпнул: «Агаша, а как вы выращивали овес?» На секунду на её лице появилось недоумение, а затем глаза засветились лукавством и ответ ее загнал меня в краску: «Никого-то не выращивали – скота-то у нас нет».
Далее узнаем, что «ране» Лыковы пытались выращивать «полезную» капусту, но у них ничего не вышло, так как не могли сохранить свежие качаны до посадки. Они сгнивали или замерзали, а получить семена не могли. Так капуста у них и «перевелась». Карп Иосифович из своего прежнего «мирского» опыта знает о существовании огурцов, но выращиванием их не занимался ввиду отсутствия навоза для грядок. Вместо чеснока Лыковы пользовались таежной черемшой, а вот лук выращивали сами, как в виде луковиц, так и зеленых перьев. Кстати, по наблюдением отшельников, если слои картофеля на зиму пересыпать шелухой от лука, то он хорошо и долго хранятся. Вот так, ничего не зная о фитонцидах, они опытным путем нашли средство от порчи картофеля.
Одним из любимых и выращиваемых овощей Лыковых была репка. Агаша уже не раз угощала нас этим сочным, вкусным и полезным продуктом их огорода. Заготавливали репку Лыковы в больших количествах (по 300–330 ведер) и употребляли в пищу свежей, тушеной и печеной в течение всего года. Кроме того, есть в их арсенале морковь, свекла, брюква и редька. Все тонкости посадки, выращивания, хранения и приготовления этих овощей известны Лыковым досконально.








