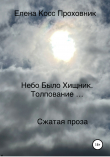Текст книги "Лоскутная философия (СИ)"
Автор книги: Игорь Олен
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Разум наш не поймёт вполне ни одну мысль и чувство: их концы в небе. Если наш разум как-то и сделал вид, что постиг всё, ― значит, он попросту отделил часть от целого и прервал связи с горним, чем заглушил зов высшего и язык трансцендентного. У Чайковского всё линейно и просто: боли без примесей, скажем, света. Больно, и всё тут. Трудно оформить Жизнь целокупно, как Бах и Моцарт. Но если вырвать клок – то легко сжарить ростбиф. Вот у ровесника мэтра, Брамса, – смутная, невместимая смесь эмоций, как оно в жизни, где понять трудно, да и не стоит, ни одну правду. Брамс – это хаос, в коем он скачет вдумчивой щепкой, чтоб раз, – единственный за весь опус – выплыть вдруг с ясной артикуляцией, но стыдясь её простоты. У великих гармония полихромна и путана, обертонна, контрапунктична. Наш П. И. ― одномерен. И монохромен. Он мелодист. От плоскости чувств и мыслей (можно страдать как Шпонькин, можно – как Достоевский), он и мелодии пишет ясные, ибо ведает, в чём есть зло и добро. Всезнание гонит сложность, портящую красивость. Он, как Бизе, альтер-эго его в эстетическо-нравственном, рубит жизнь, отсекая причудливость хаотических связей, – и выдаёт чёрно-белый, слаженный, внятный ясный продукт, отчётливый, ординарный, пусть и не пошлый, но пошловатый.
Брамс – это море. П. И. – макрель в нём, славная, но лишь рыба. Хочешь взгрустнуть чуть-чуть, а не то "пострадать" чуть-чуть меж чувствительных, в декольте и надушенных дам – к Чайковскому. Он подаст блюдо вкусное, с благовидною позой и без эксцессов. В нём нет контекста; текст есть, и сильный; но – нет контекста, нет обертонов, реминисценций и недомолвок. Что примечательно, мэтр говаривал, что он Брамса не любит. Там, мол, где надо бы, разъяснял П. И., длить мелодию, акцентировать и варьировать, дабы эту мелодию сделать выпуклей, выдать все её краски, всё содержание, Брамс срывается, переходит к другому (чтоб явить, мы дополним, много иного). П. И. Чайковскому так не нравится. Оттого мелос Брамса – сложная топика, в каждой пяди которой массы мелодики, из какой можно сделать вещь в П. И.-стиле, плоском в той мере, сколь и бравурном. В Брамсе зародыши всех мелодий. Contra – Чайковский с милыми, однозначными темами, видимыми до дна.
Он очень люб всемству. Слаб сброд, не терпит многообразий, сброд в них теряется. Потому есть чайковские, кустари, подающие лёгкие и удобоваримые блюда, без наслоений в них. Оттого-то Чайковский не сокрушает (разве что девушек). Оттого-то смешон порой, ибо искренен, как Ставрогин в злодействах. Как верить опусам с утомительным проведением двух-трёх тем, отражающих скудость психики? Барабаны гремят, трубы в рёв ревут... Ан, не Жизнь и не Бог в них и не высоты, сходно не пафос, но лишь патетика, рафинад один, об какой не сломаешь зуб и какой не пахнёт вдруг истиной. Всё красиво, слишком красиво, дабы быть правдой. Мелос маэстро – фрак, что застёгнут до ворота. Мелос Брамса не фрак; в Брамсе ходишь от первого до последнего такта голым, как уродился; фрак тебе – универсум.
199
Что я работаю над одним как бы текстом? Так как я знаю: всё в становлении, ничего нет статичного, зрелого. Всё в движении: страсть, энергии и эпохи, даже и камень. Всё течёт, уточняясь, высясь и ширясь, – тем освящаясь, ибо становится ближе к Богу. Будет миг, когда текст запоёт, что значит, что он не семы впредь, не фонемы, но песня истин.
200
"Борджиа". Сериал про семь смертных грехов "злого" папы. Будут смотреть.
Постыдно. В этом весь казус падшего человека. Надо ведь не смотреть как раз.
201
Про Каабу. Дьявольский символ – это кружение подле камня белых роений, сей акт дигрессии, атрофии мышления, торжества суеверия, нетерпимости к Жизни нерепрессивной, без угнетателей и рабов, пугающей грехопадный мир неприсутствием кровопийственных человеческих склонностей, что мертвят живых, вяжут их по рукам-ногам, чтобы кинуть в прах перед фикцией, пресекающей чёрным слаженным рёвом светлое пение.
202
Вы столкнулись с горячечным пониманием жизни, всей, целокупной. Здесь t⁰ повышена. Я, внутри себя, "или – или". Знаю дела твои; не горяч и не холоден. Если б ты был горяч иль холоден! Но поскольку ты тёпел лишь, не горяч и не холоден, то извергнешься ты из уст Моих" (Откр.3:15-16). Для меня они истинны – вот такие рефлексии. Вывих мозга? Пусть, слава Богу (дьяволу, если он маска Бога). Я даже рад тому. Ибо чувствую за сто миль обочь, даже градус любви в Эдеме, – то, как должно быть. Хай меня – прежде вспомнив собаку; с ней у нас равные, непомерные восприятия и любви, и вражды, и жизни. Чтó мы утратили, если даже собака учит нас должной, подлинной мере?
203
Честь впредь – в возвышенном.
204
Бронзовеет лик власти, если заходит речь о достоинстве, чести, славе, патриотизме, важности человеческой жизни – этих "священных" якобы "ценностях". В телешоу иной вождь так разольётся вдруг о великих "сакральностях" вроде крымской весны, что слезу струит.
Но никто в эти ценности – странный факт – не плюёт лучше власти. Есть закон об отсрочке от армии "молодым бизнесменам", кои "приносят обществу пользу". Всяк поймёт, что "отсрочку" легко продлить в неслуживость. Также всем ясно, что обозначенный "молодой" делец будет отпрыском властных. Дети и внуки их – сплошь в начальниках крупных компаний, в членах Госдумы или Генштаба. Вот как "священный долг", умиляющий власти, вдруг превращается для них в "пользу". Впрочем, отлично. Важно не то, что теперь долг защиты отечества обретает вновь классовый, социальный характер и превращается в штамп ненужности тех, что идут служить, так как "пользы" в них нету. Главное – с какой лёгкостью все "сакральности" переходят в обратное. Рассуждая логически, все "священные ценности" назначаются выгодой: cui prodest?
То есть их нет, да?
205
С Ницше нельзя быть, не заражаясь возвышенным складом мысли.
206
Понял: "нормальное" – никакое. "Норма" – метафора первородных грехов, уродства (в нашей патристике вдоволь про, мол, естественный сексуальный разлом, к примеру). Но homo sapiens неуёмное, слава Богу, творение, у какого, в отличие от других существ, всё выходит за рамки, в том числе восприятие, чувства, мысли. Это потенция для того, чтоб когда-нибудь, бросив физику, выйти к Богу как в метафизику. Есть, кто любит нимфеток, кто нарциссист, агендер. В сих "ненормальных" больше священного, чем в бесчисленных "настоящих мужчинах" и в их "давалках".
207
Тошно быть тысячной и стотысячной тенью от Авраама. Я – делец вечный, жид то есть вечный. Я не потомок в сотом колене после какого-то древнеримского плебса, но и не эллин. Я иудей... Не в этом суть. У меня, кстати, много сот лямов. Грабь меня, я не буду в убытке. Я умру рóтшильдом, и схоронят меня в эвкалиптовом склепе на Новодевичьем, под большим могендóвидом. Шёл я тут – и вдруг вникнул в историю: всё круги. А меж тем есть мысль, что история – самоцель. Библейская мысль, святая. Библия освятила историю? То есть – sic! – освятила деяния в первородном грехе? И, стало быть, вся история суть деяния в первородном грехе?! Но святости я не вижу. Вижу: как было – так и идёт. Мне проще: я народ Божий, я опекаем. Библия – мой житейник. Мир вообще – это мой мир, мир иудеев. Нам даже смерть проста: родились в Боге – в Бога и канем. Но наша слабость – в Экклезиасте. Знания тщетны, знал он. Стало быть, иудейские знания, глубочайшие, эталон тщеты?! Миру – шесть тысяч лет, по-нашему. Христианскому ж миру – семь. Что значит? Что ваш мир древле? Типа, смирение паче гордости? Чтоб признать иудейского Яхве, но намекнуть притом, что есть нечто постарше? Вроде, что ваш Христос – не от Яхве? Вроде, не взялся Он от столь юного, как тот Яхве? Вот фишка русскости: что-то, мол, там, за Яхве. Здесь, мол, ваш Яхве, ну а до Яхве – там пусть вся правда. Вот она, русскость. Ваш Достоевский многого стоит... И я, чёрт, маюсь сей "Das Russentum" . Мне Яхве мало следом за вами. Ибо я чую, что общепринятый "добрый малый", "альфа-самец", "мужчина" и "супер-пупер" вроде меня – ракалия. За началом бы высмотреть мне, за Библией! Тренд сейчас, что грабёж – путь единственный для новейшей России для отнимания у сограждан на, дескать, бизнес, ведь при застое деньги брать негде. Общества, где таким трендам вольно, чтимы, ну, а где тесно – косные, догонять должны. Се идея, так уж придумали. Но замолчано, что конфеточность, когда добрые Фридман с Ротшильдом или добрая Англия и прекрасные Штаты сильные оттого, что нищают народы, – эта конфеточность до поры. Надумают вдруг народы, что неконфеточно, чтоб они прозябали; что люди – братья; также что надобна liberté ; плюс вымыслят, что богатство греховно и что Христос тень Яхве, а Аллах высший; главное, после смерти лишь тление и что всё, значит, здесь, не где-то, – и учинят бунт новый, новый Октябрь. Вот русскость, или игильство, или же кромвельство с робеспьерами, или гунны с вандалами, или Третий какой-нибудь вечный Рейх... Чёрт, я причём, иудей с завещанием, что всё к славе Израиля? я причём?! Чтó не делаю, чтоб не быть персонажем вечного кругового сценария, чтоб спрямить-таки цикл? Я давно в себе слышу нечто тревожное. Ели плод от эдемского змея, – врёт во мне нечто. Разум ваш тщетный, – врёт во мне нечто. Вам во кругах быть вечных повторов и рецидивов прежде избытого, в путах зла и добра, сгубивших вас, обративших вас в зомби, – врёт во мне нечто. Худо мне! Пусть же истина, кою, мол, до Иеговы, родила ваша русскость, прянет – и сокрушит круги. Изрыгнём плод познания. Из грехов первородных – вон пора.
208
Гитлер не был дебилом. Ведь в этом случае нам пришлось бы тожественно счесть дебилами Моцарта, Македонского, Ал. Матросова, Штирнера, Чингиз-хана, Гагарина, Прометея, Моххáмеда и Плотина и всех подобных им необычных, а к человечеству отнести лишь массы, скорые пить, жрать, подличать и пошли́ть. Великое насаждают; сброд принимает участие в этом с ленью (но всё же мнит себя человечеством, хоть такие претензии впору только героям, к коим сброд приписал себя).
Гитлер, тщившийся претворить цель Бога, был в большей степени человек, чем массы. Он звал филистерский сброд к свершениям по ту сторону от "добра" и от "зла", где физика прекращается. Смерть, явила Голгофа, – малая плата, чтоб изменить мир. Бог-Отец кровью Сына некогда искупал нас – сходно и Гитлер с плотью и кровью влёк с гомо сапиенс "ризы кожаные" греховности. И чтó звали разгулом "сверхчеловека", нового варвара и Атиллы, силой берущего славу мира, топчащего культуру, было лишь кáтарсис от томительных, умерщвляющих вековых лживых символов и табý, обеспечивших шáбаш свинства, мелочного расчёта, ханжеской благовидности, ограниченности, добронравной корысти, подлости, серости и ничтожества. Он стремился к истокам, осознавая: счастье помимо целей культуры; можно быть нравственным, высокообразованным, умным, светским – но не счастливым, но не здоровым духом и телом. Снять антиномию между целью культуры и целью счастья – вот в чём нужда была. Предстояло создать людей, что отважатся изменять себя; ведь великое ищет большего, вся вселенная дом великого. Сжат культурными рамками, человек, сломав стены, должен был вышагнуть к первозданным, истинным мерам мыслей и чувств, к божественным.
Вот что силился Гитлер, – в пику деяниям, что вершил Бонапарт либо наш Пётр Первый, фюреры новей, губящих род людской. Он творил всё с неистовством, адекватным безумию, что считалось бы мудростью в сфере нравов богов, в сверхфизике. Его действия были contra Сократу, кто звал к "добру", ведь Гитлер, рушащий фикции, направлял всех ко "злу", считай. А "добро" наше, кстати, – "зло" в духе истины; есть такой род хулы, что для Бога как глория. Гитлер бросил всю нацию на борьбу с миром прежней культуры, в ходе которой вырос бы новый тип. Немцы начали штурм в сознании, что раз мир есть "добро" человечества, то война – благо Бога ("Gott mit uns"). В сей борьбе немцы поняли: можно быть выше всех, даже выше себя самих прежних, сдавшихся, сломленных; нормы, догмы, законы, поняли немцы, не правомерней битв за господство, что есть свобода. Нация видела, что комфорт прежних ценностей заменяется чувством, родственным счастью...
Вновь, как знать, нам давался шанс, – нам, всему человечеству, – смыть грех Евы с Адамом. И ради этого надо было вести себя ненормально, парадоксально – будто Христос в свой век, Кто принёс весть об истинном в ту среду, о которой объявлено: всяк есть ложь (Пс. 115, 2), ибо плоть не та, да и дух не тот после древа познания. Надо было из фикций – в подлинность. Что же вышло?
Нация, может, первая во всемирной культуре, взять музыкантов либо философов (Кант, Бах, Брамс, Ницше, Гегель), и превосходная силой жизни, – немцы не вынесли напряжения, предпочли пусть кровавому, но великому маршу участь филистеров, вновь вернулись к былому, не превзошли себя, – и их миссию пересилили русские. "Да не мыслите, что принёс мир на землю; Я принёс меч сюда; разделю человека с отцом его, и дочь с матерью", – рек Христос, знавший: Жизнь грядёт в муках, – и ставший Сам виновником мятежей, смут, войн.
Гитлер будет в позднейшем назван героем. Ведь не мешают же анормальные, по всем меркам, речи Спасителя и престранные, некультурные выходки почитать Его Богом, а иудеям ― чтить Авраама, чуть не казнившего, помним, сына, и торговавшего, помним, Саррой? или Нави́на, бившего всех врагов миллионами? И ислам чтит Пророка, звавшего к войнам и воевавшего. Что-то явно ведёт людьми в их прасущности. Первозданный тип (он мужчина ли, женщина, мы не знаем) должен быть восстановлен. Это возможно лишь через кровь. И смерть. Первозданное быть должно восстановлено.
Холить род людской? Но зачем? Если он мучит Бога как на Голгофе, так и внутри себя – чтó тогда человек? чтó ценно в нём?
209
Мусульмане мнят: власть исламу вернут джихады. То есть исламский рай грядёт с кровью. И христианам стыдно чураться, как прокажённого, говорящих, что возрождение будет страшно. Царствие Божие, как предрёк Христос, явят беды. "Ибо восстанет род на род, князь на князя, и будут моры, землетрясения. Будут вас убивать, преследовать. И начнут предавать друг друга и ненавидеть. Горе беременным и питающим из сосцов в те дни! Будет скорбь, какой не было от начала доныне, но и не будет" (Мат. 24, 7-21).
Для чего так?
Чтоб избыть фальшь. А в чём она? Если сам Адам создан Богом, род его порождён был делом Адама, кое патристика (бл. Августин и прочие) мнила "похотью", "произволом", "самоуправством", несоблюдением воли Бога; значит, дела людей, – что неистинны как потомство Адама, – тоже ложь, каковая погибнет, как всё на свете не первозданное, но возникшее в падшем статусе. Возражают, что, дескать, Бог велел, чтоб плодились и множились. Вспомним песню, однако: мать поёт чаду о его судьбах: "будешь ты чиновник с виду и подлец душой". Это в той связи, что ехидное Богово: "наполняйте мир, царствуйте и над рыбами, и над всяким животным", – днесь представляется постижением Богом свинства, что мы устроили и с собою, и с миром.
Страшный парад из войн, где народы казнят друг друга, варево рыночных и этических деланий с Рафаэлем в одном конце и Герни́кой в другом, с Уолл-стритом в Манхэттене и фавелами в Рио; жуть проткнутых гарпунами китов, треск спиленных чащ, визг лис, обдираемых в мех, плач брошенных кошек etc. от культуры, коя, калеча жизнь, думает, что её улучшает, суть плод Адамовой похотливой активности (после действий над Евою) в сокрушённом эдеме. Вспомнивши это, нужно свитийствовать в духе Гегеля, отобедавшего после пафосных лекций: "Действительное – разумно".
210
Нас обвиняют в мегаломании, в гипертрофике чувства. Смотрим на всё, мол, глазом навыкат, речь наша взвинчена, тексты пишем-де в титулах, ворожим апокалипсис. А мир, в общем, нормален. Есть, правда, мелочь: пошлость, насилие, шкуродёрство, кровь, смерть, бессчастие... – но не надо гипербол, надо нормально.
Мы несогласны. Мы ненормальные. Мы реликты титанов, в нас меры вечного, дух вселенной. Мы будем в ор кричать, изо ртов наших будет течь пена, ибо мы видим, что мир над пропастью. Мы на всё пойдём, мы сравнимся с безумцами, мы дадим в себя в жертву вашим проклятиям, ибо ведаем: чтобы сдвинуть мир, надо кончить Голгофой.
211
Юмор философов: "Ваш Бизе лишь подтирка, употреблённая Ницше по случаю облегчения Вагнером!"
212
Дочь Не тоскуй, не депрессуй,
в депрессии а живи, Лисёнок.
И не уплывай за буй
к страшным лестригонам.
Ты нужна сама себе,
пусть кругом ненастье.
И к отчаянной судьбе
вдруг приходит счастье.
213
Но почему им так сложно – до суицидов? Девственный мозг знал Бога. Девственница могла б сказать! Но не скажет. Безмерное не раскроешь в мерном. В царствии "cogito ergo sum" девственное презренно. Здесь чтó неназвано, не осмысленно – то не есть. Девство склонно к лесбийству как к сохранению самоё себя, как порыв к ненасильственному блаженству. То есть в лесбийстве – гибель мужского, сущность которого в подавлении, в низведении мира в данники. Так, Цветаеву гнали за фимиам лесбийству. Чтили Ахматову, тень мужского, певшую на навязанном дискурсе матери и любовницы. Эти женщины суть два лика – падшего и эдемского. М не даст шансов Ж изначальной, до-грехопадной. Что сказал св. Амвросий? Что, если Ж возжелает служить Христу, пусть не будет впредь женщиной, а зовётся мужчиной.
"Как живётся вам с сто-тысячной -
вам, познавшему Лилит!
Рыночною новизною
сыты ли? К волшбам остыв,
как живётся вам с земною
Женщиною, без шестых
чувств?
Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин -
как живётся, милый?"
Ради «провала» влагалища без «глубин», – читаем, – М кроет женское, повторяя древнейший акт «познаванья» Евы Адамом. Это трагедия, что является к девочкам в ранящем неестественном опыте. И они меж «оно» в себе и «сверхъя» мятутся. Вплоть что до смерти.
214
Активизируем обыдление троллингом и иным провокатингом. Поиграем с Кр., как играет он с нами, СМИ-кая преданных лживых ртов. И пусть быдло узрит себя, точно в зеркале. А с учётом того, что Кр. – образ России как она есть сейчас, мы поможем тем самым ей в обыдленьи, столь ей любезном.
215
Жуткий инстинкт – мертвить – рыщет в нас, приучая к возможному... к директивному в человечестве! Не инстинкт, кстати, это, – а это умысел жизнь не чтить. Убиение, дескать, истинно, нам внушает сей умысел; душам, дескать, ничто, если плоть убить; души вечные! Тут почтение вдруг к душе как к высшему – парадокс, упростивший смерть; плоть не значит, мол, коль в душе вся суть. От Адама, кто начал смерть первородным грехом, мы в Каине укрепили тренд и должны, как он, убивать, чтоб быть. Ибо мы в руце Господа, но и в самокоррекции, когда нас губит равный нам, находя оправдание в несвершённости и эскизности, некомплектности, полу– (стало быть) фабрикатности нашей. В терминах это: "вы-блядок", "недо-делок", прочие "недо-". Наш Достоевский когда ещё: "недоделанные", знал, "пробные существа к насмешке". Мы разделяемся на благих и злых, а конкретней: очень благих (и злых) и не очень благих (злых). Каждый миг мы в развитии. В каждый данный миг, заключаем, есть лишь один в лад Богу, самый продвинутый. От него и потомства, с ним и контачит Бог, ему манна и слава и честь Израиля. К миллиардам других "недо-" нет интереса; варятся без догляда, ибо суть шлак. Поэтому не затем ли мы, "недо-", взвинчены в тёрках с Богом и громоздим свой мир Ему в пику? В общем, покамест Бог с избранным, с самым первым из развитых, апгрейдованных, ваньки варятся и не ведают, что они – не нужны. Истории отведён люд Бóгов, то есть Израиль, что б он ни делал.
Тут-то и трюк с Христом! Снизошёл-де Бог к ванькам, им "обещал" фавор, если будут с усердием жизнь в слова сводить, ибо Бог – это Слово-де, а жизнь так, несуразица. Для чего ванькам надо молиться и грезить Словом где-нибудь в пýстыни. Бог, лелея "народ святой" и ему вменив землю, прочим даст после. Есть "народ избранный" – и весь прочий брак, что с Христом. Я плод Ветхой и Новой Книг, обращающих в муку, и, дабы вырваться, нужно выбрать: либо я иудей (незваный), либо юродивый.
Только, может быть, ничегошеньки нет? Пространственно-временная иллюзия? Нам показывают, а мы видим-де?.. Чепуха! Мне б думать, где зарабатывать, – вот куда мысль слать... Ан, слать и некуда. Ничего нет. Есть лишь пространственно-временная иллюзия. Нам показывают, а мы видим-де – вот трюк...
Мы не в реальности, мы во лжи болтологии; и давно уже, с первородных грехов... Евангелье есть попытка отвлечь нас или убрать совсем – в пустословие. Холя избранных, Бог отверженным, нам, даст после, – там, в послежизни, мол. Бог внушает не лезть в историю, коя – избранным. Нам – синóпсисы (своды фактов): греческий, вавилонский, коммунистический. А что факты? Это суть прах один, хоть какой бери либо выдумай. И Христос, кстати, Сам признал, что пришёл ради избранных (Мф. 15, 24). Не про нас опять. Он в соблазн нам был, чтоб за Ним брели к мóрокам. Дескать, вам – как Израилю: ему Ветхий Завет – вам Новый. Только Евангелье опирать на преамбулу, где Израиль – "род избранных".
Здесь споткнулась Россия. Дура Россия! Как обманулась! Вверилась, что сокровища в небе, что, дескать, честь-хвала нищей духом быть, кроткой, плачущей – вплоть до савана, кой начало блаженства. Запад иначе: там не пойдут с Христом, не устроив земного. Мы вымираем. Нам смертоносно мерить жизнь Библией; лишь в пустыню шагаем мы с ней. Смерть в Библии! иссякаем! Надо – в до-Бибельность, там ответ и жизнь в истине.
Но вот как туда?
216
Толкований, что же такое есть философия, много. Выборка:
самый важный долг человека;
дискурс о смыслах, форма сознания высшей меры;
искусство творить концепты;
учение о корнях всего;
трансцендирующее усилие;
жизнь на грани мышления;
адекватный вид абсолютной предметности.
Правильной представляется эта вот дефиниция (от Платона), что философия занята "умиранием". Философия, подтвердил Монтень, – "обучение смерти". Если душа бессмертна, то, в этом случае, как мать учит дитя ходить, точно так философия держит душу на пóмочах и готовит к Инакому. Кто в земном слеп – тот слеп в духовном. Странно надеяться, что без школы духовного зрения преуспеешь за гробом. С этими целями в католичестве есть чистилище, где готовят для вечности. Жизнь, земная жизнь – недокончена, и нельзя сказать, кто счастливец или несчастлив. Даже земной путь странен. Будь дворянин Бонапарт на Корсике, не отправься во Францию – обойдён бы был там Паóли, местным кумиром. Также не будь войны, Б. Сафонов, дважды герой, асс-лётчик, жил бы в деревне и трактористил бы, а не то бы в тюрьму попал из-за склада характера. Неизвестно, что спасло Шуберта, кой прославился много лет спустя после смерти.
Кто говорит: "Я счастлив", – это неправда. Пусть ты богат, здоров – важно, чем кончишь. Царь Крёз понять не мог, почему Солон, премудрейший из греков, не полагал его жизнь блестящей. "Важно, чем кончишь", – рек Солон. Вскоре персы убили этого Крёза страшною смертью.
В общем, ничья судьба не счастливая, а равно и не горькая вплоть до смерти, так мыслят мудрые. Ни о ком, дополняю, нельзя судить, не узрев его за пределами смерти, кою осилит лишь философия, поводырь вечной жизни. Как ведь бывает: кончил с оркестром на Новодевичьем – а на том свете скот пасёт на отшибе и всяк и плюёт в него.
Философствуйте.
217
Amor fati Выйди к спасению
сквозь смятение.
Успокоение -
не тебе.
Ночь отречения -
век мучения
и возвышения.
Так в судьбе.
218
Я умру у врат мира, изгнан людьми и лишён Богом крыльев, чтоб не взлетел к Нему.
219
Милых всемству интервьюируют. Z сказал, что, мол, всё в жизни сделал как полагается: чад завёл, дом построил, "музыку" пишет, вырастил дерево... Прервала позвонившая, прорыдавшая, что его, шоумена, любит, пусть "творит дальше", "гений навечно". Тот похохатывал... Щёлкнув кнопками, я нашёл сюжет с женским голосом, и поток страстных слов захлестнул эфир. Мнилась Áргерих, Г. Вишневская, Каллас. Слышалось об "утратах в сфере искусства", о "суггестивности", "дурновкусии", о "безмерности трансцендентных анализов", о "духовности", "эстетических высях", "символах" и "культурных царственных шлейфах", что, дескать, "коротки" у значительной части авторов, а то вовсе отсутствует; также слышалось: Скотт, Феллини... Интервьюер спросил о концерте, что предстоит Москве. Женский голос молчал, и долго, вплоть до подсказки:
– Я вам о классике: Скрябин, Брамс, Шостакович. ... Слышали? Это ваше?
– Нет. Я хип-хоп люблю.
Стало ясно, из каковых она, почему популярна и о каких "шлейфах" речь.
Так хрюкало, притворясь утончённым, сыплет сакральным – и вдруг немеет, стоит сакральному взяться вправду.
220
Что нам Искусство (Баха, Сервантеса, Ницше, Пушкина, уточняю; мир прост настолько, что вздумают, речь о Галкиных либо Малкиных)?
В чём Искусство?
Что нам Растрелли, Данте и Глинка? Что они требуют? Сверхъперцепции. Ведь параметры чувств и мыслей в высшем Искусстве – это не куцость, коей дрянь урезáла нас, добиваясь, скорей всего, чтоб ментальные и иные способности скисли и чтоб какой-нибудь плоский пакостный шлягер выглядел истиной, а воздействие горнего нас вгоняло бы в ступор и представлялось оторванным от нужд жизни, стылым, бессмысленным и пугающим. Так от грома мы прячемся, кроя темя руками.
То есть Искусство – зов изначального, степень рая, где мы могли вмещать сверх-аффекты. Бог сотворил нас под образ Свой – но мы влезли в щель меж "добром" и "злом", где тупели, слепли и глохли собственной волей и упростились, так что "тра-ля" теперь лучше Моцарта. Не снесли мы безмерного. Но с Искусством тщимся опять к богам.
Выше крылья! Горé сердца!
221
Нам выносят мозг детективами, научая победам в "истинном и единственном" мире, где предназначено, чтобы Зло вечно гнало Добро в виде Женского Тела (Денежного Мешка ли). Славный Герой же, ищущий правды, вынужден рыться в грязном белье, где, пачкаясь, вдруг находит Добро, естественно в виде Женского Тела (Денежного Мешка ли), кои он, вычистив, водружает на место и удаляется в благонравное, чуть брутальное пьянство – реминисцировать об утратах. Женское же роскошное Тело и Мешок Денег горестно плачут, ведать не ведая, что Герою кайф, в общем, лишь в садо-мазо. Суть детектива вся в Женском Теле и в Мешке Денег, что алчем с мыслями: у нас нет, у него, гада, есть они, но он медлит, гад, взять их и жить в довольстве! Вот должный образ "нравственной" мысли, "нравственной" ценностей.
222
Мы рождаемся с крыльями, а мораль обрывает их.
223
Достоевщина – это жизнь без моральных игрищ и трюков. То есть подспудное – вон давай. Или дрянь душа, как сейчас, когда гнут её? Вздор душа? Душу прячут, где ни возьми; мол, этика. На работе, в искусстве, в мысли и в чувствах – рамки и порции. На Давида, на статую, надевают подштанники. Маскируются части тел в кинокадрах. Ну, а Джоконда? Что мне в ней надобно? Я б взглянуть хотел, как она оправляется; речь её не вульгарна ли, стоит рот раскрыть? Не тщеславен ли и не глуп сей перл? Может, явной Джоконде было привычней пить и ругаться. Вот что мне нужно, кроме улыбки этой Джоконды, кою мир славит. Всю её нужно!.. Дозы в искусстве, порции в жизни... А Достоевский всё пёр наружу: мерзость в морали – но ведь брильянт живой. Кроме Фёдор Михалыча, кто вот так в жизнь за истиной? Жизнь нельзя кромсать.
224
Есть Монмартр, Пикадилли, Токио – а я видел лишь это, жгущее чувствами колоссальнейших мер. О, Родина, моя Родина! Мне б в каморке пить горькую, чтоб запить тоску, потерявшись в громаде, что вобрала мой род к тайному, неподъёмному всякой нацией, непостижному, – да и нам непонятному, – ради коего мы ломаемся, чахнем, гибнем, так и не ведая, для чего, ибо нет у нас ни богатств, ни счастья; разве что в мае, лепящем кроткий русский наш рай, мы нежимся перед сумраком вьюг и слякотей в криках воронов средь пустой серой шири, дабы и впредь хранить окаянные, словно вросшие в плоть безмерности для каких-то нечеловеческих перспектив. Вдруг Бог здесь сойдёт в Свой час?.. Невольные, бдим мы вверенный окоём, а рыпнемся – лишь творим разрушение как урок не бежать судьбы, но стоять вечной стражей, кличущей тщетно: что тебе, Родина, мать и мачеха?
225
Есть теория, что за шесть веков до Р. Х. в древней Аттике взрос решительный тип мышления, богоборческий, суть какого в таких словах (Геродот): присуждённого роком не избежит сам бог. Логос космоса одолел миф хаоса. Возникает вдруг разум рациональный, разум логический. Отправляясь от нескольких постулатов, он строит очередь выводимых одно из других в жёсткой сцепке явлений как бытие вокруг. Предпосылки малы числом, ограниченны. Сам Платон заповедал: "Негеометр не входит!" – что означало гон правд сомнительных, осуждённых концептом "необходимость не слушает убеждений" и спинозистской трактовкой чувств как углов. Архипринципом стала мáксима, что рождённое – гибнет, главный закон стал – смерть, абсолютная неизбежность. Стались два мира антиномичные: прежний верил в богов всесильных, вечных, свободных, новый мир верил в Необходимость. А ведь и правда: ты хоть весь век вопи – но, когда ты урод, им будешь, плюс и умрёшь таким. Эти верили в "дважды два есть четыре" и лишь одним могли облегчить юдоль: вздумать нечто, чем бы владели вроде как боги. И преуспели. Вздуман был мир, где и данник мог стать владыкой. Как это сделали? Говорят, что Сократ, простояв два дня, породил небывалую сущность. Да, мы слабы, размышлял Сократ, и природа сильней нас. Но – есть спасение. Верь в "добро" и в другие понятия – и ты бог. Прозелит "добра" почитался за лучшее, он имел капитал "краше утренних и вечерних звёзд". Ведь, держась "добра", ты имущее Крёза, вещее пифий и круче Марса. Ты царил в добродетели, в отвлечённых идеях. Ты их творил, как бог!
Да, Сократ сотворил мир "добра", "благородства", "славы", "достоинства" и иных затей и призвал всех войти в него. Прежний чувственный хаотичный мир был объявлен неподлинным, мир понятий– реальным. Бог создал старый мир, а Сократ создал новый как метафизику. Между Богом, короче, и человеком вставлен был "логос" – разум особый, математический в существе своём. Этот "логос" прервал связь с Богом. Прежнее гнали, будь то хоть радости. Нужно было оценивать, исходя из "добра", клеймившего это годным, это негодным. Предписывалось всё взвешивать: не любить, что влечёт тебя, не бежать от противного, а – судить. Наслаждение получали впредь, уточняем, не от цветов весны, но от знания, что цветы весной суть "добро". Бросив мир, человек погряз в парафразах о мире; и счастье прежнее, органичное, заменилось идейным, нравственным, установленным. Тьму немыслия сжёг свет рацио. Человек вышел в зону общих понятий и пребывал в них, как под защитой. Бог? Бог отсутствовал большей частью, Бог попускал злу, смерти, бедам и ужасам. Бог бахвалился: "Я творю свет и тьму, дею бедствия" (Ис. 45, 17). Человек не желал сего. Игнорируя Божий мир, он творил мир "добра" как истинный. Ты сдыхал от болезней, маялся нищим, – но, если знал "добро", ты был счастлив! Так онтология стала этикой. Люд мутировал в "человека вообще", о ком мнили бы, что он "добрый" или же "злой", и только, – тем упрощая, симплифицируя существо homo sapiens... Мир идей был обжит людьми. Он давал блага здесь, не где-нибудь. Он прельщал грёзой света, неги, спокойствия, безопасности и довольства собою в области, где бессильна Жизнь, что дышала угрозой, – то есть в мышлении. Это был шаг из данности, где творил Бог, к химере. Мир идей множился, горделивый, помпезный мир – но и мир безысходный. В нём были люди, что, покорённые "дважды два" вместо Бога, втиснулись в путы вместо свободы. Бог был отвергнут. Или, иначе Им стало слово, принцип, идея, смысл и понятие. То есть фикции.