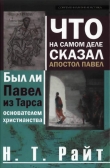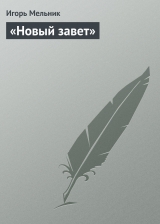
Текст книги "«Новый завет»"
Автор книги: Игорь Мельник
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Тертулл взялся за дело. Его речь была хорошо продуманной и логически выстроенной. И не очень большой.
«Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего народа. Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением.
Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими во вселенной, и представителем Назорейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить по нашему Закону. Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе…»
Павел осквернял храм? Формальным предлогом его ареста было обвинение в том, что он ввёл туда нескольких греков, сопровождавших его в Иерусалим.
Скорее всего, он этого не делал, ведь, в этом случае, вместе с ним схватили бы и его спутников.
Выслушав обвинителей, Феликс предоставил слово Павлу. Апостол оказался не менее красноречивым.
«Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения.
И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать, в чем теперь обвиняют меня».
Ловко. Павел выводил вопрос из-под иудейской юрисдикции, ему нужно было дать понять Феликсу, что синедрион не может рассматривать его дело. Нужно было упомянуть и пункт об осквернении храма.
«При сем нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые асийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня».
Вот так, главное обвинение было объявлено несостоятельным. Что было делать Феликсу? Он поступил очень осторожно, а главное, мудро.
«Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: “Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий”».
На самом деле Феликс не собирался ничего решать. Он повелел содержать Павла под стражей, но со всяческими послаблениями. Стал частенько захаживать к нему в камеру, да не один, а со своей женой, иудейкой.
Он якобы хотел изучить христианство. Отсрочка затянулась на два года – сорок человек умерли от голода, не имея возможности выполнить свою клятву.
А что же Пётр? Ведь он находился здесь, в Кесарии. Неужели он ничего не предпринял?
Выполнение их с Павлом плана срывалось, можно было поискать другие пути его реализации. Мы можем вычислить действия Петра через реакцию Феликса.
«Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его».
Вот. Феликс ждал денег, а это значит, что Пётр сделал к нему подход, чтобы выкупить Павла. А потом передумал. Возможно, изменилась ситуация в самой церкви. Или он выжидал.
«Но по происшествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест».
Феликса, видимо, уволили за взятки.
Фест, приняв должность в Кесарии, поехал в Иерусалим. Первосвященники и иудейская знать решили сделать вторую попытку.
«Тогда первосвященники и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он вызвал его в Иерусалим; и злоумышляли убить его по дороге».
Речь уже не шла о суде или справедливости – им просто нужно было убить этого человека. Любой ценой. Фест не пошёл у них на поводу.
«Итак, – сказал он, – которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его».
Иудеи опять пришли в Кесарию. Ситуация повторилась – как и два года назад, первосвященники не смогли предъявить Павлу ни одного серьёзного обвинения.
Апостол в своё оправдание сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против Закона Иудейского, ни против Храма, ни против кесаря».
Дело зашло в тупик. Фест спросил: «Хочешь, я отведу тебя в Иерусалим, и мы проведем суд там?» Конечно же, Павел этого не хотел.
«Я стою перед судом кесаря, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Требую суда кесарева».
Наконец-то Павел получил возможность выложить свой главный козырь. Он, римский гражданин, имел право требовать императорского суда. А это означало поездку в Рим.
«Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: “Ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься”».
Значит, всё было не зря.
Примерно в это же время в Кесарию прибыл царь Агриппа, чтобы поздравить Феста с назначением на должность. Фест решил воспользоваться случаем и представить царю мятежного апостола.
Подождите, какой Агриппа? Ну, Агриппа, сын того Ирода Агриппы, которого съели черви.
Ох уж эти библейские Ироды. Славная династия. Один избивал младенцев, разыскивая Христа, другой отрезал голову Иоанну, третий отрезал голову Иакову.
И вот, их славный потомок сидел в зале суда претории и с интересом рассматривал дело Павла, который уже успел стать легендой.
Фест кратенько обрисовал суть дела.
«Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения…
Когда же его привели сюда, то я повелел привести того человека… Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал; но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив…»
Дело выглядело так, будто Павел – обыкновенный сумасшедший, на которого ополчились первосвященники, но которому хватило ума потребовать суда кесаря.
Агриппа пожелал лично увидеть узника и Фест на завтра назначил разбирательство.
На следующий день Агриппа со свитой прибыл в судебную палату. Фест приказал привести Павла. Когда апостола ввели, Фест коротко представил его присутствующим.
«Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! Вы видите того, против которого всё множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь кричали, что ему не должно более жить.
Но я нашел, что он не сделал ничего, достойного смерти; и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему.
Я не имею ничего верного написать о нем государю; посему привел его пред вас, и особенно, пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что написать. Ибо, мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него».
Фест давал понять, что сам такие решения принимать не собирается. В самом деле, в чем можно было обвинить Павла. с точки зрения римского права?
С другой стороны, первосвященники требовали его смерти, а это – дело нешуточное.
Агриппа дал слово апостолу. Павел проникся важностью момента и продемонстрировал чудеса красноречия.
«Царь Агриппа! Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно…»
Неплохое начало. Далее Павел описал свою жизнь, фарисейскую юность, лихие разборки с христианами и, наконец, дошёл до своего видения возле Дамаска.
«Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедовал… За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать…»
Фест вмешался в процесс.
«Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия».
Ему нужно было убедить присутствующих в психической болезни Павла.
«Нет, достопочтенный Фест, – сказал он, – я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь сокрыто; ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь».
Павел разыграл национальную карту. Он обратился к Агриппе, как иудей к иудею. А иудейские цари всегда прислушивались к пророкам, не считая их сумасшедшими. Он намекал на то, что сам является пророком, но не идиотом. Агриппа его понял.
– Ты никак меня в христианство решил обратить, – усмехнулся он.
– Я молил бы бога, чтобы не только ты, но и все присутствующие обратились, – ответил Павел с улыбкой.
Царь посовещался с придворными и принял решение.
«И сказал Агриппа Фесту: “Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря”. Посему решился правитель послать его к кесарю».
У них получилось! Павел ехал в Рим, минуя запрет Клавдия. Он ехал туда за государственный счёт, что немаловажно.
«Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились… С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники».
Как быстро среагировал Пётр. Два года волокиты, а жизнь не стояла на месте, ему нужно было текучкой заниматься, но. как только Агриппа принял решение об отправке Павла, Пётр тут же подсадил ему спутников – грека Тимофея и македонянина Аристарха.
И тот, и другой могли въехать в Рим беспрепятственно – вот такой десант. Теперь организация могла иметь в Риме двух апостолов и одного приближённого.
Лука был хорошим беллетристом, его описания поездки в Рим захватывают.
«На другой день пристали к Сидону; Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием…»
Юлий – это сотник, начальник конвоя.
Конвоирование Павла было чисто номинальным мероприятием. У «друзей» апостол смог перегруппироваться, запастись деньгами и наметить порядок действий. В целом поездка проходила приятно. Если не считать переменчивой погоды.
«Медленно плавая многие дни и поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне… А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет, чтобы дойти до Финика, и там перезимовать…
Подул южный ветер и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита… Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам…
Мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль; боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились… На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз… А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи…»
Дело шло к кораблекрушению. Всех охватила паника – кроме Павла. Он заявил, что все спасутся на каком-нибудь острове, но корабль, может статься, придётся бросить. Павел был большим оптимистом, чего не скажешь о членах экипажа.
Когда корабль понесло к какому-то острову, морячки вдруг решили, что пора уходить с корабля по-английски. Они тихонечко начали спускать с носа шлюпку, делая вид, что ставят якоря. Павел их манипуляции заметил. И принял меры.
«Когда же корабельщики хотели сбежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят ставить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки и она упала».
Радикально, ничего не скажешь.
«Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ».
Так это был настоящий крейсер! А ещё я заметил, что описания стихийных бедствий давались Луке особенно хорошо – пожары, шторма, землетрясения были для него источником настоящего вдохновения.
«Когда настал день, земли не узнавали… И поднявши якори, пошли по морю, и развязавши рули и поднявши малый парус по ветру, держали к берегу… Попали на косу и корабль сел на мель: нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн…
Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв, не убежал… Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю…
Прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю».
Желание воинов «умертвить узников» понятно. А вот. желание сотника вызывает подозрение.
Остров назывался Мелит.
«Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие».
Управлял островом наместник по имени Публий.
«Он принял нас и три дня дружелюбно угощал».
Нет, не зря Павел посетил «друзей» в Сидоне. Сотник его спасает, наместник закатывает пьянку на три дня в честь высокого гостя. Организация – что тут скажешь…
Брат наместника маялся животом. Ещё бы – так налегать на еду… «Ешь три часа, а в три дня не сварится».
Но Павел его вылечил. Возложил руки на живот, промассировал и у паренька перистальтика заработала, как часики.
«И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным».
Хорошие были ребята, эти римляне. Душевные такие.
«Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры».
Они не сильно торопились. Будто и не на «суд кесаря» ехали. Заехали в Сиракузы, погостили там три дня. Потом заглянули в Путеол, где «нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней».
Погостив недельку у «братьев», двинули на Рим.
«Тамошние братия, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостинниц. Увидев их, Павел ободрился».
Встречали их с помпой.
Остальных заключённых передали в тюрьму, а Павлу разрешили жить в гостинице и приставили к нему солдата для охраны.
«Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев».
Стоп. Дело происходит в Риме, не так ли? А как же запрет Клавдия? Может, не было никакого запрета?
Да нет, поговаривают, что был. Может, всё дело в слове «знатнейшие»? Ведь знатнейших запреты могут и не касаться.
И последний вариант – этот эпизод Лука сочинил. Он любил иногда пофантазировать.
Мне кажется, что так оно и было. В самом деле: разве смог бы апостол Павел, которого в Иерусалиме первосвященники чуть на куски не порвали, вот так просто взять и созвать знатнейших иудеев?
Щёлкнуть пальцами и всё – все знатнейшие из римских иудеев сбежались бы к нему на цырлах… Да и разговор у них очень странный получился.
Павел рассказал о том, что первосвященники хотели его убить, но римская власть не нашла в нём вины и хотела отпустить на волю, но обиженный апостол потребовал суда у кесаря, и вот он здесь, но это не потому, что он имеет что-то против иудеев, а токмо справедливости ради.
Иудеи, в свою очередь, заверили его, что ничего не знают ни о его учении, ни о нём самом, что маловероятно, ведь те, кто встречали его на Аппиевой площади, как-то же узнали о его приезде.
Потом иудеи попросили просветить их по поводу нового учения, но, услышав о Царстве Божием, потеряли к Павлу всякий интерес и начали расходиться, а он вслед кричал им, что будет проповедовать среди язычников, ибо ему так Христос сказал. Запутанная история.
«И жил Павел целых два года на своем иждивении, и принимал всех, приходивших к нему».
Вот так, на своём иждивении. А суд? А как же суд у кесаря?
Скорее всего, суда не было. Ведь Павел потребовал его, так? Сам потребовал, сам и отказался. Ему же надо было в Рим попасть. Он в него попал, а остальное – детали.
«Проповедовал Царство Божие со всяким дерзновением невозбранно».
Дерзновение. Самое подходящее слово для Павла.
Таковы «Деяния апостолов», хотя мне кажется, что этому произведению Луки больше подошло бы название «Жизнь Павла».
Послание Иакова.
Деяния кончились, начались послания. Переписка была обширной: налаживались связи, устанавливалась иерархия, а главное – шла грызня. За власть.
Скажи, кому ты пишешь, и я скажу, кто ты.
«Двенадцати коленам, находящимся в рассеянии – радоваться».
Понятно, это Иаков – глава церкви в Иерусалиме, ортодокс, который не отступил от устоев иудаизма и норовил пристроить Павла на суд синедриона. Все компромиссы, на которые он пошёл с Петром в вопросах обращения язычников, так и остались компромиссами.
Или это другой Иаков? А какой из Иаковов мог быть автором этого послания? Их было не так много. Иаков Воанергес, брат Иоанна Богослова – ему Ирод отрезал голову, как мы знаем. Успел ли он перед этим черкнуть пару строк, тяжело сказать.
Ещё был Иаков Алфеев, однофамилец Матфея и брат Иуды Иаковлева (возможно, их было трое – Алфеевых). Этот Иаков мог написать, но больше он себя ничем не проявил.
А ещё был Иаков, брат Иисуса, который одно время возглавлял иерусалимскую общину. Мне его кандидатура кажется наиболее предпочтительной.
Если учесть, что у Иисуса кроме брата Иакова был ещё брат Иуда, то гипотезы начнут плодиться, как тараканы. Главное не это. Автор послания не считал учение Христа интернациональным делом – по его мнению, оно предназначалось лишь для иудеев.
В библии это послание озаглавлено «Соборное послание святого апостола Иакова». Но сам Иаков в зачине себя апостолом не называет. Павел называет, Пётр называет, Иуда Алфеев называет, а Иаков – нет.
Ещё Иоанн Богослов этим отличался, но он считал себя «любимым учеником» Иисуса, а не апостолом-посланником.
«Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа».
Видите, об апостольстве ни слова.
Это петры и павлы писали о деле, а иаковы раздавали ценные указания и воспитывали да поучали. Не зря это послание стоит первым – Иаков считал себя главным.
«С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения…
Терпение же должно иметь совершенное действие…
Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога…»
Понятное дело, что самому Иакову, как подразумевалось, мудрости доставало. Поэтому он давал умные наставления. Об искушениях, например. И о терпении – куда без него.
«Сомневающийся подобен морской волне…
Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа…»
Пусть даже не помышляет. Где-то и когда-то говорилось иное: солнце светит одинаково на грешных и на праведных. Но это было в другой серии.
«Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».
Мысли должны быть монолитными. И никаких сомнений, никакого скепсиса!
«Да хвалится брат униженный высотою своею».
Унижение, оно и вправду возвышает.
«Блажен человек, который переносит искушение…
Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью…
Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
Вот так. Некуда податься от искушения и от греха. Но есть выход.
«Посему в кротости примите насаждаемое слово…
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только».
Я буду насаждать, а вы примите. В кротости. И выполняйте.
«Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие».
Так что, не надо думать о том, благочестивы ли вы. Это не вам решать. А нам.
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем».
И это правильно. Если вы, к примеру, украли что-нибудь… Ну, скажем, отмотали электросчётчик, то автоматически вы стали прелюбодеем. И убийцей заодно. И светит вам 15 лет с конфискацией имущества – в лучшем случае.
«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут».
Они тоже хорошо делают.
«Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?»
Очень удачный пример. Благочестивый такой. И гуманный, к тому же.
«Братия мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению».
Нас и так уже осуждают. А теперь станут ещё больше осуждать. Не надо всем идти в учителя. Нескольких наставников вполне достаточно.
Вот, к примеру, я. Поучаю, а вы слушайте. И выполняйте, по возможности, молча. Потому что язык, он не только до Киева доводит.
«Язык – небольшой член, но много делает».
Это точно.
«Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни…»
Ой, как интересно!
«А язык укротить никто из людей не может: это неудержимое зло – он исполнен смертоносного яда».
Это почему же?
«Им мы благословляем Бога и Отца».
А, ну тогда понятно.
«Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите».
Надо попросить. И попросить правильно.
«Прелюбодеи прелюбодейцы!»
Это он к возлюбленным братьям так обращается.
«Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?»
Никакого мира быть не должно, а тем более, дружбы с ним. Все по кельям!
«Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу».
А это такая вражда, что ни в сказке сказать.
«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль».
Он был редкий жизнелюб, этот Иаков.
«Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится.
Весел ли кто? Пусть поет псалмы.
Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви».
Видите, как всё просто.