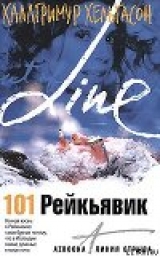
Текст книги "101 Рейкьявик"
Автор книги: Хатльгрим Хельгасон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Что?
– Хофи, – отвечает Трёст.
– Да. О'кей. Знаешь, я…
– Да, знаешь… не забывай: мы в прямом эфире… без монтажа.
– Да, – отвечаю.
Я захлопываю дверь и оказываюсь на улице Квервисгата. По улице едет «Лада», из-под колес вихрится снег, а у меня такое ощущение – может, потому, что Новый год, а может, из-за виски, – что я в помещении. Рейкьявик – огромный художественный фильм. Я бегу через съемочную площадку, по Баронстиг, и (сам не знаю, что делаю) по Лёйгавег. Ищу Лоллу. Здание «Ландсбанка». Чуть подальше – ларек. Еще одна «Лада». Я окружен «Л». А что у нас еще на «Л»? Лицедейство (здесь же съемочная площадка). Ласси. Лайф. Лесбиянка. Ложь. Лишение. Ликвидация.
На часах 03:58. У нас все еще високосное время. Где она? Я не знаю, где эта тусовка. Вспышка и трупы петард. Поющая толпа новогодщиков. «Og пег de gikk, se var den bomm, / de var alle sammen jomfru ner de kom…»[136]136
«А когда они ушли, то – бом! / а когда они пришли, они все были девушками!» (норе.) – строки из популярной во всей Скандинавии норвежской застольной песни. В данном случае строчки перепутаны.
[Закрыть] Я явно в какой-то старой записи, несмотря на то что уже 96. Смотрю в оба конца Лёйгавег. В оба конца Баронстиг.
Я иду но Лёйгавег в наше тучно-одышливое время. «В наше тучно-одышливое время»? Откуда это? Ага. Я чувствую себя каким-то древним и желчным сюжетом, как вдруг из дверей появляется Лолыч: «Ой, привет, слушай, надо зайти за выпивкой, у них там все закончилось, у нас дома ничего не осталось?» Я помню, что в шкафу на кухне было полбутылки «кампари». Мы проходим мимо магазинов «Ты и я», «Чай и кофе», «Золото и серебро», «Ева» и «Адам» и сворачиваем на Фраккастиг. Лолла поскальзывается на замерзшей луже на углу Бергторугата, но я удерживаю ее.
Устало опадаю на стул в гостиной. Лолла заскакивает в туалет, возвращается и поднимает иглу проигрывателя. «Одну песню – и пойдем». Я закуриваю сигарету. Пианоты. Нет! «Hello». Она хохочет и начинает танцевать – выламываться на полу, потом хватает меня и поднимает со стула. Я успеваю положить сигарету в пепельницу. Она все еще держит меня за руку и раскачивает ее, как руку мертвеца. Я пытаюсь сделать вид, что тоже участвую в этой шутке, которая, по всему видать, направлена против меня. Песня длинная. Мы приближаемся друг к другу. Друг с другом. Слепая девушка и уродливый мужчина. Она умирает у меня на руках под гитарное соло. Виснет на мне. Груди распластываются у меня на груди. Подушки. Главные органы во мне тесно прижимаются друг к другу. Черные волосы под моим подбородком. Запах Лоллы. Потом она опять запрокидывает голову и смотрит на меня слепыми пьяными глазами. Что-то связанное с законом земного тяготения и с этим: «В космосе мы – всего лишь муравьи, и сегодня в муравейнике выходной» – бросает меня к этому рту. Мы целуемся таким поцелуем, типа: «На самом деле мы не целуемся» – и снова смотрим друг другу в глаза. По-моему, она думает то же, что и я, и, наверно, тоже по-английски: «Maybe not the right thing to do»[137]137
«Может, это и не стоит делать» (англ.).
[Закрыть]. В самые ответственные моменты я всегда думаю по-английски. Наверно, это как-то связано с НАТО, и что, мол, «во время войны» – какой-то Пентагон в башке. Не знаю, как она, но я, наверно, слишком много смотрел телевизор: вижу, как у нее над правым плечом мигает логотип Си-эн-эн, и все как-то вписывается в более глобальный контекст: у меня в голове все еще сравнение с муравьями, и я вижу, как земля натужно вращается, ее кора скрипучая и ржавая. Как камень из желчного пузыря в космосе. По сравнению с этим наше слияние слюны посреди коврами покрытой стародеревянной гостиной на улице Бергторугата – не больше, чем муравьиное сердце среди леса. Как-то так.
Может, я и сам это придумал, но, по-моему, лесбиянки целуются лучше, больше стараются, ведь они целуют своих сестер по полу. Лолла целует меня так же, как маму. Так что я пытаюсь целоваться как мама.
Диван.
Вдруг я вижу себя: как будто я стою на полу и смотрю на самого себя на диване – большого, тяжелого, неуклюжего. Конь в очках, который тянется за травой через изгородь: алчность, и я опускаюсь, весь застывший, на Лоллу и тянусь к ней с прискорбно глупыми, грустными глазами в замедленной съемке (обратите внимание: очки и волосы не движутся), и мелкие зубы блестят, когда я складываю губы, а потом они, как и все остальное, растворяются в поцелуе.
На столе сигарета – золой.
Задача в том, чтоб раздеться до того, как окажешься голым. Лично я предпочитаю заниматься сексом в голом виде. Ботинки – ограничение скорости. В своем сексуальном возбуждении я затянул узел на шнурке. Дама лежит – голова на подушке – и спокойно следит за ходом событий, а я, голый по пояс, в изголовье, копаюсь со шнурками, как идиот, который забыл, как они развязываются. Робин Уильяме сказал Леттерману: Бог дал нам и член, и мозг, но сделал так, что кровь не может приливать к обоим одновременно.
В этот раз я по-быстрому сбрасываю ботинки, не расшнуровывая. Единственная заминка – когда я неожиданно испускаю: «Эй!» – потому что узнаю на ней трусы (она в моих старых трусах) и черчу пальцем по ее спине, веля ей снять бюстгальтер.
Это не обычное: «Ну, давай еще раз…» Нет. Лолла – не просто какая-нибудь «седьмая по счету». Это квинтэссенция совокупления. После такого становится понятно, почему человек каждые шесть месяцев думает о сексе.
Олёв Халлдорсдоттир, личный номер 071057-3099, местожительство: Каурастиг 33, 101 Рейкьявик, лежит на полу в гостиной, голая. Нижеподписавшийся, Хлин Бьёрн Хавстейнссон, личный номер 180262-2019, местожительство: Бергторугата 22, 101 Рейкьявик, ложится на нее, голый. Своей правой рукой Олёв Халлдорсдоттир направляет эрегированный пенис нижеподписавшегося к своему причинному месту. Нижеподписавшийся проталкивает свой пенис (длина 16 см) в половой орган Олёв. Нижеподписавшийся не успел воспользоваться презервативом, что сам объясняет своим возбужденным состоянием.
Лолла – маленькое чудо. Лолла не просто лежит, как женщина. Лолла не просто по-женски лежит и позволяет себя трахать. Она выводит меня из равновесия своей пылающей страстью. В какой-то момент я немного испугался, когда она поднялась подо мной в воздух, вся дрожа и трепеща, со стонами, как… Как жеребенок, которого держат трое ученых и всаживают ему укол. Это зрелище меня настораживает. Она как будто «одержима бесом». Бес-сексуальность. Это оно и есть? Это «мужчина» в ней? Но мужчины не кричат, мы только дышим чуть громче обычного. По сравнению с ней, с ее трансом, я – всего лишь донор спермы. И все же это мой лучший секс. Или секс – не для мужчин? Мне приходится сосредоточиться на том, чтоб не упустить ее, я догоняю ее. Гоню ее в направлении стола. Мама! Это твой стол. Это твой стол, мама. Наверно, Робин Уильяме не совсем прав. Или я какой-то другой. К мозгу должно было прилить меньше крови. Я хочу сказать, я не перестал думать! А Лолла – напротив. Ее мозг – огромный напряженный клитор. Она – единое целое. Лолла – живое воплощение полового влечения. И при этом не бегун на длинную дистанцию. Сразу мощным рывком – к оргазму. У нее это, очевидно, бег с препятствиями. Иногда она задевает барьеры. Грудями – мне в глаза. Я опять сосредоточиваюсь и смотрю глаза в глаза в ее соски, пока до меня не доходит – когда мне удается оторвать одну руку от пола и схватить одну грудь: «Нет, это мамины груди». Нет. Отпускаю грудь. Мама спала с ней? Я отпускаю грудь. Пытаюсь держаться только того места, до которого мама точно еще не добралась и вряд ли доберется. Я обошел маму на него. Обошел маму на эти 16 см. О нет! Нет, нет… Что я делаю? Делать это или не делать. Кончить или не кончить, вот в чем вопрос. Стоит ли продолжать как ни в чем не бывало наслаждаться или позволить сомнению, как пожарному со струей из шланга, пробраться в мои жилы и потушить пламя в крови? Мама. Доверие. Я – ее сын. И до такого докатился. Можно ли отдалиться от собственной мамы дальше, чем я сейчас? Головка – как водолаз подо льдом, где-то внизу, где-то глубоко под моим сознанием. Можно ли дальше отдалиться от мамы? И все же думать о маме… ЛОЛЛА. В ней три «Л». Ласка. Любострастие. Л… При полной эрекции пути назад из женщины нет. Но. Мама… «Не забывай: мы в прямом эфире», – сказал Трёст. Вечная пленка плетет свою паутину. Камера сняла, и камера сохранила. Из нее ничто не возвращается.
Слеза в замедленной съемке, задом наперед.
Постепенно мне удается забыться. Постепенно и я начинаю дрожать и трепетать. Постепенно мышление убирается прочь из головы, по крайней мере логическое. Постепенно мысль становится плотью. Постепенно я становлюсь плотью и костями. Вдруг я чувствую в себе скелет, белый и твердый, а вокруг него трепыхается плоть, как мягкое желе. Чувствую, как уши хлопают по черепу. Плавники в воде.
Слеза в замедленной съемке, задом наперед.
Все фильмы мира стремительно уматывают от меня. Все кассеты – на убыстренной вперед. По всем каналам град и метель. Во всех унитазах мира разом спускается вода. Небесные родинки все ближе, и с неба сыплются петарды, а под ним зияют тысяча семьсот черных дыр. Так! Молчание в эпицентре взрыва – когда она кончает. Тишь в сердце вихря… тишь в сердце смерча, когда кончаю я. Я кончаю, и на мгновение все становится светло, метеорит освещает атмосферу и кое-какие государства на земле и сгорает. Исчезает. А что будет с семенем?
Слеза в замедленной съемке, задом наперед.
Я тону в глубинах дивана. На плаву меня удерживает только сигарета. За окном новогодний день. Ага. Свет чуть-чуть свежее, чем прежде. Я в халате, который нашел в ванной. Мамином. В стакане прошлогодняя кола. В телевизоре зарубежные новости. Из них почти весь газ улетучился.
Я не спал. С прошлого года. Лолла лежит в комнате. Мой лежит на своем месте, завернут в махровый халат. 9,5 см. А остальные пять с половиной сантиметров откуда берутся? Кровь. Сантиметры, в которые я никогда не врубался. Сигарета – 9,5 см. С фильтром. Зажигалка – 9,5 см. Указательный палец тоже. Да. В этом есть своя логика. Все как оно должно быть. Тысяча девятьсот девяносто шесть. По-иному начаться и не могло. Вглубь года на 16 см. Этого не вернешь. Это не вернется. Один дубль, сцена без монтажа. И снял ее я. И теперь запись хранится в Госфильмофонде времени. Вопрос только, в каком отделе. Игровые фильмы? Комедии? Боевики? Детские фильмы? Нет, конечно же, в задней комнате, на полках с порнухой. Кассета № 16978, стеллаж № 5048, полка № 7. «Хлин amp; Лолла, 1.1.96, 45 мин». Подписано им самолично, толстым маркером.
Лолла. Маленькая бомбочка. Она была неотразима. Неудивительно, что мама не смогла перед ней устоять. Но у них все, наверно, по-другому. Вряд ли так бурно. Значит, мы с мамой – «однопостельники»? Как-то малоприятно. Попытаюсь отнестись к этому демократично. Ничего страшного. С кем не бывает. Ну, налетел человек на кого-то из семьи. Ну да… А все-таки хорошо получилось. Инцест-96. Только я боюсь, что, когда кончал, сказал «мама». Или «Мам-м-м…» Надеюсь, она не заметила. Нет. Она была где-то в своем мире. Не пришла в себя до тех пор, пока я не вытащил из нее член и не лег рядышком. Она сказала: «Господи Исусе!» Я посмотрел на нее, она – на потолок. Неизвестно, что она имела в виду. Наверно, она просто верующая. Потом она приподнялась на локте – груди соскользнули по закону земного притяжения, – улыбнулась мне и пошла в туалет. Я смотрел ей вслед – вверх ногами. На заднице прозрачные капли. Банк радости.
Я перебрался на диван, и она пришла, в майке. Мы выкурили в гостиной две сигареты. Я поднял ее/мои трусы и спросил: «Что это было?» Она только улыбнулась. И повернулась. Нет. Мама с ней не спала. Она знает мои трусы. Нет, нет… Ничего страшного.
Новогоднее обращение президента Исландии. Вигдис Финнбогадоттир (ц. 125 000) в последний раз. Я не слышу, что она говорит, но мне она по кайфу. Звук выключен. Она смотрит мне в глаза. О'кей. Я – исландец. Она смотрит мне в глаза, словно мать. Наша общая мать. Телефон. Я халатно подхожу к нему, в этом женском одеянии я похож на гомика. Мама из Кваммстанги.
– А, это ты? Я думала, ты еще не проснулся. С Новым годом!
– И тебя также.
– Ну как вы вчера отметили? Весело было?
– Ага, нормально…
– И куда вы ходили? К Трёсту?
– Да.
– И как все прошло?
– Ну, ничего… Отлично.
– А ты Лоллу взял…
– С собой? Ага. И папа тоже там был. С Сарой.
– Ой, правда? Ну, и как у них дела?
– Дела? Дела как сажа бела…
– Вот как оно, значит…
– Он держался молодцом.
– Ну? Рада слышать. Когда она с ним, он себя лучше ведет.
– Да… Или… А у вас все как прошло?
– Да, все спокойно, мило. Сигрун, сестра, приготовила отличное жаркое, а потом мы пошли смотреть на костры и фейерверк, а потом ненадолго заглянули к бабушке. Сама-то она больше из дому не выходит. Мы с ними смотрели новогоднее шоу, но мама почти ничего не поняла. Для нее это слишком сложно.
– Да.
– По-моему, шоу как раз удалось. Вы его как, смотрели?
– Смотреть-то смотрели, только у нас в городе оно было не такое удачное.
– Ха-ха… Не такое удачное?
– Нет… Или да… Лолла смеялась.
– Правда? А она сейчас у тебя? Дай мне ее на секундочку.
– По-моему, она сейчас спит.
– Ну ладно… Передавай ей привет. До свидания.
– Ага.
– Я завтра выезжаю. Вечером буду у вас.
– О'кей.
– Пока, Хлинчик. Тут тебе все передают привет.
– Да, пока…
– Пока.
Шарю десятью босыми пальцами по ковру. На нем крошечное пятнышко. Не больше Лоллиной родинки. Засохший фруктовый сок. Я пробую отковырнуть его. Ковыряюсь в ране. Как очистить ковер от спермы? Выходит Лолла. «Сегодня Олёв выходит в голубой хлопчатобумажной футболке из фирменного магазина „Pussy" в торговом центре „Крингла"». Она смотрит сверху вниз на то, как я корячусь на ковре, как какой-нибудь коряк, и скребу его ногтем.
– Ты что делаешь?
– Да обронил тут кое-что.
– Что?
– Да так, пару сперматозоидов.
– Ох-х…
Ее явно мучает похмелье, бела как полотно, – полотно майки, едва прикрывающей зад; она входит в кухню со словами: «У нас кока-кола есть?» Я отвечаю: «Вот здесь. На столе». Пока я скребу ковер, чувствую легкое веяние футболки. «А может, это не ты их обронил, а я?» – спрашивает она, но я не подымаю глаз. Слышу, как она наполняет стакан и садится на диван.
– Что ты так нервничаешь? Ничего ж не заметно.
– Ага.
– Можно сигаретку?
– Да.
Я перестаю ковырять и встаю. Сажусь на стул, из того же гарнитура, что и диван. Законнорожденный отпрыск дивана. Мама – полукровка. Датско-исландская. Да. А я на двадцать процентов датчанин, на семьдесят пять процентов нетрудоспособный. А что в остатке? Лолла задирает ноги на стол, ноги вместе, и я жутко боюсь, что она без трусов. Стараюсь не смотреть. Или я ее боюсь? Мне становится легче, когда между ног мелькает что-то темно-синее.
– Кто звонил? Берглинд?
– Да. Мама звонила.
– И как у нее дела?
– Ну, просто… Кваммстанги. У Сигрун жаркое вкусное.
– А ты что, в мамином халате?
– Да. Больше ничего не нашел.
– Ты похож на извращенца.
– Ага.
– Эх-х… Голова раскалывается. В жизни не бывало, чтоб человек так напился.
– Да. Ты вчера… была пьяная.
– Пьяная, и что?
– Ну, просто пьяная, и все.
– Нет, ты что-то другое хотел сказать.
– Пьяный.
– Пьяный?
– Да, если ты говоришь, что ты вчера напился, значит, ты был пьяный. В мужском роде.
– Что с тобой, Хлин? Что ты несешь?
– Да так…
– А ты как? У тебя голова не болит?
– Болит.
В течение нескольких затяжек мы молчим. Вигдис на экране шевелит губами. Возле нее на столе – маленький флажок на флагштоке, мягкий и опавший. Если б он был приспущен, то лучше передавал бы мое состояние. Вигдис прекращает говорить и смотрит на нас. А потом, конечно же, гимн. Пейзаж подчеркнуто серьезный. Ага. Водопады еще включены. Хороший клип для рок-музыки. Вот так. Чувствую на себе взгляд Лоллы, как объектив. Чувствую, как мое лицо проявляется, будто она наводит резкость. Поворачиваю голову, смотрю ей в глаза. На миг мы превратились в одни глаза. Две рыбки. У Лоллы глаза серые, пепельные. Количество пепла такое же. как на кончике сигареты. Я тянусь к пепельнице, и мы стукаемся лбами. Она говорит:
– Что такое?
– Что?
– Да что-то такое есть.
– А что?
– Да.
– Нет, нет.
– Не скажешь?
– Я не могу одновременно говорить и курить.
– Э-э…
Я выцеживаю из сигареты последнюю затяжку и гашу ее. Точнее, пытаюсь погасить. Это сигарета № 102 204 в моей жизни, а я до сих пор не научился гасить их как следует. Из пепельницы – вертикальный столбик дыма. Окурок – недобитая муха, которая лежит на спине и шевелит одной лапкой. Новая попытка. Наверно, я просто слишком добрый. Ни в чем не могу потушить последнюю искру жизни. Я сдаюсь и с восхищением смотрю на то, как Лолла расправляется со своим окурком одним изящным движением.
– Ты верующая?
– Что?
– Верующая, спрашиваю?
– Нет. А что?
– Да гак,… Просто ты сказала: «Господи Исусе!»
– Когда?
– Сегодня ночью. Когда мы кончили.
– Боже мой! Я так и сказала?
– Что ты имела в виду?
– Что значит: что я имела в виду?
– Ну, просто… Ты это так сказала, я думал, это что-то означает.
– Джизус!.. Не знаю. Ты, что ли, об этом думаешь?
– Нет-нет…
Молчание. Двойное молчание, если считать телевизор. Говорить с женщинами – все равно что с иностранцами. За каждым словом стоит какой-то другой язык. Женщины – это иностранцы.
– А что сказала мама? Она велела что-нибудь передать?
– Нет. Просто передать привет.
Дым прозрачный, он прикреплен к пепельнице ниткой. На конце висит искра.
Часть 0 Если завтра взойдет не солнце, а что-то другое
Я просыпаюсь оттого, что в Японии землетрясение. Меня всего трясет. Под одеялом мурашки – как головы пяти тысяч погибших японцев. Время 14:32. Мне снился Элтон Джон. Он сказал, что у меня классные очки. А я был без очков. Эрекции нет. Наверно, он. Двуполый. Половинки в ширинке. Поднимаю с пола очки. Щелкаю по программам.
RAIUNO. Землетрясение в Японии по итальянскому каналу. Как-то не очень серьезно. Итальянские дикторши чересчур красивы. Красота преображает новости. Смотрю на нее (ц. 300 000) – блондинку в огромной голубой, безупречно отделанной студии. Из ее рта за ворот течет человечья жизнь. Между грудей – пять тысяч погибших японцев. Не надо. В конце концов, все мы когда-нибудь умрем. Она смотрит мне в глаза. Просыпаюсь. У нее в Риме муж, и они будут делать это потом, в роскошной бездетной квартире, где на каждом столе пузырится минералка. Во всем мире дикторш снимают так профессионально, как будто главная сенсация – это они, а я лежу тут под одеялом рядом с носками. Еще несколько репортажей – и у меня встанет. В этом плюс итальянских новостей.
Закат над Персидским заливом. А в придачу к нему – арабский мужской голос.
Симфонический оркестр в Копенгагене. А может, в Лондоне. Кому какое дело? По-моему, классическая музыка – отстой. Классическая музыка – это как такой небольшой проигрыш перед началом песни, пока ждешь ритма. Только здесь ритма не будет. Как можно слушать музыку без ритма?
Голландская реклама собачьего корма.
Ворота на футбольном поле в Сан-Паулу. Штанга! Повторный показ. Опять штанга.
Студия в Пакистане. Диктор в пятнистом розовом галстуке, купленном на общественные деньги, а за ним – карта мира. Страны – белые на голубом фоне, контуры грубые, упрощенные. Похоже на живописное пятно спермы. Я смотрю пакистанские новости, главным образом для того, чтоб узнать, есть ли на этой карте Исландия. У диктора пышная шевелюра: волосы надо всей Европой и над Гренландией. Я жду, пока он наклонится над своей бумажкой. Исландии на карте нет. Исландия – такая уж страна: то она есть, то ее нет. Смотря какое настроение было у художника. Смотря по тому, было ли ему влом рисовать этот остров, когда он корячился над картой в потной рекламной студии в Карачи, а факс до сих пор не починен, а любимая девушка бросила его две недели назад. Отсюда эта сперматозоидность в карте мира. Но я не такой уж патриот, чтоб дуться из-за этого. Жить на острове, которого нет на карте мира, даже неплохо. Типа, мы не с вами. Вне игры. Мы на вас смотрим, а нас никто не видит.
По американским каналам – женщины в спортзале. Вовсю пыхтят на тренажерах. Американцы – не лентяи. У них тут процесс идет полным ходом. Только никуда он не придет. Они топчутся на месте. То худеют, то толстеют. Сбрасывают вес, чтоб потом обжираться. Обжираются, чтоб потом сбрасывать вес. Крысы в клетке. Зачем жить? Мускулистые женщины. Как цветы на гормонах. От такого зрелища недолго стать импотентом.
Прогноз погоды в Южной Америке, Похоже, в Уругвае выходные выдадутся на славу.
Я снаряжаюсь в путь-дорогу и выхожу в ванную. Лолла сидит в гостиной. «Хай» – «Хай». Уже февраль, а Лолла все еще у нас Фактически она к нам переехала. Хотя это никогда не обсуждалось. У нее в квартире какие-то загадочные проблемы. По мне, так пусть живет. Правда, она лоллится в нашей квартире в любое время дня. У нее рабочий график какой-то бисексуальный, до сих пор с ним ничего не утряслось. Я мочусь сидя, чтобы можно было одновременно ковырять в носу. Все засохло. Залезаю указательным пальцем на горный кряж в левой ноздре. Запекшаяся кровь. Однако я отыскиваю в дальней долине мягкий участок и выгребаю из него три больших ломтя. Вкусная глина приятного светло-коричневого оттенка. Козявки из носа лучше есть натощак. Они образуют такой как бы поддон из слизи для «Чериос» и кофе.
Гостиная.
Я спрашиваю у ее величества. У Лоллы:
– Эй, у тебя сопли в носу есть?
– Что?
– Сопли. У меня самого нет; все закаменело.
– Нет, у меня тоже все пересохло.
– А прокладка? Или тампон, чтобы сделать из него отвар, или еще что-нибудь.
– Нет, Хлинчик, у меня ничего нет.
– Ну, может, у мамы есть.
– Да. Может, мама тебе что-нибудь привезет.
Один из этих дней: мне надо втереться на биржу труда и разыграть из себя безработного. Небо темное. Над городом – черные как смоль пакистанские волосы. Чувствую себя мусульманином, который собрался в мечеть. Это еженедельное собрание. Возносить молитвы, чтоб получить свой штамп. Безработный. Недавно один рейнджер спросил меня: «Ты сидишь без работы в силу обстоятельств или из принципа?» Я ответил: «Это мое призвание!» По-моему, в этом есть какой-то религиозный оттенок. Я иду на исповедь. Поп – женщина лет пятидесяти (ц. 750), в очках, белой кофте, с крестом на шее.
– Хлин Бьёрн Хавстейнссон!
– Я!
– Вы Хлин?
– Допустим.
– Так…
– Хотя я и сам не уверен.
Она смотрит на меня. Затем – молчание и зуммер в отдалении, пока она работает. Она смотрит на экран компьютера. Она работает с безработными.
– Вы не нашли никакой работы?
– Нет. Хотя… Я делал это с маминой возлюбленной.
– Простите?…
– Под Новый год я переспал с возлюбленной своей мамы. А мама была на севере. В Кваммстанги.
Чиновница снова глядит на меня.
– Я нечаянно. Больше не буду… Так что постоянной работы не предвидится. Мы напились… Или как вы думаете, стоит ей об этом говорить?
– Кому?
– Маме. Как вы думаете, мне маме признаться?
– Не знаю. Мне-то вы зачем все это рассказываете?
– У вас нет своего мнения об инцесте?
– Нет.
– Ну, вы сами замужем? Вот представьте себе, что вы замужем, то есть уже во втором браке, и ваша дочь взяла и переспала с вашим теперешним мужем. Как бы вы к этому отнеслись?
– Какой у вас личный номер, Хлин?
Я иду по Лёйгавег как простой прохожий, но эдакой безработной походкой. То есть я иду так, словно вся моя работа только в этом и состоит. Иду как часы. Мне за это платят. За каждый шаг – крона. «Мерить улицы», – сказал дядя Элли. На него это похоже.
Государство платит мне только за то, что я живу. И я ощущаю какую-то благодарность, и меня мучит совесть, когда я гляжу, как навстречу мне спешат сумчатые люди. Все эти люди, которые считают, что переводить деньги из одного банка в другой – это работа. Люди, которым платят за то, что они занимаются выплатами. Выплачивают пособие по безработице.
Дежурный по стоянке стоит возле машины и выписывает штрафную квитанцию. Я прохожу мимо него и оглядываюсь. Он направляется в ту же сторону, что и я. Гляжу на счетчик. Время вышло. У тротуара припаркован японский дамский автомобиль. Не знаю, может, меня совесть заела, но я извлекаю из кармана монетку в пятьдесят крон и бросаю в щель счетчика. Оглядываюсь. Парковщик: странный горемыка моего возраста. Он оскаливается мне в лицо. В моей груди бьется сердце. Сердцебиение государственное. Я поворачиваю диск счетчика.
Я иду за парковщиком, дежурящим на Лёйгавег. Захожу в магазин и размениваю две сотни крон. Потом догоняю парковщика, обгоняю и кидаю маны в три счетчика, на которых время вышло. Собираюсь кинуть в четвертый, перед Шахматным клубом, но парковщик козыряет мне и спрашивает:
– Эй! Что ты там делаешь?
– Кладу деньги в счетчик. Время вышло.
– Это твоя машина?
– Нет.
– А где твоя машина?
– Какая машина?! У меня и прав-то нет.
– Тогда зачем ты кладешь монеты в счетчик?
– Потому что думать надо не только о себе, но и о других.
– Нет. Так дело не пойдет.
– Ну?
– Нет.
– Разве класть деньги в счетчики за других запрещено?
– Э-э… Да… Не положено.
– Ты хочешь сказать, запрещено?
– Не то чтобы по правде запрещено, но просто не положено. Ну вот, теперь я не могу выписать штраф на эту машину, а она, может быть, уже целых полчаса простояла без оплаты. И другие три… Ты в четыре просроченных счетчика деньги положил!
– А ты с этого имеешь проценты?
– Что?
– Тебе за каждую лишнюю квитанцию приплачивают?
– Нет.
– Вот и радуйся, что тебе свою книжечку не придется опять доставать туда-сюда!
– А-а…
– А может, ты кайф ловишь, когда выписываешь штраф?
– Нет. Я просто пытаюсь исполнять свои обязанности.
– А я тебе мешаю?
– Да. Вот этим, тем, что ты делаешь. Тогда я становлюсь ненужным.
– Безработным?
Владелица машины, роскошная женщина (ц. 10 000) в лохматой шубе (ц. 50 000), с нервной прической (ц. 2 500) приближается к нам. Взгляд весьма проштрафившийся. На пятьсот крон. Вероника Педроза (ц. 50 000) читает новости. На Си-эн-эн. Она извиняется и говорит, что собирается уезжать. Я отвечаю: «Да ничего страшного», кладу в счетчик пятьдесят крон и поворачиваю диск. Ей обеспечены шестьдесят минут. Женщина говорит «О!», благодарит, улыбается и уходит. Я провожаю ее взглядом до дверей парикмахерской. Потом смотрю на парковщика. Бедолага. Когда я ухожу, мне становится лучше. Чтоб было еще лучше, надо закурить. Перед книжным магазином натыкаюсь на Марри.
– О, привет! Как живется-маррается?
– Да вот, книжку купил.
– Книжку?
– Ага. «Animal Psychology». Зоопсихология. Там есть глава про то, как разговаривать со своими петсами[138]138
От англ. «pets» – домашние любимцы.
[Закрыть]. Мы тут насчет парня переживаем. Мы ему все: «Торир, Торир», а он же дама. Мы его попытались перекрестить в Тордис, но как-то не покатило. Мы и Торой его пробовали звать – тоже никак. Я прямо не знаю… Трёст говорит, что это не важно, а Хосе, наоборот, считает, что это не к добру, но у него в башке, понятное дело, один витчкрафт[139]139
От англ. «witchcraft» – колдовство.
[Закрыть]…
Парковщик уже догнал нас и стал вынимать квитанции перед машиной с просроченным счетчиком. Я отбегаю от Марри к столбику и сую в счетчик последнюю монетку в пятьдесят крон. Парковщик смотрит на меня. На его лице написано раздражение. На всем лице. Кроме, пожалуй, носа. Марри:
– Ты на машине?
– Нет. Я просто стараюсь.
Холмфрид Паульсдоттир появляется из-за угла, словно одна из отечественных новостей минувшего года. Лицо серьезное. Из нее валит дым, словно внутри нее горит костер. «Холодны костры женщины»[140]140
Аллюзия на реплику из Саги о Ньяле: «Холодны советы женщины», ставшую крылатой фразой.
[Закрыть]. Традиционное «хай». Марри кладет книжку в пакет и умаррывает прочь. Прощается. Явно нервничает. Сейчас что-то будет. Да. Что-то будет.
– Хлин! Мне нужно с тобой поговорить. Я пыталась до тебя дозвониться…
– Вот он я.
– Давай куда-нибудь зайдем. Я… Знаешь, в таком месте об этом говорить нельзя.
– Да?
– Ну да.
– Это серьезно?
– Да.
– Ну, я… Вообще у меня мало времени…
– С тобой никогда нельзя поговорить по-человечески!
– Ну, давай!
– О'кей. Если хочешь знать, я беременна.
– А если не хочу?
– Что?
– Беременна?
– Да.
– От кого?
– Подозрение падает только на тебя! Оклахома-Сити. Уэйко, Техас. Всемирный торговый центр. У меня внутри обламывается несколько ребер. И падают прямо в живот. В кишках воет сирена «скорой помощи». Член съеживается, как будто это еще может что-то изменить.
– Я? Каким образом?
– Каким образом? Разве мы с тобой не спали?
Возле меня стоит полицейский. Я оборачиваюсь. Возле меня стоят двое полицейских. Разве я что-то не то сказал? Кто исландским копам такую униформу надизайнил?
– Простите. Вы не могли бы пройти с нами?
– Я? За что? Я был с презервативом!
– Пройдемте с нами в машину.
Рокси-Мьюзик! Стоит пустая белая «вольво», два колеса на тротуаре. Народ смотрит. Я гляжу на Хофи, как будто это она всему виной. Какой размер у алиментов? Я иду по Лёйгавег арестантским шагом. В Америке полицейские машины синие. Или они во всех странах синие? Хофи стоит на тротуаре и смотрит, как я опускаюсь на заднее сиденье. Именно это лучше всего описывает мое состояние: опущенный.
Я отмамчиваюсь домой. После того как просидишь в полиции два часа, ходить своими ногами – уже кое-что. Город беззубый. Все зубы, дома, впиваются в пиццы. В них, в этих блюстителях левопорядка, есть что-то такое непогрешимое: и уши, и носы, и подбородки, все на сто процентов правильное, наверно, из-за униформы. Как плохая фотография в красивой рамке. Лица заурядные-заурядные. И коповская кожа – такая гладкая. Может, прыщавых в полицию не берут? Кто будет уважать копа с прыщиком? Их было двое. И дежурный: «Не то чтобы это запрещено, но платить за парковку других – это противоречит духу законов». Святый Халлдоре Кильяне! «Какой у них дух?» – «Дух законов – это то, что в них сказано». – «А вы – духовидец?» Им это не показалось смешным. Наверно, поэтому меня заперли на целый час. Одного. С духом законов. Это один из этих дней. Духов день. И душечка беременна. С научной точки зрения исключено, чтобы от меня. В моей голове змея проглатывает страусиное яйцо, пока я отпираю дверь. Тишина. Но я чувствую, что они на кухне.
Мама:
– Привет!
Они сидят за кухонным столом. Пустые тарелки, атмосфера такая сытая. Лолла с сигареткой. Мама:
– Ты где был?
– Мы духов вызывали.
– Ой, правда? А где?
– В полицейском участке.
– Да что ты говоришь! Ты хоть поел? Вот… Садись. Я для тебя все разогрею. Холмфрид звонила.
– Ага…
Три лоллические затяжки. И такое тяжелое молчание, как в чужих объятиях. Запах шерстяной кофты. И зрачки перекатываюся туда-сюда. Нож с вилкой. Гром ножа и вилки. Лолла:
– Ну, мне пора.
– Ты куда? – спрашиваю.
– На дежурство.
– Угу.
Они прощаются над моей головой. Из одного «бай» можно вычитать так много. Целую байку. Шорох сумки и молнии на расстоянии семи метров. Хлопок дверью. Мне так тяжело, что еда не лезет в горло. Сам чую, как у меня пахнет изо рта. Андреа Йоунсдоттир (ц. 20 000) балакает по Второй программе. Мама:







