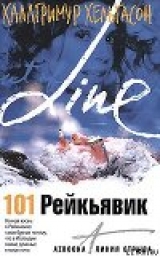
Текст книги "101 Рейкьявик"
Автор книги: Хатльгрим Хельгасон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Папа на девяносто процентов состоит из семени. Оттого он так прекрасен, с такой белой мягкой кожей. Пробую еще раз. Еще раз развернуть Лоллу:
– А как ты думаешь, как он поступает, когда у него эрекция?
– Не знаю. Наверно, у него все в руке Божьей.
Лоллипоп. Ты классная. Марадонна. И Шилтон не смог ответить. Рука Божья. Мехико-86[219]219
Речь идет об эпизоде четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, когда Диего Марадона забил рукой гол в ворота сборной Англии, которые защищал Питер Шилтон. «Это была голова Марадоны и рука Бога», – заявил после матча капитан сборной Аргентины. Публичные извинения Марадона принес лишь через 22 года – в интервью газете «Сан» 31 января 2008 г.
[Закрыть]. Лолла. Ты была как открытая вена. Откровение. Откровянение. Но не кровь, а сок из пизды. Единственная религия, которую я нашел для себя. Сидеть на плетеном стуле и смотреть на Оли с девушкой. Это было откровение. Религиозный опыт. Смотреть, как человеки порются. Самое прекрасное, что я видел. Божественное. Секс. Десять пальцев воздеты к Богу, плюс один добавочный. Порнофильмы: библейские сюжеты. Помню кабинку в Лондоне. Я – наедине со своим. В ожидании чуда. В ожидании того, что она спустится с экрана и возьмет в рот облачную облатку. Мельтешение кадров на экране, у входа в пещеру. В конце туннеля – свет, и ты – как житель пещерного века, глядишь из-под своих пещерных век в кромешную тьму, со всеми своими комплексами, пялишься во все гляделки, как доисторический кобель, и в каждом кадре – откровение, иконы, кончающие женщины, говорящие языками, и женщины на коленях с перманентными нимбами перед распятыми мужчинами, рты полны их восставшей плоти, и они стонут: «Oh God! Oh God!»[220]220
О боже! О боже! (англ.)
[Закрыть] Помню кабинку в Лондоне. И кабинки в лондонских церквях. Исповедальни напоминали секс-кабины.
Хотя… В чем-то я против секса. Где-то далеко позади – так что звон едва слышен, – где-то далеко в глубине затылка мозг бьет во все колокола о том, что секс – это плохо, грубо, неприлично и что свой причиндал надо заключить в клетку и выпускать на прогулку только в целлофане. Не разбрызгивать из него на оранжевый пластик и телеэкраны. Даже я… Даже в меня Папа впустил свои когти. На моем плече – какая-то исто-католическая лапа, которая медленно тянется, выползает из длинного-предлинного – длиной в две тысячи лет – туннеля, в котором уже давно нет света. Рука Папы: мягкая, осторожная, налитая спермой. На моем плече. Но я хотя бы могу утешить его тем, что мы с Лоллой не предохранялись во время нашего грехопадения. Ведь Папа против противозачаточных средств. Что, впрочем, легко понять. Иначе бы он не родился. Если б его родители резвились иод покровом науки. Единственное, что держит меня на плаву, – надежда на удачный минет.
– Да, кстати: поздравляю тебя.
– С чем?
– С обручением. Поздравляю с обручением.
– С каким обручением?
– Ну, вы же с мамой обручились?
Ага. Подействовало. Мне удалось изобразить из себя более запущенный случай, чем Сигурд Фафнир Фридйоунссон, бывший плотник, который пропил предприятие и машину, изнасиловал жену и детей молотком и кончил на какой-то карте в «Хилтоне» в Амстердаме с голландским шестидюймовым пестиком в заднице. Она наконец поднимает глаза от своего отчета и смотрит на меня. Я меняю тон. Спокойно говорю:
– Поздравляю с мамой.
– Да… Она тебе сказала?
– Сказала. Точнее, я все сказал за нее. Я дал ей сексуальный ориентир.
– Да. Она сказала, что ты молодец. Что ты помог ей найти выход из положения.
– Она-то из положения вышла. А кое-кто другой, напротив, оказался в положении.
– Ты хочешь сказать, для тебя это тяжело?
– Нет. Я об Эльсе. Она в положении. Беременна.
– Да. Мне говорили. И кто она…
– Эльса – медсестра. Она заботится о здоровье населения.
– Ты так говоришь, что можно подумать, что это не стоит обсуждения…
Любезная моя лесбиянка! Ты спишь с женщинами. В убежище от грозящих разящих мужских членов, набухших бедами и опасностями. Спи спокойно. В чужих объятиях. На низком ложе вдалеке от продолжения мужчины, от коловращения жизни, мягко играйте телами друг друга, под зонтом, защищающим вас от обрушивающихся вниз капель спермы, с лоном и чревом, залатанными во избежание беременности. Зеленые земли в безбрежных морях. Влюбленные девы в бесхлинных полях. Две телицы на лугу сплетаются тельцами вдали от всех тельцов, вымена сося, языки жуя, из сосцов уста наполняя, – мягкие влажные нежности в промежности, – и кончая в одно и то же время. МУ! My за му, копыто за копыто, хвост за хвост. Нега ради неги. Грудь ради груди. Незатраханная страсть. Любовь ради любви. Сплетайтесь же под одеялом, объятия милых дам!.. А может, никому и не дам… Двое ножн в любовной игре вдали от всех мечей. В то время как мы – немощные мужчины – проводим свои дни в неравной бар-рьбе с собственным оружием и дрожащей рукой выжимаем капли жизни из застывшего паршивца. А карманы полны презервативов годичной давности. Пока мы бьем стаканы и бьемся головой о ступени и стены, нам дают по рогам, по всем порогам, нас складывают в кучу трупов с острием человека в заднице, ветром в карманах и табаком в душе. Вперед, мужуки, мы-жуки!
– Почему же, стоит. Только осуждения.
– В каком смысле?
Осуждаю я чрево твое, женщина. Холодна кровь, по пещере твоей струящаяся, праздно висят там яйцеклетки, пусты стаканы в баре, и несть очей в углу; незажженными стоят там свечи во веки веков, они же истекают похотью. Никогда не вспыхнет здесь искра, никогда – жизнь. Не войдет сюда луч длинный и тонкий. Ничто не войдет, ничто не выйдет. Помещение, куда ничего не помещают, обертка не из-под чего, оболочка вокруг самой себя; не горит костер твой, не идет чад, несть у тебя чада. Не бьется сердце во чреве твоем. Никто не выползет вон босиком. Ты, жена, – осужена! Однополо делишь ты ложе с сестрой, с матерью. Соития твои рукоблудию подобны. Совокупления – совокупное самолюбие.
– Не знаю.
– Не знаешь?
– Нет.
– Ты просто так сказал, что ли?
– Да. Взял вот и сказал. Это просто слово такое.
– Осуждение? С каких это пор ты стал судьей?
– Нет, нет… Я, наверно, имел в виду, что у лесбиянок детей не бывает. Такое вот… суждение о…
– И что же в этом такого крамольного?
– Ничего… Просто я…
– И кто вообще сказал, что если ты лесбиянка, значит, и детей иметь не можешь?
– Ну, почему, конечно можешь.
– Чем я хуже других! В мире полно лесбиянок, у которых есть дети.
– Ведь мы с тобой спали?
– Да.
– Ты это уже забыла?
– Нет, нет.
– Что это было?
– Что?
– Да, что это такое было?
– Ну, это так… Нечаянно.
– Отчаянно?
– Нечаянно.
– Ошибка в программе?
– Это был как бы несчастный случай.
– А травмы были?
– Травмы?
– Да. Тебе потом в травмпункт бежать не пришлось? Ничего тебе не пришлось после этого зашивать?
– Я напилась. И ты тоже пьян был, правда? Или что это было для тебя? Тебя это так волнует?
– Меня? Нет, нет. Всю жизнь мечтал наставить маме рога.
Досточтимый Хлин я: тридцать четыре года несчастий всех цветов радуги, тихий рост бороды, половозрелый коклюш, младенец с пухом в паху, в колыбели с бутылочкой… виски, три с половиной килограмма восставшей плоти, король и шкет, несчастный и ревущий, запеленатый в полотенца, пьяный на пеленальном столике, льющий мочепиво, пузырящийся сопливо, похмельное диво, лепечущий дурак, мочащийся на материнское лоно, хлинический идиот у груди, до следующего кормления сосущий сигарету. Спящий на балконе с соской в коляске и просыпающийся с эрекцией до пупа, в честь происхождения, рождения, слияния, сливания, писающий под матку и злоупотребляющий материнской любовью на ковре. Ослепленный грудями, немой от алых губок, хромой от сердцебиения, топающий по ногтями украшенной, изгрызенной дороге жизни. Безнадежно отставший в половом развитии, сидящий на пособии по импотентности, зовущий: Мама! Я уже все! Покакал! Вытри мне попку! Смени подгузник! Мама! Мужчина, имя тебе Том Ление…
– Наставить маме рога?
– Да.
– Я думаю, она не рассердится, что ты спишь с кем-то…
– Кроме нее?
– Э-э… Да.
– Но ей, наверно, не все равно, что я сплю с ее женой.
– То есть ты хочешь сказать, что это я ей изменяла?
– Или мне. С ней.
– Значит, это я виновата! Злая Лолла заманила маленького Хлинчика, королевича Хлина, в западню…
– А он не ведал ни сном ни духом, что она приползла с ложа королевы, еще теплая и пахнущая ее волосами, нагая, облаченная в ее лобзания, язык ее облит соком, который когда-то указал ему путь во тьме на свет божий. Нововенчанная ее прелестями, она привнесла в него, престолонаследника, вкус, который отливал его члены в материнском лоне. Ее губы накинули пуповину на его шею… Продолжай!
– Bay!
– Да, вау.
– Это что, какая-нибудь пьеса? У нас здесь с тобой трагедия? Ты посмотри только на себя! В очках, и… в этих вечных свитерах… Уж не знаю, кем ты себя возомнил, но ты не герой древнегреческой трагедии. С сигаретой… Тебе это не идет.
Я встаю и раскидываю руки в такт моим словам:
– Кто сам без греха… Уйди-ка от греха.
Лолла прыснула. И потом говорит, с насмешкой:
– К тем я суровее всего, с кем я сплю[221]221
Переделка крылатой фразы из «Саги о людях из Лаксдаля»: «К тому я суровее всего, кого я люблю» («Peim er eg verst er eg unni mest»). (Эту фразу произнесла Гудрун после тога, как велела убить своего возлюбленного Кьяртана.)
[Закрыть].
– Жена двупола, клитор бородатый, ты делишь ложе с матерью и с сыном…
– Эй, прекрати! В театре я была вчера!
– Всякий театр – анатомический, жизнь в нем положена на помосты, и зрители приходят затем, чтоб посмотреть на труп. Занавес поднимается, и открывается посмертная маска жизни, холодная бледность, грим актера. А потом показательный суд при полном зале, и все знают, что убийца – автор, и лишь от его ловкости и искушенности в законах (стиля и владения пером: его алиби) зависит, будет ли приговор опубликован в газетах, будет ли он пожизненный, условный или по окончании спектакля автор чудом избежит наказания. От этого зависит, похлопают ему или его прихлопнут. Зароют ли труп сразу или продержат на сцене еще много лет, применяя всякие ухищрения, притирания и грим, на подмостках, помостах для трупов. Писатели – предатели! Вооруженные пером воры. Чувствительные насильники жизни. Шекспир и К. Серийные убийцы истории. Которые избежали. Гильотины. В то время как гильотинированные главы истории катятся по полкам, они дорого поплатились, их отбиографировали от тел, но некоторые из них еще держатся на одной жиле, удачной строке. А у других – их меньше – голова на бюсте. И лишь немногие сохранили жизнь и все члены, стоят в пальто на пьедесталах в городских скверах. Покорные покойники. Всякий театр – анатомический, а жизнь – труп в нем. И сам я стою здесь в гостиной в последние месяцы своей жизни и делаю в уме короткий шаг по направлению к тлению, смердя умирающими словами.
– У-у, браво, – язвит Лолла. – Тебя бы вчера в театр – со сцены монолог читать!
– А какую пьесу давали?
– «Дочери Трои»
– «Дочери Трои»… Значит, их там было трое?
– Это греческая…
– «Trojan's daughters». Такой, что ли, греческий юмор?[222]222
«Троян» – распространенная марка презервативов.
[Закрыть]
– А-ха-ха! Древнегреческий. И это трагедия.
– А зачем вы пошли на трагедию? Разве недостаточно самому ее пережить? Или самому ее создать?
– А ты не сдаешься.
– Это ты не сдалась.
– Фак ю!
– Ноу. Ай факт ю!
Лолла отворачивается и делает вид, что продолжает корпеть над своими отчетами. Да, это трагедия. Определенно трагедия. Юдоль скорби, перехваченная посредине горным хребтом. Я пытаюсь опять наладить контакт. Подхожу к столу и ставлю колени на стул, а локти на столешницу, переключаю скорость и говорю дружелюбным тоном:
– А вы там плакали?
– Нет.
– Да ну? Вы же трагедию смотрели, ужасную трагедию. Или, может, постановка была ужасная?
– С тобой без толку говорить.
– Просто ты не хочешь со мной говорить. Ни сейчас, ни тогда.
Она поднимает глаза:
– Когда это?
– Пока не стало слишком поздно. Пока мы не приступили…
– То есть ты ничего не знал? Невинный ангелочек? Маленький…
– Маменькин сыночек?
– Да, или просто безумец…
– Скажи еще «безумный Гамлет»!
– Хлин Бьёрн!
– Что?
– Ведь ты все знал.
– Нет.
– Знал!
– Знание – это знание. А женщина – это женщина.
– Bay! Какие фразы! Где ты их набрался? Что с тобой? Ты какой-то странный. Говоришь как псих.
– В клинике? Как псих, которого лечат. И делает это Лолла. Специалист-консультант-нарколог. Маленькая добренькая самаритянка, предоставляющая свою пизду всем нуждающимся. Мужчинам и женщинам, сыновьям и мат…
Она отвешивает мне пощечину. Неплохо для разнообразия. А то я уже устал от всех этих плакальщиц. Но я не ожидал, что это окажется так приятно. У меня даже встал. И стоит. Но не стоит. Надо подсуетиться и схлопотать еще одну. Она глядит на меня, красная от гнева. Я, ухмыляясь из-под очков:
– Всего одна пощечина? Ты уже кон… конь. Троянский.
– Прости. Но с женщинами так не разговаривают.
Ну заладила. С женщинами так, с хренщинами сяк…
И ты, Лолла?!
– Женщина и не женщина. Ты ведь бисексуалка? Ты у нас «би»? Разом и «би-би» и «тах-тах». И женщина, и мужчина?
– А с кем из них ты спал?
– То есть?
– Как будто тебе самому не хотелось со мной переспать! Все время пялишься на мои груди сквозь свои дурацкие солнечные очки, когда я ухожу из гостей, тоже бежишь за мной по пятам, ходишь за мной, как хвост, по всей квартире, распустив слюни, как кобель, а сам под крылышком у мамы до сорока лет, со своей вечной несуразной эрекцией по поводу и без повода…
– Ну? Ведь она себя оправдала? Или как?
Но нашей подруге не до шуток, она вовсю разошлась и вещает дальше:
– …расписал свою неудовлетворенность на все лады, а сам боишься всех женщин, как черт ладана! Стоит только какой-нибудь Холмфрид даже не то чтобы на порог к тебе зайти, а просто позвонить, ты уже и хвост поджал! Обычных человеческих чувств не терпишь, кроме как по телевизору, ночи напролет гоняешь по видео порнуху… Хлин! Тебе не семнадцать лет! Пора бы уже с этим смириться. Попробуй заглянуть правде в глаза. Попробуй спросить себя: какую жизнь ты ведешь? Какая у тебя жизнь? Попробуй дать ответ на этот вопрос. Какая у тебя жизнь?
– Ну, такая, какую папа дал.
– Вот именно, Хлин, вот именно. Именно об этом я и говорю. Гроу ап![223]223
Grow up! (англ.) – Вырасти!
[Закрыть] Оживи! Загляни жизни в фейс! Попытайся… жить!
Я подвигаюсь к ней чуть поближе.
– А что… что значит «жизнь»?
– Все, кроме того, чем занимаешься ты… не по телику… горе, любовь, радость, слезы, пот, кровь…
– Все, кроме мышления?
– Мышления? Нет, и оно тоже…
– И все же в основном такое общение там, обниматься, разговаривать, напиваться там, с кем-то спать, беременности… короче, всякие приключения.
– Ну, хотя бы так…
– В последние три дня я только тем и занимался, что жил. Честно признаться, уже поднадоело.
– Явно нет…
– Разве?
– Тебе явно нужно что-то еще. Да. Тебе нужны проблемы. Ты – проблемоголик. Ты – типичный случай того, когда человек сам по себе пуст и поэтому все время ищет на свою жопу приключения, всякие проблемы. Тебе просто надо для себя что-то найти, какую-нибудь цель, какую-нибудь жизнь… жену там, работу… короче, заняться чем-нибудь, а не тратить все время на поиск старых ран, чтоб их растравлять. Несуществующих ран.
– Пизда – это незарастающая рана.
– Bay! А хуй тогда что? Неудаленная опухоль?
– Ну, скорее такое вздутие.
– Да? Такой нарыв, такой прыщ, который иногда надо выдавливать, и из него выходит такое белое… такой гной.
– Во: гной в ране…
– Ай, Хлин, прекрати! Иди и найди себе… какую-нибудь жизнь.
Она смеется. Теперь она смеется. Она смеется теперь. А у меня встает. Смех и первородный грех.
– Эх, Хлин! У тебя все так бессмысленно и нелепо. Ты посмотри на себя! Ах, ах, бедный мальчик, все кончено, впереди ничего, злая Лолла все развалила…
– Злая Лолла сама повалилась. На ковер. Ты была великолепна. Я никогда не спал ни с кем, кто бы сравнился с тобой. Невероятно!
– Правда? Благодарю.
– Я понимаю, почему мама переориентировалась ради такого явления, как ты. Лолла, Лоллаах…
Я огубливаю ее лицо. С открытым ртом. Я огубленный. Загубленный. Не вышло. Она уворачивается. Отпихивает меня. Никаких пощечин. Молчание. Она сидит. Я встаю. Из-за стола. В гостиной. Я стою. У стола. Ищу пятно на ковре. Подхожу к стулу. Сажусь. Закуриваю. Семь затяжек. Семь молчаливых затяжек.
– Как ты считаешь, в чем главное различие между мной и мамой в постели?
Она хватается за голову и вздыхает. Слышу, как она произносит дежурное «Джизус!». Потом она встает. Собирает бумаги и стоит с ними в руках, смотрит на меня. Как раненый зверь. Ранний зверь. Званый в дверь. Не звал – не верь.
– Ты просто идиот.
– А ты умная.
– Это прискорбно.
– Трагедия. Ужасная трагедия.
– Скорее постановка ужасная.
– Тогда и плакать не из-за чего.
– Это действительно так серьезно?
– Серьезно не серьезно, а тема для разговора есть.
– Чтобы тебе было чем заняться?
– Ага. Точно.
– Тебе недостаточно, что ты все это смотришь по своему телевизору? Может, тебе лучше в театр сходить?
– Вряд ли мне это нужно, если у меня кон… если у меня дома целый троянский конь.
– Ты о чем?
– Ну, просто… Такая немыслимая штука, которая вдруг появилась в доме, и все думали, что это к счастью, а фигли. И никто не знал, что там внутри. Так ведь?
– А что внутри?
– Целое войско. Так ведь?
– Однако, я бе… То есть я – беда?
В этом «бе» что-то есть. Это «бе» – не просто блеянье.
– Нет-нет. Скорее, «бе»…
– Да? И какая же я «бе»?
– Не знаю… Бедная? Бесподобная? Беременная?
– Беременная?
– Да, наверно…
– А почему ты так решил?
– Да просто, с языка сорвалось.
– С языка сорвалось?
– Да… Я же без презерватива…
– Понятно… Ты – без презерватива, значит, я – беременна. Ну-ну…
– Наверно…
– Я не могу забеременеть.
– Ну? «У лесбиянок детей не бывает…»
– Нет, не в том дело. Я просто не могу. Я десять лет пыталась…
– Ну? Зачем?
– АХ, ЗАЧЕМ? Я ХОЧУ РЕБЕНКА!
Ну начинается. Слезы. Притворные женские слезы. Старинная динамомашинка, которая, очевидно, встроена во всех женщин, со скрипом заводится. Заводится с хныканьем. И ты, Лолла?! Она поворачивается к столу и собирает свои вещи, складывает бумаги в пачку. Нарколог-консультант. Не могущий зачать. Не могущий дать жизнь. Поэтому пытающийся ее изменить. Другим. Безнадега. Вот какое это «бе». В этом что-то было. Я встаю. Очевидно, в знак соболезнования, как в церкви. Рука Папы Римского… Подвигаюсь к ней. Не знаю зачем. Говорю дурацкое (ну вот, еще раз – прогресса, очевидно, не предвидится):
– Извини.
Я брожу вокруг стола в черных штанах и белом свитере, как нелетающий пингвин. Руки – ни для чего, от них мало толку, я даже не могу их никому подать. Руку помощи. Лолла утирает лицо так, будто застегивает пенал. На молнию. Лиса закапывает добычу в сугроб. Я соболезную, но… Я ничего не могу поделать. Или сказать. Что может один-единственный черно-белый мужчина сказать женщине, которая плачет всеми цветами радуги? Я немного поднаторел в утешении плачущих беременных, но утешать плачущую безнадежную – мои пингвиньи руки опускаются. Она уже собрала все вещи и говорит – бесслезно трезво и по-стрейтерски, подвигая стул к столу:
– Ничего. Все нормально. Я беременна.
– Что?
Она поднимает глаза и едва заметно улыбается:
– Я беременна.
– Как? Ты же вроде сказала, что не можешь?
– Да. А теперь наконец смогла.
– Ну, ну… – задумчиво произношу я, и она мгновенно просекает, о чем я думаю:
– Не бойся, не от тебя.
– Ну? А от кого?
– От одного моего друга.
– Так, так…
– Он мне в этом… Мы так долго пытались… Мне так хотелось ребенка…
– А кто это?
– Он не из Рейкьявика, ты его не знаешь.
– А-а, этот, из Акранеса?
– Да.
– А как же мама?
– Она знает. Она все знает. Она согласна. Мы будем воспитывать моего сына вместе.
– Сына?
– Да. Я ходила на УЗИ. Это мальчик.
– Правда? Вот как.
– Да. Это ваще…
Это «ваще» – ваще супер!
Ну, брат, ты и даешь! Три беременности за три дня! Нет, за четыре. Страстная пятница – Хофи. Кайфовое воскресенье – Эльса. Материн понедельник – Лолла. Что же я в субботу-то сплоховал? Лопухнулся. Винни Ло Пух. Наверно, завтра я из дому не выйду. Хватит уже. Жизнь. «Оживи!» Так ведь она сказала? Хватит с меня трех жизней. Лолла. И ты, Лолла?! Это не я. Стала рыженькая курочка яичко высиживать. «Не я, не я», – сказал Хлин Бьёрн[224]224
Аллюзия на детскую сказку о маленькой рыженькой курочке. Курочка пекла хлеб и спрашивала у разных животных: «Кто хочет мне помочь?» – а они отвечали: «Не я, не я!»
[Закрыть]. Хлин Бьёрн. Лин(чик) Ёрн(ик). Трех детей наерничал. И это я, который детей терпеть не может. То есть с ними говорить невозможно. Не о чем. Они ни во что никогда не влипали. Сижу на стуле и тружусь над сигаретой. Она ушла и унесла свои отчеты и свой плод. Рыженькая курочка. Сказала, что уже на втором месяце. Два месяца носит плод. А куда она его принесет? Ко мне. Это мог быть я. Или этот, из Акранеса… Постой-ка: в Акранес она ездила между Рождеством и Новым годом. Помню, что я здесь две ночи куковал совершенно один. А через несколько дней, когда настало «время лимбо»… Да. Это мог быть и я. Просто она надеется, что не я. Почему нет? Из-за мамы. «Несуразная эрекция». Вот уж не думал. Какой-то чувак из Акранеса. Какой у него воротник? Какой-нибудь плюшевый тип из провинциального гормузея, какой-нибудь «хороший человек», папистый хрен из общества содействия сексменьшинствам, председатель группы поддержки, какой-нибудь почетный член (а по нечетным зад) движения с девизом: «Окажем лесбиянкам помощь!» Подарим лесбиянкам жизнь. Какой-нибудь «хороший человек, с хорошим генофондом». Какой-нибудь жеребец, которого держат в загоне в Акранесе в одном нижнем белье, а может, верхнем чернье, а может, вранье и используют этого урода для продления рода. Хотя это, наверно, неплохая работенка. «Команда Акранеса забивает гол…» Да, он гол. И этот голыш насадил в Лолле целую грядку черных волосяных луковиц. Они так долго пытались… Акранесское семя с цементом напополам, цемент – «cement» – «semen»[225]225
«Семя» (лат., англ.).
[Закрыть], из цемента жизнь не отольется. Нет. Отольются ей эти слезы. Это я. Черт побери! Я, я, я! И Лоллу качает «Акраборг» на обратном пути, у сперматозоидов морская болезнь, ни один из них не доплыл до финиша. О нет. Лиса закапывает добычу в сугроб. Гроб. Для меня. Это я. За три дня мне удалось сделать ребенка трем. Кто скажет, что это не жизнь… Да. Я сделал ребенка трем. Хофи, сестре Эльсе и… маме.
Пришла мама, распакечивается, расшубивается, снимает с себя весь этот непонятный контекст, который называется «общество». Я тактично гашу сигарету. Как будто в этом есть что-то от аборта. На этот раз получается-таки погасить ее как следует. Хоть какая-то перемена после того, как эта жизнь, эта жизнь…
– А, о, привет, – ласково выдыхает она и ненадолго застывает передо мной.
Мама. В светлой шубе с двумя тяжелыми пакетами, утренние тени на веках и вечер в волосах, черные нейлоновые колготки: в них очерчиваются пальцы, как десять машин с выключенными фарами в потемках.
Мама. Главный товаровед, герой повседневности, стоит передо мной, сильная, но усталая, с двумя целлофановыми щенками, в сумерках своей жизни, она прошла через давку в центре, слякоть, сугробы на Лёйгавег, стресс и теперь стоит, как целая летопись уличного движения: в сосудах пробки, на щеках следы колес, на боку перекресток, в слепой кишке полно машин, в сердце мигалка, по всему животу «лежачие полицейские», во внутренностях вся «Крингла», в кишечнике эскалатор и подземный переход, и лестницы, и лифты, и коридоры, в волосах сто тысяч каменных кладок, и, несмотря ни на что, внизу, под этим всем, у нее горячо, под всеми переплетаются трубы теплотрассы материнского тепла: на маму не ложится снег, и ее сердце никогда не леденеет. В душе целая площадь, а в глазах всегда можно припарковаться.
Мама. Город. Мама – целый город. «Город мой!» От него не отгородишься. Большая, как город. Город с населением сто тысяч человек.
А за спиной у нее синие горы, Скардсхейди и другие хейди[226]226
Хейди – высокогорная пустошь.
[Закрыть], весь север: под полами шубы виднеется старый порог на севере страны, а за ним вся ее семья на кухнях всех времен, от дымных очагов до пластиковых бортиков. Там сидят они – ее праматери, они дотягиваются: домотканые – до ливерной колбасы, джинсовые – до хот-дога, сто лет высматривают из-за занавески мужа: рыбака, бизнесмена, бормочут: еще еды и еще еды, и дети мои родные. Мамино детство. В гостиной на севере…
Где-то… Где-то в недрах моей души лежит фраза, длинная-длинная фраза, ее кто-то написал, а я прочитать не могу, но чувствую, как где-то у меня, точнее, во мне длинная фраза, мамина жизнь… Мои пятки стынут на холодном полу, на севере… На полу на севере страны…
Годы с 1939 по 1941 прошли на цыпочках по голому каменному полу на студеном мысу на севере, между знаком «Rafha»[227]227
Исландская фирма, выпускавшая электроприборы (гл. обр. кухонные плиты).
[Закрыть] и комодом и шкафом, а 42 и 3 – на крыльце, а 44 – уже на мысу, образование республики за игрой в прятки и упавшая доска, годы войны в Кваммстанги – тихие и мирные у открытого залива: война – только волна, бой – только бой часов, а сорок пять, шесть, семь и – прыг-скок! – уже в Париже, а восемь, девять и пятьдесят в школе, а потом 51, 52, 53… три волосатых года в пансионе в Рейкьяр, старая черно-белая фотография, на ней ты у стены – куришь? С сигаретой, загофрированной в складках юбки, со свежевыросшими грудями, долгожданная сенсация в однообразной жизни фьорда Баранов, где все так и жаждут пристать К-вам-с-танго, и ветерок ласкает их – груди мамы: самые священные вещи века в бюстгальтере фасона 53-го года, мягкие человеческие холмы, на которых можно воздвигнуть по целой церкви, по новой вере, но тогда их прикрывала только дешевая широкая кооперативная кофта, и гладил их только ветер с моря, груди, из которых потом сосал я, а до того их охаживал в грузовике по дороге на юг, в столицу, пухоголовый парнишка с призраком бороды на подбородке, которую ему еще предстоит брить и растить; мама, ты вовсю старалась между передачами, в те времена их редко переключали, разве что обратно на первую, а вся пустошь – на второй скорости, и ты – целый груз грузовика, – в мыслях парня на сиденье, он смотрит вдаль, но видит только тебя, изредка поглядывая на шофера, Бальдра с Ноу, Бальдра с Ноу, который, наверно, порастряс щеки всем своим землякам за время своих бесконечных рейсов по дорогам страны; мама, ты заполнила все самолеты, американские моторы крутились для тебя, и свечи «Чемпион» горели всю дорогу на юг, для тебя, машины «додж» вытаскивали из грязи, для тебя, и целые цистерны бензина сжигали во имя тебя, тебя везли на юг многодневными перегонами, тебя везли на юг в воспоминаниях молодого человека о тебе, ты была – она: Саймова Бег-га из Лавки, первая красавица в Хунаватнссисле, и они приходили, чтобы купить мыло и газировку, а в их душе пузырился один вопрос: ты не хочешь на танцы со мной? Что тогда означало: «стать моей женой», но они стеснялись и говорили только «а?», когда ты спрашивала: «Открыть?» – открыть, открыть, и все эти бутылки с газировкой, с газировкой, которая от твоей улыбки превращалась в мочу, – я не шучу; там, на севере, по деревням о тебе рыгали, собаки лаяли о тебе, ручки вращались вокруг тебя, и все двери были для тебя открыты, а ты выбирала, и выбрала ту, которая потом открылась на улице Калькопнсвег, в сентябре, в семь часов, и ты прибавила к Рейкьявику еще одно пальто и спросила дорогу, как еще одна провинциалка, на Лёйгавег, а потом стояла на деревянном полу на улице Бергторугата, в доме незнакомой родни, как новое слово, которого прежде не было в языке, на том же месте, где ты стоишь сейчас, сорок лет спустя, как будто ты все это время ждала, ждала, пока лоллы этой страны научатся ходить и читать, прочтут это слово, станут этим словом, а потом провела целую зиму с Оливетти и три года в Коммерческом институте и дала поцеловать себя дважды, чудовищно плохо и удивительно хорошо, у стены в переулке Вонарстрайти и в машине с деревянной кабиной летом на пустоши, над ручным тормозом; себя – неэкономную экономку, не сладившую со своей грудью, стосковавшейся по ладоням, и ладонями, стосковавшимися по груди, дорожно-рабочие руки под кофтой, мозоли на муслине, ты не знала, куда деть свои порывы на Арнаватнсхейди, но приземлилась на юге у «Олд спайс» и… стрела Амура? Или все остальное было слишком хмуро? – в такси под Рождество, тогда это стоило всего тридцать две кроны, и потом столько же лет… скелет… в браке, тебя выбраковали, а за такси-то кто платил? Мама! КТО ЗАПЛАТИЛ ЗА ТАКСИ?! Мама?! Папа? Да, он: он наклонил свою башку с прямым пробором и вынул деньги из кошелька, будущий Седобородый на пахнущем пластиком сиденье, рядом с тобой, тридцать две кроны, а тебе – столько же лет на то, чтоб отдать этот долг, супружеский, дружеский, натруженный, ему, который поймал тебя в сеть – в сетку, авоську, в ночь под Рождество, сказав: «Ты самая красивая», он был в галстуке, с узелком, завязал тебе узелок, кровавый узелочек в чреве: Эльса, взбухающая под академической студенческой шапочкой, Эльса, с именем, выисканным в стареющей дуреющей бабушкиной голове, а потом я, в шестьдесят втором, – и вот я пришел в этот мир, как дурак, как бессознательный дурак, – в мир, и был окрещен в воздух, и с тех пор только и делал, что вдыхал его, в последнее время – сквозь фильтр, который сейчас лежит в пепельнице, желтый, как палец в могиле, палец моего дедушки, который когда-то гордо возносил эрекцию, такую же глупую, как все эрекции всех времен и народов, безнадежные и бездумные, признанные современными женщинами «несуразными», и все же насущные, как для них, так и для тебя: из дедушкиного яйца перешла ты в бабушку и сосала ее груди, как я потом – твои, а теперь их сосет Лолла, эти груди, на груде тел; а в те времена открытые бассейны Рейкьявика выдыхали в темноту пар, и рифленое железо вокруг них было желтым, и ты на холодном бортике в черном купальнике, почему ты тогда не взглянула на светловолосых дев, – совсем обалдев, – затаив любическую тоску в душе, нет, в душе, от своих однодушниц ты укрылась, под тени, под стены, под Стейни – единственного, кто видел твои груди и слышал, и любил тебя больше жизни, а тебе подарил целых две, новых, и уехал на работу со скребком – отскребать поцелуи со внутренней стороны лобового стекла, ничего не видел из-за тебя в непогоду любви, мой папа в «саабе» «саабе», папа в «саабе» «саабе», по Южному проспекту в начале февраля шестьдесят девятого и наконец решил, что ему необходимо пропустить (кого он пропустил? Лоллу, которая ждала за твоими глазами?) до ужина, в буро пахнущий соус для фрикаделек он подмешивал «Баллантайнс», «Баллантайнс», одеколон моего и Эльсиного детства, и Эльса с гриппом в постели, и ты, мама, бежишь с едва не сбежавшим молоком от меня и глаз, в кухне больших глаз, которые выматывали у меня последние нервы, мой отец алкаш, который в седобородости своей бередит поверхностную рану на Саре, первосортном товаре, солнцем проточенном, но давно просроченном, тоскует ли он – несчастный лонер – о твоем лоне и шестиста семидесяти пяти тысячах четырехстах тридцати восьми поцелуях, что ты дала ему на порогах, лестницах, каменных полах, коврах и линолеуме (завезенном ныне пристукнутыми апоплексическим ударом оптовиками, зарытыми в корыте), на кафеле, в постели и на переднем сиденье перед винным магазином вечерами в пятницы тридцать лет, и тоскует ли он о двадцати трех парах брюк, которые у него были и которые теперь неизвестно где, может быть, на лотке в Колапорте? сканирует ли столы и вешалки с ремуладом в бороде, думает ли: «Неужели все это было напрасно? Все это ошибка?» – годы причесывания волос, все в желтой машине шведского производства, и субботние утра в палатке, ливни – еще не высохшие – над водью и гладью озера Лёйгарватн, и часы уборки, с «Nordmende» на Стаккахлид, 4, с «Филипс» на Эскихлид, 18, танцевальная музыка, и кто-то песни орал, но он взял и удрал с дружками, с Берти и Видди, в «Рёдуль», в «Сагу», в «Корабельный сарай», а потом на какое-то застолье с табличками «Свободно», освещающими дорогу до рассвета, и вот он засветился дома, с фонарем под глазом и лучами из носа; тогда он отлучал от себя носки (папины носки! О, папины носки! Все папины носки! ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ?!!) и залезал в кровать, и говорил «дорогая», и вся шероховатая ночь дрожала у него на щеках, просыпалась из глаз, и ты просыпалась, – это лицо, лицо отца моего, которое лежало с закрытыми глазами на подушке, а время рисовало его, все еще не готово, все дальше и дальше, черкало карандашом, обводило, добавляло, чтобы зарисовать этот типаж, этого Хавстейна, получше, а ластика нет, на этих всенощных уроках рисования у времени, лицо на подушке, рисунок на листке, и ты смотрела, следила, как линии тяжелели от графита, у глаз, вокруг рта, как под конец все стало вымученным и тяжелым на рисунке времени, этого чересчур кропотливого художника, у которого, однако, иногда хорошо получается парой штрихов запечатлеть красоту, которая останется в веках, твою красоту, мама, скромную Хунаватную красоту твоей мягко-желтой кожи и живых бегающих глаз, двух брегов глины, на которых раскинулись осенние луга, на которых нет зимы, нет сугробов, нет мороза, ты – удачная картина, получилась с первой попытки, набросанная искусной и легкой рукой, и ты не менялась, менялась только рама, прически – согласно требованиям моды, погоды и ветров, иногда платочки, иногда – шапки, иногда шапочки; душ, бассейн и ванна, и все эти новогодние маскарадные колпачки! Мама! Над твоим смехом – ВСЕ ЭТИ НОВОГОДНИЕ МАСКАРАДНЫЕ КОЛПАЧКИ!!! – я вижу вас вдвоем: две картины, рядом на подушке, в течение тридцати лет, кистеволосая акварель в желтых тонах, высохшая в мгновение ока, и карандашный рисунок, еще не законченный, постоянно отягощаемый графитом, – карандашные стружки времени по всему полу, и перхоть, и ругань, и брань, и храп, мама и пана… хавка стен и таинственный брег мягкой глины, мама и папа, две картины, у одной глаза открыты, у другой – закрыты, и ты смотришь и следишь, бодрствуешь над спящими щеками, а за окном светает, и в городе вырастает здание нового футбольного клуба, а потом его красят, и у самолетов над внутренним аэродромом меняются модель и год выпуска, и холм Эскьюхлид меняет оперение, как куропатка в убыстренной съемке, и асфальт намокает и высыхает, и… левостороннее движение стало правосторонним, и Никсон писал в музее Кьярваля[228]228
Йоханнес Свейнссон Кьярваль (1885–1972) – исландский народный художник, занимающий в исландском изобразительном искусстве такое же место, как Халлдор Лакснесс – в литературе; прославился своими пейзажами, на которых в исландских горных ландшафтах просматриваются лица сверхъестественных существ из народных легенд. Стиль, в котором Кьярваль творил большую часть жизни, можно охарактеризовать как смешение кубизма и экспрессионизма. Большинство картин Кьярваля находится в его музее недалеко от центра Рейкьявика.
[Закрыть] и говорил с Пат по телефону, и дождь, который лил на перекресток проспекта Снорри и Большого проспекта до полудня 14 апреля 1976 г., чудесным образом обратился в ничто, и краска на заборе на Маувахлид беспечно сгинула туда – не знаю куда, и Торберг Тордарссон[229]229
Торберг Тордарссон (1888–1974) – крупный исландский писатель середины XX века. Большинство книг Торберга – автобиографии с элементами фантастики и сверхъестественности, в них нередки жанровые и стилистические эксперименты. (Также Торберг был естествоиспытателем и эсперантистом, составил для исландцев учебник языка эсперанто.).
[Закрыть] умер, а костюмы его исчезли в другой куче, и его рубашки – в других коконах, не в тех, которые когда-то напряли их, и костюмы Дедов Морозов сносились, и коробки из-под «Чериос» каждую неделю стали закапывать на кладбище в Гювюнесе, и Линда Пе (ц 250 000) научилась читать, и Бьоргвин Халльдорсон[230]230
Исландский певец.
[Закрыть] приезжал за бензином, часто, и шестнадцатилетняя Бьорк пела «Do You Believe In Love?»[231]231
«Ты веришь в любовь?» (англ.)
[Закрыть] на слова Хью Льюиса на танцах в клубе в Квольсвётле[232]232
Городок в Южной Исландии.
[Закрыть], и песня исчезла в глубине Фльотсхлид и так и не вернулась, и все каким-то образом стало ничем, а ничто – всем, и Эсья изменилась – совсем чуть-чуть, как ты, мама, ты, стоящая сейчас передо мной на ковре в гостиной со всей своей жизнью за плечами, в расстегнутой шубе, и в каждом пакете у тебя по четверти века, в черных колготках десять темных пальцев, и что же? Все это – просто ошибка? Просто пятно? На ковре, между твоих ног, мама. И поставил его я. Я говорю:







