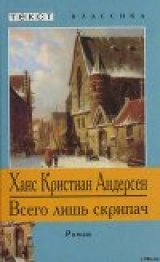
Текст книги "Всего лишь скрипач"
Автор книги: Ханс Кристиан Андерсен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
IV
Неласкова Природа к беднякам,
Добиться милостей ее так трудно!
Была она совсем не другом нам,
А мачехой, что кормит очень скудно.
К. Баггер
Во французской литературе существует гениальное эссе о «les mansardes», где говорится, что, как разум и талант в человеке занимают самое верхнее положение – в голове, так и писатели и артисты в Париже живут в чердачных каморках. Скриб написал водевиль «Мансарды артистов». Во всех больших городах так же, как и в Париже, удел бедного художника – достигнуть высокого положения только в смысле этажа.
И соответственно этому Кристиан в Копенгагене поселился на пятом этаже в каморке окном во двор, у той самой вдовы, у которой год назад прожил две недели с Люцией и ее матерью. Окно выходило на крыши и трубы, вид замыкался высокой церковной башней, по которой вышагивал стражник. У более состоятельных людей, которые жили ниже, в залах и гостиных, была возможность любоваться всей веселой оживленной улицей, зато Кристиану открывался небесный простор, а в ясные вечера ему светили звезды.
Комната была значительно меньше той, которую он занимал, когда жил у господина Кнепуса; в сущности, она имела форму треугольника: от самой двери косо поднимался потолок с единственным выступающим вперед окошком. Кровать находилась в своего рода алькове, прямо напротив окна, через которое по ночам он мог видеть звезды и луну.
Кристиан был от души благодарен Господу, считая, что ему на редкость повезло: он нашел четыре урока, из которых за два ему платили одну марку в час, а за два других, каждый по два часа, он четыре раза в неделю получал обед, так что ему всего три дня приходилось ограничиваться хлебом с маслом; но с другой стороны, теперь ему необходимо было прилично одеваться, и поэтому он сам чистил и штопал свое платье; если где-нибудь появлялась побелевшая ниточка, он тут же замазывал ее чернилами; башмаки чинил шилом и дратвой, а дырявые подметки его не смущали – лишь бы верх выглядел прилично. Движения его были несколько скованными, особенно когда он вспоминал о дырочке, которую надо было скрыть, или просто о том, что его сюртук не вынесет дерзкого взмаха рукой; Кристиан предпочитал, чтобы это приписывалось его неловкости, лишь бы не бросалась в глаза его бедность. Он скрывал от хозяйки, что три раза в неделю остается без обеда, и делал вид, что ходит куда-нибудь в кафе, а на самом деле съедал свой хлеб, гуляя вдоль моря у Цитадели или сидя в Королевском саду и любуясь фонтаном вместе с детьми и их няньками.
У коллежского советника, бывшего некогда пассажиром Петера Вика на пути в Копенгаген, Кристиан обедал по пятницам и воскресеньям. Это был фешенебельный дом, но наиболее фешенебельным в нем был старший сын хозяев, студент, который хорошо одевался, считался поэтому красивым и завоевал уважение товарищей, устраивая пирушки. С Кристианом он никогда не разговаривал, не здоровался и не прощался. Мать восхваляла его достоинства, а служанка при этом краснела. Когда в доме бывали гости, Кристиана к обеду не приглашали: какое ему удовольствие сидеть среди незнакомых людей? Кристиан и сам понимал, что его костюм, как он его ни чистил, не сравнится с одеждой остального общества.
По вторникам и четвергам он обедал у лакея – не простого лакея, а королевского. Это было полезное знакомство, которое, как он надеялся, приведет его к счастью и славе: ведь лакей мог замолвить за него словечко у сильных мира сего. Жена лакея то и дело намекала на это. Ее муж-де свободно входит в те заветные двери, у которых всякие там коллежские советники, да и гораздо более важные особы должны скромно стоять и ждать, пока их не позовут. Она никогда не говорила, что ее муж служит в лакеях, а выражалась о его работе уклончиво-описательно.
Кристиан учил играть их маленькую дочурку; она была крещена в честь всех женщин королевской семьи: Мария-Каролина-Вильгельмина-Шарлотта-Амалия-Юлиана-Фредерике; в быту ее называли Микке – сокращение от имен Мария Фредерике.
Уютно Кристиан себя чувствовал только в своей тесной каморке, хотя с приходом зимы там стало очень холодно. Он старался экономить каждый скиллинг на торфе и дровах, и мороз разрисовал его окно большими ледяными цветами. Не каждый вечер позволял он себе и зажечь лучину, но ведь во мраке так приятно музицировать.
«К вам приходит в гости прекрасная принцесса», – говорила горничная, указывая на разрисованное ледяными узорами стекло, а хозяйка качала головой, вспоминая, как семь лет назад точно так же ледяная принцесса стояла, примерзнув к стеклу, за окном, подле которого ее муж сидел и тачал сапоги. Он еще сказал тогда: посмотри, мать, какая красивая девица манит меня… А через два месяца он лежал в гробу: это холодная принцесса – смерть – забрала его. Впрочем, Кристиану бояться нечего, ведь он еще совсем молод… И тем не менее он не мог не думать об этом, и посреди лишений настоящего и безнадежности будущего в нем просыпалась радость жизни; Кристиан брал скрипку, и нежные мелодии заставляли его забыть голод и стужу.
Нередко одинокими вечерами звуки заменяли ему вечернюю трапезу, и он играл, пока холод не сводил пальцы. В его импровизациях были душа и талант, но никто их не слышал; удача, единственная, решающая удача, не хотела так высоко подниматься по лестнице, чтобы найти талант под самой крышей.
Мендельсон-Бартольди подарил нам несколько музыкальных композиций – «Песни без слов»; каждая родственная душа сама сочинит к ним текст. Таким же образом мы можем присовокупить текст к импровизациям Кристиана: хорошо бы их слушали в палатах сильных мира сего, хорошо бы хоть раз в столетие единственный талант был спасен от нужды и лишений. О сильные мира сего! Вы понимаете ценность творений живописца и ваятеля, потому что они украшают ваши покои; но произведения поэта или музыканта для вас все еще лишь игра; богатейшие узоры на тех коврах, что не подвластны ни моли, ни времени, вам не понятны. Пройдут столетия, пока вы оцените их божественность. Пусть автор погибает – слова его будут услышаны! Ну разумеется, так же, как услышана игра Кристиана…
В доме лакея, куда ходил Кристиан, господствовала элегантность, выражавшаяся в меблировке; там была великолепная библиотека, все книги – в сафьяне и с золотым обрезом; но если снять книгу с полки и посмотреть, то это оказывался экземпляр «Журнала для народа», переплетенный таким роскошным образом.
Хозяйка дома любила читать и потому была записана в публичную библиотеку, где брала две книги за визит: леденящую душу историю о разбойниках, которую она читала днем, и любовный роман на ночь. Она участвовала также в любительском немецком театре.
Помимо всего этого хозяйка была почитательницей Кристианова таланта – у каждого художника есть, как у Гёте, своя Беттина[51]51
Беттина фон Арним (1785–1859) – немецкая писательница, опубликовавшая свою переписку с Гёте.
[Закрыть], только не все они пишут; таким образом, она восхищалась им больше всех, вернее, была единственной, кто высказывал ему свое восхищение. Когда у нее бывали гости, она всегда приглашала его – разумеется, со скрипкой, – и он играл для них, а потом до поздней ночи провожал их по домам – тягостный обычай, который кое-где еще существует до сих пор. Нередко, когда Кристиан был в унынии, добрая женщина заверяла его: «О, вы счастливый человек! В этом городе есть тысяча несчастных, которым живется куда хуже».
Существует весьма характеристическое высказывание о большинстве критиков: дескать, они «пережевывают шипу, чтобы определить, не заскрипит ли где-нибудь песок на зубах». Такое пережевывание для коллежского советника стало жизненной необходимостью; но, поскольку сердце у него было в порядке, а болен желудок, он делил книги на две порции: те, которые он будет пережевывать в хорошую погоду, когда настроение у него благожелательное, и те, которыми он займется в ненастье. До оскорбительных личных выпадов он никогда не опускался. Коллежский советник портил кровь себе и другим; ему было словно невдомек, что на том свете, где всех нас будут рецензировать, исправлять наши опечатки и стилистические погрешности, мы будем стоять рядом и посмеиваться, вспоминая свою ретивость в детские годы земной жизни. Критика – мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже того, кого он судит.
Коллежский советник был добр к Кристиану, и юноша высоко ценил это; благодаря влиянию советника ему выпала, как говорится, честь однажды вечером играть на скрипке в антрактах любительского спектакля в театре, где советник был одним из директоров. Кристиан считал, что это будет большой и даже решающий шаг к удаче; он надеялся при этом выступлении обратить на себя внимание многих.
– Я замолвил за вас словечко перед моими коллегами, – сказал советник, – все они согласны, даже режиссер, а его мнение почти так же важно, как мнение директора.
По грязной черной лестнице они поднялись на четвертый этаж, где находился храм Талии, служители которого всячески выставляли себя напоказ. Шла репетиция, и, следовательно, все были не согласны друг с другом. Герой-любовник грозился, что немедленно уйдет, потому что ему не разрешали вставлять отсебятину в тех местах, где он забывал текст. Он был уверен, что сочиненные им слова ничуть не хуже написанных в книге и что он имеет такое же право менять текст, как и коллежский советник. Тридцатилетняя дама, которая должна была играть бабушку, не давала накладывать ей грим старухи; она жеманно говорила, что и так выглядит достаточно пожилой, хотя на самом деле так не думала. Словом, в театре царили свара и неразбериха.
Наконец наступил вечер пятницы; Кристиан получил напрокат черный фрак, и квартирная хозяйка завила ему волосы щипцами. Щеки его горели, сердце готово было выскочить из груди, когда занавес опустился и он оказался наедине с публикой, по большей части городскими мещанами.
Кристиан играл хорошо; довольные директора зазвали его за кулисы, пожимали ему руки и говорили приятные вещи. Подмастерье цирюльника, который сам подыгрывал скрипке, и организатор лотереи, бивший в литавры, прибежали из оркестровой ямы и благодарили Кристиана, превознося его флажолеты и аппликатуру.
«Я победил, – думал Кристиан. – Сегодня вечером все будут только и говорить, только и думать что обо мне». В таком же сладостном заблуждении относительно себя и своей игры находился каждый участник представления, вплоть до стражника, у которого была одна-единственная реплика: «Назад!»
Спектакль закончился поздно, в полдвенадцатого, и лишь в этом смысле о нем можно сказать, что ему суждена была долгая жизнь.
Придя домой, Кристиан не мог лечь спать; он сидел, глядя в звездное небо, и думал о своей удаче, о Люции с Петером Виком, о теплых летних днях и о Наоми.
Каждое письмо, которое он писал в это время домой, дышало радостью и юношеской смелостью; все надежды Кристиана выглядели осуществившимися. Мать, читая его письма, уверилась, что он уже на полпути к своему счастью: ведь он бывал в домах у высокопоставленных людей и играл на скрипке в театре. По сравнению с собственной бедностью жизнь сына казалась ей блестящей. Она знала его доброе сердце, так что, когда Господь взял к себе на небеса ее младшего ребенка, недолго думая села без билета в почтовую карету, хотя чувствовала себя нездоровой, а на дворе было очень холодно, и отправилась в Копенгаген, чтобы не расставаться больше со своим Кристианом, об успехах которого она так много рассказывала соседям и друзьям.
Ее приезд был задуман как сюрприз для ее дорогого мальчика, но стал сюрпризом скорее для нее самой.
Мать и сын зажили вдвоем в маленькой каморке под самой крышей. Снежная вьюга мела за окном, а квартирная хозяйка ходила с кислым видом.
– У тебя все хорошо, – говорила Мария. – У меня все плохо, но я благодарю Бога за тебя, добрая моя душа.
Она дремала на кровати Кристиана, а он плакал, оборотясь к замерзшему стеклу, и молил милосердного Бога сжалиться над ними.
V
Последний нищий там куда богаче,
Чем мы на Севере. Не может быть иначе:
Ведь перед ним сияет вечный Рим.
Ф. Шиллер
В каморке под крышей, где дремлет мать и страдает сын, так неуютно, так холодно; устремимся же прочь оттуда, прочь от стылого воздуха, от глубоких вздохов, улетим в большие роскошные залы, на теплый юг, и разыщем Наоми в Риме, городе памятников, «колоссе мира».
Легкий ветерок веет нам навстречу, лампады горят перед образами Мадонны, вокруг которых стоят на коленях красивые дети и поют с мягким южным выговором свои вечерние молитвы. Свет пробивается сквозь витражи церквей, где звучит пение хора и встречаются влюбленные. Крестьяне и нищие, закутавшись в плащи, укладываются спать на широких ступенях. Процессия людей в масках, со свечами в руках, вьется по узким извилистым улочкам. На площади перед венецианским посольством горят вделанные в стену факелы, перед ними стоят на страже конные папские солдаты. Сегодня бал у герцогини Торлониа. Большую часть приглашенных составляют чужеземцы, пришельцы из-за Альп. Колоннады ослепительно освещены, бюсты и статуи кажутся живыми в подвижном свете факелов; главная лестница украшена цветущими деревьями и пестрыми коврами; картинная галерея превращена в фойе для прогулок. В двух самых больших залах танцуют на сверкающем как зеркало паркете; в соседних комнатах расставлены карточные столы и устроены уютные уголки для беседы. В кабинете разложены гравюры, английские и французские газеты. Мы входим в больший из танцевальных залов. Вокруг сияют роскошные канделябры, шестнадцать люстр свисают с потолка. Прямо перед нами в большой нише исполинский Геркулес, корчась от боли, схватил Лика за ногу и за волосы, чтобы швырнуть его на скалы, – эта сцена составляет выразительный контраст с нежными танцевальными мелодиями и с веселыми улыбками молодых людей.
Граф увлеченно беседовал с итальянцем; его собеседник был красив, лицо его поражало благородством. Это был ваятель Канова, гордость Италии. Он указал на Наоми, кружившуюся в вальсе с молодым французским офицером.
– Редкостная красавица, – сказал Канова, – совершенное олицетворение настоящей римлянки! А между тем я слышал, что она с Севера.
– Это моя приемная дочь, – сказал граф. – А молодой офицер, с которым она танцует, – сын маркиза де Ребара, одного из знатнейших дворян Франции; это молодой человек выдающегося ума и талантов, я знаю его с шестнадцати лет.
Наоми, в расцвете юности и жизнерадостности, казалась младшей сестрой Тициановой Флоры или дочерью Форнарины Рафаэля – в ней было сходство с обоими этими портретами. Ее округлая белая рука покоилась на плече молодого маркиза. Высокий и стройный, с умным и живым взглядом, он был едва старше двадцати трех лет. Краски свежести и здоровья на его лице уже несколько поблекли, ибо молодой человек весьма усердно предавался наслаждениям, но тем более страстными были его глаза. После танца он усадил Наоми на роскошную софу и принес ей прохладительных напитков.
На Севере, где сейчас мела снежная вьюга, Кристиану в его бедной чердачной каморке снилась Наоми – она сидела на краю его дощатой кровати и, обвив руками за шею, целовала его в лоб. В Пратере спал Владислав в домике из деревянных планок, над его кроватью висел кнут; наезднику тоже снилась Наоми, и губы его кривились в презрительной усмешке. Но Наоми в эти радостные мгновения и думать забыла о них обоих.
– Как будто и не уезжал из Парижа, – сказал маркиз. – Все в точности как в наших салонах. Если хочешь получить представление о празднествах древнего Рима, этих веселых вакханалиях в четырех стенах, надо принять участие в пирушке молодых художников. Они пыот, увенчанные плющом, охлаждая разгоряченный лоб свежими розами. В Риме много художников, по большей части это немцы, так что развлекаются они в основном на немецкий лад. Французы, англичане и датчане присоединяются к ним порознь: ведь все художники входят в единую нацию – нацию людей духа. Когда я был здесь впервые, проездом, я участвовал в их своего рода современной вакханалии в Кампанье. Большинство переоделись в маскарадные костюмы, причем самые причудливые, и в таком виде рано утром выехали из города верхом на лошадях или ослах. Представьте себе – Зороастр выезжает на паре львов, которых изображают старые ослы, обряженные в папье-маше и шерстяные маски. Дон-Кихот и Санчо Панса выглядят вполне уместно в его свите… Это было настоящее карнавальное шествие, с копьями, с деревянными саблями; песни на языках всех народов лились в утренней прохладе. За городом, у древних захоронений, где мы решили остановиться, нас поджидал трехглавый Цербер. На зеленом пригорке танцевали гномики; звучали пистолетные выстрелы, горели костры; ослы сбросили наземь уже не одного всадника, и китайский богдыхан лежал рядом с ее величеством царицей Савской. Никогда не забуду скачки: каждый жокей был настоящей карикатурой.
– А дамы тоже участвовали? – спросила Наоми.
– Да, и самых разных национальностей, – ответил маркиз, – я видел там как местных, так и иностранок. А вот в остериях, где каждый вечер собираются художники, дамы не бывают. Помимо того что это не принято, там так накурено, что француз едва может дышать. И все же те несколько раз, что я проводил вечер в остерии, я развлекался на славу. Все в жизни надо испытать! Будь я живописцем, я перенес бы эти пестрые компании на полотно, а будь я поэтом, не преминул бы написать о них водевиль.
– Вы меня соблазняете самой побывать там, – сказала Наоми. – Нельзя ли найти какую-нибудь дырочку, чтобы незаметно подсмотреть?
– Я рискну повести вас туда, только если вы переоденетесь в мужское платье.
– Северянка не позволит себе такого маскарада.
– У одного моего приятеля, – продолжал соблазнять маркиз, – завтра понтемолле. Это старинный обряд, нечто вроде посвящения. В стародавние времена, когда какой-нибудь известный художник приезжал в Рим, его земляки собирались, чтобы встретить его, у одного из мостов через Тибр, и в трактире неподалеку пили за вновь прибывшего. Теперь эта попойка происходит в Риме, в той самой остерии, где они собираются каждый вечер. Любой художник, знаменитый или никому не известный, становится равноправным членом братства, но только после того, как устроит «понтемолле», то есть заплатит за все вино, которое будет выпито в этот вечер всей компанией. Слуга знай ставит на стол полные бутылки. Существует определенный церемониал, очень веселый, после чего соискатель получает диплом и орден – это обыкновенная монетка на шнурке, но член братства должен носить ее на каждую пирушку. Орас Верне, Овербек и Торвальдсен тоже носят такой орден.
Начался новый танец, беседа оборвалась, и Наоми с маркизом снова заскользили в объятьях друг друга по сверкающему паркету.
На следующий день легкий кабриолет маркиза остановился на площади Испании, где жил граф. Маркиз пригласил Наоми прокатиться по Виа Памфилия.
Хотя это совсем близко от стен Рима, там чувствуешь себя как будто на лоне дикой природы. Города совсем не видно, зато открывается широкий вид на Кампанью, где водопровод в шесть миль длиной, вмурованный в каменные стены, возвышающиеся над землей, несет в Рим воду с гор, которые красивой волнистой линией ограничивают горизонт.
Хотя дело было в январе, солнце припекало, погода напоминала теплый сентябрьский день на Севере. Гордые пинии вздымали свои вечнозеленые кроны в чистое голубое небо. Заросли лавра и в особенности лавровишни придавали всему окружающему летний вид. Золотистые апельсины висели среди зеленой листвы, цвели розы и анемоны, и во всех аллеях из ваз и статуй били чистые струи фонтанов. Наоми снова заговорила о своем желании пойти вечером вместе с маркизом в остерию; она сказала, что к предстоящему карнавалу заказала себе мужской костюм и рубаху. Девушка молчала о том, что у нее был в запасе венский костюм жокея: его она бы все равно ни за что не надела, чтобы он не напоминал ей самой и графу о времени, которое следовало позабыть. Однако мужской наряд теперь у Наоми был, оставалось только уговорить отца, чтобы он разрешил пойти ей и сам тоже пошел с ними. Маркиз сказал, что с этим трудностей не будет.
Они объехали сад кругом и оказались снова у решетчатой калитки, выходившей на дорогу. На разбитой капители сидел монах-капуцин в коричневой рясе, в белой соломенной шляпе, защищавшей его голову от солнца, и в сандалиях на босу ногу.
Маркиз поздоровался с ним как со старым знакомым и рассказал Наоми, что этот монах иногда заходит к нему.
– Он собирает пожертвования для своего монастыря и, если остается доволен моим подаянием, угощает меня понюшкой табаку. Кстати, он ваш земляк – датчанин.
– Мой земляк? – удивилась Наоми и стала разглядывать монаха, но тот сразу же поднялся, перебросил через плечо кожаную суму и собрался уходить.
Наоми обратилась к нему по-датски. Кровь бросилась монаху в лицо.
– О Боже, я слышу датскую речь! – воскликнул он, и его глаза сверкнули. – Как давно я не слышал ее! Мне запрещено общаться с земляками, и я их избегаю. О Господи, вы из моей дорогой, любимой Дании!
– Вы оттуда родом? – спросила Наоми.
– Да, это моя любимая родина, – вздохнул монах. – Много счастливых дней прожил я там, но потом мне выпали на долю тяжелые испытания, и в конце концов я оказался здесь и в этом платье.
– В следующий раз, когда будете собирать милостыню для монастыря, – сказала Наоми, – зайдите ко мне в отель на площади Испании.
И она назвала фамилию своего приемного отца.
– Так вы его дочь! – сказал монах. – А меня неужели не узнаете? Я жил в Свеннборге, там у меня были жена и сын. Если б вы знали, какая мне выпала нелегкая судьба! Здесь бы я умер с голоду, если бы монастырь не принял меня в качестве нищенствующего брата.
Это был отец Кристиана; Наоми узнала его…
На закате, когда колокола зазвонили к вечерне, Наоми в мужском костюме, который был ей очень к лицу, и с изящными усиками уже ждала своих спутников. Приближалось время карнавала, да и вообще, полагала она, здесь, в Риме, такой маскарад вряд ли кого удивит. Граф, однако же, покачал головой. Слуга доложил о приходе молодого маркиза; не прошло и получаса, как они уже были на пути в остерию, где собирались художники.
Остерия находилась неподалеку от одной из церквушек, которых множество в Риме; днем она освещалась только через открытую двойную дверь; пол был вымощен простым булыжником. Вдоль одной стены из конца в конец проходила плита; на ней в несколько рядов горели конфорки под различными яствами, которые готовили кухарка, ее муж и два сына, не перестававшие за работой болтать и смеяться. В глиняных мисках были живописно разложены рыба и мясо, украшенные зеленью; посетитель мог выбрать, что ему нравится, и это блюдо сразу же готовилось и подавалось ему. За длинными деревянными столами сидели крестьяне с женами и пили вино из больших оплетенных бутылей. Венчик из красных свечей окружал изображение Мадонны, грубо намалеванное на стене. Нашлось место в зале и ослу со всей поклажей, по всей вероятности ожидавшему своего хозяина. Крестьяне наигрывали на разный музыкальных инструментах, и женщины хором подпевали им. У одной из стен, где кончалась плита, стояла синьора – хозяйка заведения, а рядом лежал в подвешенной к стене колыбельке младенец; он размахивал ручонками и с любопытством выглядывал, заинтересованный пестрой картиной всеобщего веселья.
Граф, маркиз и Наоми прошли через этот зал и поднялись по высокой каменной лестнице в другой, более просторный, где когда-то помещалась монастырская трапезная – монастырь давно снесли, осталась только церковь. Здесь пол был деревянный, что редко можно увидеть на юге, потолок – сводчатый. На стенах висели увядшие венки, а в самой середине – сплетенные из дубовых листьев буквы «О» и «Т». Они обозначали фамилии «Овербек» и «Торвальдсен» в память о том, что оба этих выдающихся человека когда-то устраивали здесь понтемолле.
Так же как и в первом зале, здесь стояли длинные столы, но покрытые застиранными скатертями. На столах стояли подсвечники на шесть свечей каждый; густой табачный дым клубился под потолком. На скамьях вдоль столов сидели художники, молодые и старые, в основном немцы, которые и завели этот разгульный обычай. Все они были с усами и бородками разной формы, некоторые простоволосы и с длинными кудрями, многие в безрукавках, другие в блузах. Здесь можно было увидеть знаменитого старика Рейнхардта в кожаной куртке и красной шерстяной шапке. Его собака была привязана к ножке стола и весело тявкала на другую собаку, привязанную рядом. Немного подальше сидел Овербек с расстегнутым воротом рубашки и длинными локонами, падавшими на белый воротник, одетый так, как одевался Рафаэль, причем не только в честь сегодняшнего праздника – таков был его повседневный наряд. Гениальность позволяла ему приблизиться к Перуджино и Рафаэлю в искусстве, а человеческая слабость заставляла подражать им в одежде. Тиролец Кох, старый художник с веселым и добродушным лицом, протянул маркизу руку; вновь прибывшие уселись. Вскоре появились якобы важные особы, то есть люди, нарядившиеся в честь понтемолле важными особами. Они заняли места во главе стола – для них специально были поставлены стулья; первого называли генералом: его мундир был увешан бумажными орденами и звездами; по правую руку от него сел палач с тигровой шкурой на плечах, пучком розог в одной руке и топором в другой; по левую – миннезингер в берете и с гитарой. Он взял несколько мощных аккордов, и из-за двери прозвучал ответ. Это был новичок, который просил разрешения перейти через Тибр. Их своеобразный дуэт закончился музыкальным приглашением войти, и в комнате появился странник с котомкой за спиной; его лицо было раскрашено белой краской, длинные волосы и борода – из льна, ногти – из картона. Под специально для этого предназначенную музыку новичка подвели к столу. Ему протянули бокал вина и прочитали ему текст обетов, которые он должен принести; важнейшие из них были: «Люби своего генерала и служи ему одному! Не пожелай вина соседа своего…» – и т. п. Потом он встал на скамью и шагнул на стол, ему срезали накладные волосы, бороду и ногти, сняли с него дорожный костюм, и, оказавшись в обычном платье, он спустился со стола по другую сторону – это и был обряд «понтемолле». Все замахали – кто флажком, кто своим бокалом, кто различными эмблемами искусства. Один трубил в трубу, другой бил друг о друга оловянные тарелки, как литавры, собаки лаяли, а тирольцы выводили свои рулады – началась самая настоящая вакханалия. Каждый положил себе на голову салфетку, и, изображая процессию монахов, они, под соответствующее пение, стали обходить стол за столом, а потом взобрались и на столы. Тут не было разницы между всемирно известными художниками и модными пачкунами, которых завтра никто и не вспомнит. Всякий демонстрировал свои таланты, как мог: кто пел смешную песенку, кто – подлинную песню бочара, а все остальные отбивали такт ладонями на столах; была тут и черная доска для забавных рисунков мелом. В разгар веселья в зал ворвались четыре настоящих жандарма со штыками наголо; они схватили одного пожилого известного художника и хотели его арестовать. Поднялась суматоха, крики и протесты; один жандарм разразился хохотом, и оказалось, что это заранее придуманный розыгрыш – вклад того самого художника в общее веселье. Потом внесли и поставили на стол четыре чаши с дымящимся пуншем – угощение от кого-то из гостей, но никто не знал, от кого именно, поэтому спели старинную песню, прославляющую «неизвестного дарителя».
В остерию случайно зашел бедный итальянец; он кормился тем, что показывал фокусы, и попросил разрешения продемонстрировать свое искусство. Он мастерски подражал голосам различных животных, что очень рассердило присутствовавших собак; умел он также изображать гром и молнию голосом и глазами, и ^ этот фокус имел большой успех; но у этого человека была одна слабость: больше всего он любил и хотел петь. Возможно, будь у него смолоду поставлен голос, он блистал бы на оперной сцене, но то, что получалось у него сейчас, было ужасно! Он пел дуэты, причем и за мужчину и за женщину, закатывая глаза и принимая жеманные позы, пока публика самым бесцеремонным образом не оборвала его и не призвала вернуться к голосам животных и к грозе – к искусству, которое он ценил гораздо ниже, но в котором зато был мастером.
Как жалок был бедняга в эту минуту! Все наперебой стали накладывать еду ему в тарелку. Наоми вспомнила Кристиана; она уже давно не думала о нем, но этот жалкий неудачник, в котором она увидела его подобие, освежил ее память.
– Мы, кажется, встречались с вами в Вене? – спросил, кланяясь Наоми, молодой человек с большими усами и остроконечной бородкой. – Помните, мы вместе ехали в карете в Хицинг?
Наоми покраснела; она испытующе вглядывалась в молодого человека, чей наглый взгляд казался ей знакомым… ну да, в тот вечер, когда она искала Владислава в курзале, этот юноша был в карете и сказал ей, что по произношению узнает в ней иностранца, что он видел ее в Пратере и что она наверняка найдет своего господина в Хицинге. Вся эта сцена живо встала перед ее мысленным взором.
– А цирковой наездник Владислав тоже в Риме? – продолжал юноша свои беспардонные расспросы, дерзко улыбаясь и с насмешкой в голосе.
Граф беспокойно заерзал.
– Что говорит этот господин? – спросил маркиз.
– Впрочем, здесь собираются художники совсем другого сорта, – сказал немец и, повернувшись к соседу, что-то зашептал ему на ухо.
Наоми так испугалась, как не боялась еще никогда в жизни. А вдруг ее сейчас выведут отсюда; а вдруг разоблачат и все узнают, что она женщина и к тому же совсем недавно вращалась среди простонародья? Немец пил чашу за чашей; его щеки разгорелись, и он не сводил с Наоми наглого взгляда. Потом все запели хором, и процессия снова двинулась вокруг столов. Проходя мимо Наоми, немец шепнул:
– Вы – женщина!
– Это следует понимать как ругательство? – спросила она.
– Как вам будет угодно, – ответил он и прошел мимо.
Маркиз не слышал этого разговора, он совсем не понимал по-немецки и, кроме того, был полностью захвачен царящим вокруг весельем; даже граф, увлекшись праздником, казалось, забыл неприятную минуту, когда прозвучало имя Владислава. Только когда все снова сели за стол, взгляд его упал на немецкого художника, который нагнулся к Наоми и, злобно усмехаясь, прошептал ей на ухо несколько слов; она побледнела, пальцы ее сжались вокруг рукоятки ножа, и она занесла руку.
Тут раздался крик погонщика осла: пожилой художник в маскарадном костюме въехал верхом прямо в зал. Осел, испугавшись такого большого и такого шумного общества, бросился на стол, за которым сидела Наоми; стаканы, рюмки и подсвечники со звоном попадали от толчка, люди вскочили, так что ни немец, ни кто-либо другой не увидели последствий гнева, охватившего Наоми и успокоенного графом и описанным счастливым случаем.








