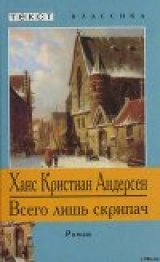
Текст книги "Всего лишь скрипач"
Автор книги: Ханс Кристиан Андерсен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
XII
«Хеп! Хеп!» – так дразнили евреев при погромах последнего времени. Не доказано, что это слово применялось в связи с преследованиями евреев в средние века, а толкование его как аббревиатуры из первых букв фразы «Hierosolyma est perdita» (Иерусалим погиб) не выдерживает никакой критики. По-видимому, «хеп» – диалектное название козы, и выражает насмешку над евреями за их бороды. Вызывает удивление, что это слово распространилось за пределы Германии, например, его можно было услышать в Копенгагене.
Немецкая энциклопедия наук и искусств
К вечеру четвертого сентября 1819 года Наоми прибыла в Копенгаген. Какая толпа, какое движение на улицах, особенно удивительное для приезжего из провинции! Таким оживленным, как сегодня, город никогда прежде не казался Наоми. Людской поток бурлил, как кровь в жилах больного лихорадкой. Кучки людей собирались в переулках, мимо пробегали солдаты, точно гонцы, доставлявшие срочные депеши в королевский дворец Фредериксберг. Все говорило о том, что в городе происходит нечто необычное.
Наоми опустила стекло в окне кареты и выглянула наружу. Улица Эстергаде, которую им предстояло пересечь, была вся запружена людьми; раздавались громкие крики, звон разбитых витрин, выстрелы. Вознице пришлось свернуть в переулок. Две пожилые фюнские дамы, попутчицы Наоми, едва дышали от страха.
– Что здесь происходит?! – крикнула Наоми, высунувшись из окна.
Фонарь ярко осветил лицо девушки: какой-то простолюдин уставился на нее, потом крикнул:
– Она тоже из Моисеевой семейки! Их тут целая жидовская компания!
Дикая орда с криками «Хеп! Хеп!» окружила карету; тот самый простолюдин рванул на себя дверцу и заглянул внутрь; в то же мгновение Наоми толкнула противоположную дверцу и очертя голову выскочила на улицу; возница же, щелкнув кнутом, проехал вперед. Несколько гусар с обнаженными клинками врезались в толпу, окружившую Наоми. Девушка быстро взяла себя в руки, удержала крик и опустила на лицо вуаль, хотя по-прежнему не понимала, что происходит.
– Пойдемте, – прошептал кто-то ей в самое ухо; незнакомый человек схватил ее за руку, вытащил из людского скопища и потянул в ближайший подъезд. – Здесь полный штиль. Сейчас мы выйдем черным ходом, пересечем двор, и барышня будет в такой же безопасности, как в ящике комода у своей уважаемой матушки.
– Из-за чего вся эта кутерьма? – спросила Наоми.
– Из-за ваших соплеменников, которых этот сброд хочет выкинуть за борт, – ответил он и назвал фамилию семьи, чьей родственницей, по его мнению, она была; он тоже был немного знаком с этими господами и вызвался проводить Наоми дворами к их дому.
– Я не еврейка, – возразила Наоми.
– Значит, вы идете под чужим флагом. К тому же я видел, как вы выпрыгнули из кареты. Меня звать Петер Вик, моя шхуна пришвартована в Нюхавне. Вы можете мне довериться.
Наоми улыбнулась.
– Мы с вами однажды вместе совершили путешествие из Швеции в Данию по ледяному полю, – напомнила она.
– Было дело! Тогда у нас под ногами не было мостовой.
Наоми и шкипер сразу заговорили как старые добрые знакомые. Наоми назвала адрес дома, где ее ждали, и они отправились туда узким переулком.
– Для стекольщиков наступают золотые деньки, – сказал Петер Вик. – Не у одних евреев будут разбиты витрины и окна. Повезло тем, кто живет на мансардах. В том числе моим бабенкам – у меня их двое, они захотели посмотреть город, пока я стою здесь в гавани. Парень тоже здесь; он преуспел в ученье и теперь лучше умеет пиликать на скрипке. Вон там наверху они все сидят. – И Петер Вик показал на одну из мансард.
– Беспорядки начались только сегодня? – спросила Наоми.
– Да, сегодня. Но вряд ли они быстро улягутся. Началось все в Гамбурге, а оттуда перекинулось к нам со скоростью пожара; прошел слух, что на рейде стоят два корабля с еврейскими семьями, которые хотят поселиться в Копенгагене. Это вранье, но народ верит.
Пока он говорил, с недалекой Ховедгаде в переулок хлынула толпа и преградила им путь. Грохнуло несколько выстрелов. Петер Вик растерялся. Группка молодых парней бежала прямо им навстречу. Совсем близко зазвенело разбитое стекло.
– Кажется, мы попали из огня да в полымя, – сказал Петер Вик.
– Все равно надо пройти.
– Но как бы не получить камнем по голове. Боюсь, что камнями кидаются не только на улице. Вполне вероятно, что они летят и с чердака наших соседей напротив. Эти бури на суше страшнее штормов на море. Я думаю, барышне стоит удовольствоваться обществом моих бабенок, покуда я схожу на извозчичью биржу и найму вам карету.
И спереди, и сзади толпа прибывала; они находились на улице, параллельной Ховедгаде, и людская масса, не помещавшаяся там, перетекала сюда по поперечным переулкам, как вода по каналам.
– Если барышне будет угодно держаться за мои фалды, я послужу ей фонарем, – сказал Петер Вик, и они стали подниматься по темной узкой лестнице.
Он постучал в дверь, и испуганный женский голос спросил, кто там.
– Это я, дуреха, – ответил Петер Вик, и они вошли в тесную комнатушку.
Люция стояла со свечой в руке. Ее мать, в полугородском, полукрестьянском наряде, вместе с хозяйкой дома и Кристианом сидели за скудным ужином.
– Обмахните стул для барышни, я схожу за экипажем, – сказал Петер Вик и убежал, оставив маленькую компанию в величайшем изумлении. Все трое вскочили из-за стола, но никто не произнес ни слова.
Наоми попросила извинения за причиненное беспокойство и рассказала о том, что с нею произошло; только тогда и у остальных немного развязался язык.
Все они были перепуганы, особенно Люция, которая вместе с матерью впервые приехала в Копенгаген – ведь и ей тоже хотелось увидеть великолепный город. Вдова, у которой они остановились, была старинной подругой матери: в молодые годы они вместе служили в усадьбе. Петер Вик взял их и Кристиана с собой, поскольку собирался пробыть в городе не более двух недель; половина этого срока уже истекла.
Копенгаген предстал перед скромными провинциалками примерно таким же, каким увидел бы мирный скандинав Париж во время Июльской революции, и все-таки они были в восторге от богатства и великолепия датской столицы; этих воспоминаний им хватит на всю жизнь! Королевские конюшни, с их мраморными колоннами и сводчатым потолком, превосходили все известные им сельские церкви. Биржа с рядами модных лавок по обе стороны – ни дать ни взять две улицы – напоминала маленький город под крышей. Люция и ее мать видели королевскую семью, катающуюся в сопровождении музыкантов на парусной шхуне по каналам Фредериксберга; они побывали на борту линейного корабля, огромного, словно Ноев ковчег, вместивший каждой твари по паре.
Все это мать и дочь рассказывали Наоми своего рода дуэтом, где ведущая партия принадлежала матери; дуэт то и дело прерывался каким-нибудь звуком с улицы – выкриком либо топотом копыт проезжавшего патруля, и тогда женщина, перекрестившись, тихо вздыхала. Люция пожирала глазами Наоми, о которой Кристиан так много рассказывал.
Прошел уже почти целый час, а Петер Вик не возвращался. Очевидно, найти экипаж было не так-то легко. За окном как будто все стихло. Ожидание становилось невыносимым. Всякий раз, когда на улице слышался стук копыт и шуршание колес, пробуждалась надежда, но экипаж проезжал мимо. Попытки снова завести беседу оказывались тщетными; разговор не клеился, все беспокойно поглядывали на дверь, напрасно ожидая появления Петера Вика. Наоми стало неуютно в обществе посторонних в этой тесной комнатушке на чердаке.
Стражник протрубил одиннадцать часов; Петера Вика все еще на было.
– О Господи! – вздохнула Люция. – А вдруг его застрелили? В него могла попасть шальная пуля.
– Они стреляют холостыми, – объяснила Наоми. – Кстати, теперь я уже не боюсь идти, если только Кристиан проводит меня.
Женщины запротестовали; решено было еще подождать. Хозяйка дома принесла колоду карт, предложив скоротать время за игрой.
Наоми спросила Кристиана, не сходит ли он поискать Петера Вика. Юноша охотно согласился и обещал не задерживаться.
– Ради Бога, будь осторожен, – сказала Люция. – Ах, я так боюсь за него!
– Он же взрослый человек! – возразила Наоми. – Кроме того, насколько я его знаю, дальше входной двери он не уйдет.
Однако она ошиблась. Женщины довольно долго сидели одни.
– Слышите, стражник дует в свою дудку, – вздохнула Люция. – Как страшно жить в таком большом городе, да еще на верхотуре: одна семья над другой. Я дорого бы дала, чтобы оказаться сейчас дома, там так спокойно!
– Зато скучно, – сказала Наоми.
– Вот уж нет! Летом в хорошую погоду мы всегда на дворе, а зимой полно дел по хозяйству. Мне больше не хочется видеть ничего, кроме соседской мансарды с перекошенным окном, на которую выходит окошко моей комнатушки под самой крышей; я тоскую по ней, потому что там страх никогда не сжимает мне сердце, как здесь. Совсем недавно я радовалась, что вижу столько нового и великолепного, но даже и тогда меня не покидало странное чувство сродни страху; я думала о том, что среди всей этой толпы никто не знает меня, никому я не нужна и не интересна. Жуть брала от этой мысли!
Кристиан между тем бродил по улицам. Все стихло; по приказу властей люди сидели дома, заперев двери и ворота, но за каждым окошком теплился огонек, свидетельствуя, что никто не спит. Дома напоминали безмолвных лунатиков, в чьи мысли и внутреннюю жизнь никто не может проникнуть. Только в танцевальных залах было темно; ни единого лучика не пробивалось из вырезанных сердечком окошек в ставнях. Кристиан вспомнил Стефанову Карету. Теперь она давно уже лежит в сырой земле… Петера Вика он так и не встретил, а извозчичья биржа была закрыта, и он долго тщетно стучал в ворота. Так что он не смог сообщить ожидавшим его ничего утешительного.
Наоми относилась к происходящему как к романтическому приключению, и это был единственный способ увидеть в событиях нечто положительное. Люция чуть не плакала.
– Если дядюшка не придет до полуночи, – сказала она, – значит, с ним, упаси Бог, случилось несчастье.
– Господь милостив, – ответила мать и раскинула карты для гадания.
– Ах, матушка! – вскричала Люция. – Уберите карты. Гадать в такой вечер – богохульство.
Часы пробили без четверти двенадцать; ожидавшие считали каждый удар. Подобно Колумбовым матросам они назначили точный срок, когда должна умереть надежда; там речь шла о трех днях, здесь – о двенадцати часах.
Честный Петер Вик тоже беспокоился о времени, но было это гораздо раньше; сейчас он уже смирился с судьбой; кстати, он находился в большой компании, к которой уж никак нельзя было применить слова Гёте:
Нет, назвать его пристойным было никак нельзя, но предметом поэзии оно вполне могло стать, особенно романтической; это было смешение всевозможных колоритных фигур, какие может собрать у себя в участке полиция в ночь беспорядков. Все они содержались во вместительном зале, который днем используется для допросов; через окошечко над дверью к ним проникал свет фонаря. Этих людей схватили на улицах как нарушителей общественного спокойствия.
«Закон есть закон, – размышлял Петер Вик. – Конечно, меня-то приволокли сюда по ошибке, но что ж поделаешь! Завтра разберутся». Он подумал о своих родных и о Наоми, которая ждала карету. «Долгонько же ей придется ждать!» Что поделаешь, он не сумел достаточно внятно объясниться с гусарами, которые схватили его вместе с толпой других. Эти молодцы скоры на расправу, ничего слушать не хотят. Их начальник оказался не лучше. Петера Вика втолкнули в зал вместе со всем этим сбродом и задвинули железный засов.
Ничего другого не оставалось, как лечь поспать. Завтра недоразумение разъяснится.
Когда часы били полночь, он спал крепким сном, а его домашние в это время окончательно уверились, что с ним случилось несчастье. Однако что же они могли поделать? Наоми покорилась судьбе; она откинула голову на спинку кресла и, усталая с дороги, скоро заснула. Только после этого Люция дала волю слезам и плакала до тех пор, пока и ее не сморил сон; но, в отличие от Наоми, которой привиделись редкие солнечные дни на острове Фюн, курганы и плывущие по небу облака, Люции снилось беспокойное море, которое они с матерью пересекли, и беспокойный город, в котором они находились; поэтому она прерывисто дышала и грудь у нее вздымалась, как у больной. Тихая кроткая девушка во сне превратилась в олицетворение страсти, в то время как необузданная Наоми казалась мирным нежным созданием, воплощением покоя и отдохновения. Кристиан смотрел на них обеих. Вид мучимой кошмарами Люции вызвал в его памяти давнюю ночь у источника; казалось, во сне ею снова овладело прежнее безумие. Смотреть на это было страшно.
Непроизвольно он подошел вплотную к Наоми и стал пожирать глазами ее одну; кровь в нем загорелась, неукротимый инстинкт внушал жажду прижаться губами к ее губам. Созерцание поило его ядом любви; при виде головы прекрасной Медузы он не обратился в камень, напротив, сердце его таяло, в то время как спящая Люция наводила ужас.
Свеча в подсвечнике догорела; Кристиан заметил это только тогда, когда она ярко вспыхнула в последний раз, перед тем как погаснуть.
XIII
Летит он все быстрее
На огненный закат.
Кудрей струятся волны,
Дерзапьем взор горит.
Орлиной мощью полный
Все выше он летит.
Х.П. Хольст
Я прожил удивительный день, день, какого ты не можешь ни позволить себе, ни добиться! То был сон о радостной жизни, короткий и прекрасный, как весеннее утро, как опьянение шампанским! Но потом…
Волшебный фонарь кавалера
Хозяин дома, где гостила Наоми, носил титул барона. Это был богатый дом; все члены семьи мнили себя патриотами и упрекали Наоми в недостатке любви к родине, зато поборник свободы в любой стране охотно принял бы ее под свои знамена. В этой семье много читали, но знакомство с отечественной литературой ограничивалось адрес-календарем и пьесами датских авторов в театре, который они посещали по абонементу. Английскими же романами всегда восхищались, даже в тех случаях, когда они уступали произведениям нашей собственной литературы. Эти люди забывали, что все на свете подчинено законам природы, в том числе и авторы: их известность зависит не от достоинств их творений, а от размеров их родины; первое умножается на второе, причем достоинства произведения измеряются единицами, а размеры родины – десятками. Семья барона была очень религиозна, другими словами, они часто ходили в церковь и слушали тех проповедников, которых слушал королевский двор. Наоми же к тому времени стала настоящей еретичкой. Подобно тому как в наши дни парижский Пантеон, некогда поставленный во имя святой Женевьевы, украсили, несмотря на сопротивление клерикалов, Вольтер и другие святые разума и духа, Наоми в своем мировоззрении соединила Сократа и апостола Павла, Магомета и Зороастра. В доме отмечали красоту Наоми, но полагали, что еще больше в ней странностей; всем, разумеется, была доподлинно известна ее родословная, и потому в их глазах номинальная стоимость девушки была в несколько раз ниже их собственной. Наоми окружала ледяная вежливость, причем лед был такой блестящий и скользкий, что исключал всякую возможность взбунтоваться. Будь Наоми из знатного рода, она наверняка ценила бы это, ибо получить высокое происхождение в дар, ничего для этого не делая, – конечно, огромное преимущество. Едва ли она в этом случае последовала бы примеру тех аристократов, что, в восторге от первой французской революции, отказывались от дворянства и становились просто гражданами. Теперь же девушка, напротив, прославляла их мужество и говорила, что одним этим своим поступком они доказали свою принадлежность к аристократии духа. Если бы старый Юль вошел в гостиную, где она сидела со своими знатными кузинами, возможно, она сочла бы делом чести гордо сказать: «Я его знаю».
Один датский писатель[38]38
Карл Бернхард. (Примеч. автора.)
[Закрыть] уже обратил внимание на изобилие камер-юнкеров в нашей стране; он рассказывает, что, когда датчанин приезжает в Гамбург и в гостинице не знают его титула, его именуют камер-юнкером и обычно оказываются правы. Дом барона посещала почти вся их братия, и один из них в отношении Наоми рассматривался под особым углом зрения, а именно как ее официальный поклонник. Он, как и подобает, усердно добивался расположения девушки, но пока не преуспел. Камер-юнкер был голштинец, иначе говоря, немец, причем немец телом и душой; правда, в этом, по мнению Наоми, не было ничего достойного порицания: ведь не политические границы, не реки или горы разделяют между собой разные нации, а язык. Среди северных народов Норвегия и Дания – сестры, Швеция – сводная сестра, Германия – кузина, а Англия – седьмая вода на киселе.
Отцу камер-юнкера недавно исполнилось пятьдесят. «Такими старыми калошами, – думала Наоми, – становятся только те, кто в жизни не делал ничего другого, как следовал предначертаньям Божьим!» Но сказать это вслух она, разумеется, не решалась.
В феврале из Германии приехала труппа цирковых наездников; она собиралась гастролировать до мая, а затем отправиться в Вену. Камер-юнкер взял ложу и пригласил всю семью. Особенно любила лошадей дочь барона фрёкен Эмма; раз в две недели она за два далера каталась верхом с королевским берейтором, так что никто не мог быть более рад приглашению, нежели она. В качестве дуэньи для целой стайки юных дам, впорхнувших в его ложу, была приглашена тетушка камер-юнкера, графиня Хён, которая, по обычаю, принятому среди наших высших классов, вместо титула прибавляла к своей фамилии окончание «ен» и называлась Хёпен; под ее портретом можно было бы с полным основанием поставить слова Лесажа: «C'est la perle des duègnes, un vrai dragon pour garder la pudicité du sexe»[39]39
Жемчужина среди дуэний, истинный дракон на страже целомудрия (фр.).
[Закрыть].
Камер-юикер объяснил, почему его так тянет посмотреть именно это зрелище: все то, что у нас дают на театре, он уже видел в лучшем исполнении и постановке в Гамбурге – крайней северной точке цивилизованной Европы.
Ах, как резво катала карета по зимним улицам! Четыре ее колеса сделали много сотен оборотов, и вместе с ними – большое колесо судьбы. Хорошо бы карета перевернулась, юные дамы бы натерпелись страху, а Наоми сломала бы руку! Да, конечно, это был бы несчастный случай, а кто и когда слышал, чтобы жертвой несчастного случая стал осужденный, которого везут на казнь, – чтобы лошади понесли или сломалась ось…
Зал был полон. Оркестр играл одну из тех легких танцевальных мелодий, которые, когда мы слышим их впервые, вызывают в нашем воображении красивую женщину, входящую в бальный зал: она парит – вся воплощение свежести и жизнерадостности; но потом музыка начинает напоминать ту же даму, протанцевавшую целую ночь: она приелась, свежесть ее ушла. Начался парад-алле. Самые выдающиеся вольтижеры не принимали в нем участия, но Наоми все же узнала их: это была та самая труппа, что приезжала в Оденсе; заглянув в программку, она увидела имя Владислава.
Циркачка с развевающимися перьями уже стояла на спине лошади, размахивая флажками. Наоми казалось, что с той минуты, когда она смотрела на эту женщину в прошлый раз, она едва успела смежить веки и увидеть короткий сон. Те же движения, та же улыбка и та же музыка, хотя за это время наездница успела побывать в Стокгольме и в Петербурге, а летом ей предстояло размахивать теми же флажками перед добродушными и веселыми горожанами Вены. Какая интересная, полная впечатлений жизнь! Как, должно быть, прекрасны эти вечные переезды из страны в страну, вечная новизна! Вперед, не отставай! Не будь отсталой!
Под звуки фанфар на арену выехал Владислав на гордом вороном жеребце. Всадник приветствовал публику с видом сеньора, приветствующего своих вассалов. На нем был польский национальный костюм; темная оторочка медвежьего меха обрамляла шапку, но его собственные волосы, выступавшие из-под нее, были еще темнее. Всякие следы болезни исчезли, но румянец все же не окрашивал щек, гордое лицо было ровного цвета темной бронзы. Глаза смотрели сурово, задумчиво и пронзительно.
Стоило этому красивому, молодому и сильному мужчине появиться на арене, как он привлек к себе интерес всей публики, сколь смешанной она ни была; об этом говорил поднявшийся в зале восхищенный гомон, внимание же всадника целиком принадлежало коню, он ни разу не взглянул в зрительный зал. Стремительным галопом объезжал он арену, подбрасывая в воздух и ловя острые сабли и делая самые смелые прыжки; это выглядело игрой: казалось, и конь, и всадник выкидывают все эти трюки только для взаимного удовольствия. Рискованные курбеты заставляли сердца зрителей замирать от страха, но ужас быстро проходил при виде ловкого и мускулистого всадника. На него смотрели как на птицу, парящую на головокружительной высоте: мы ведь знаем, что крылья не подведут ее.
Не одна дама прикрыла глаза изящной ручкой, в то время как толпа оглашала цирк криками «браво». Наоми перегнулась через барьер ложи; глаза ее сверкали. Впервые она смотрела на мужчину с восторгом, впервые признала, что представитель сильного пола в чем-то превосходит ее.
После Владислава показывали свое искусство другие наездники, но никто не мог сравниться с ним в красоте и храбрости; завершал представление снова он, в образе казачьего атамана Мазепы, которого привязали к спине лошади плашмя, вниз головой, и пустили скакать галопом по необъятной степи.
Это был удивительный вечер; даже с камер-юнкером было интересно, потому что он говорил только о Владиславе. А всю ночь Наоми снился… Кристиан. Она по-своему истолковала этот сон и с некоторой горечью подумала о своем друге Детства.
Через несколько дней фрёкен Эмма сообщила, что несколько дам из общества собираются брать уроки верховой езды у Владислава.
– Я тоже хочу, – заявила Наоми, и, поскольку хозяйская дочь посещала эти занятия, неудобно было отказать в этом гостье.
Камер-юнкер, правда, считал, что всяким бродягам слишком уж везет.
Год 1820-й в Дании был богат событиями. Пробоина обнаружилась в государственном бюджете; несколько горячих голов чуть было не проделали пробоину в корабле самодержавия; в религиозной жизни появилось несколько партий, и каждая видела пробоину в воззрениях своих противников; на фойе столь многочисленных и значительных пробоин мы не решаемся упоминать те, что были пробиты Владиславом во многих женских сердцах: ведь для государственной машины это все равно что пузырьки на воде для мельничного колеса. Сам Владислав был уверен в своей колдовской власти над женскими душами, но уверенность эту ничем не выказывал. Во время занятий он был весьма вежлив, но и весьма молчалив; его речи ограничивались лишь самыми необходимыми пояснениями; лишь однажды улыбка заиграла на его красивых, затененных темными усами губах, и в темных глазах сверкнула молния. Эмма сочла, что лицо его стало злобным, Наоми же, напротив, увидела в нем выражение скрытого страдания; во всяком случае, этот краткий миг вызвал у обеих больше интереса к Владиславу, чем молодой наездник сумел бы добиться, обладай он красноречием Мирабо.
У Владислава обучались как юноши, так и девушки; среди последних никто не мог сравниться с Наоми в лихости и ярко выраженных способностях к вольтижировке; но ведь никто, кроме нее, и не скакал прежде без седла по полям и лесам.
В раннем средневековье наши северные предки чертили любовные руны на яблоке, и ту, к кому на колени падало яблоко, охватывала страсть; но поэт рассказывает нам, что руны могут быть начертаны не только на яблоке, а еще и на лбу, в улыбке и вокруг глаз. Пожатие руки или взгляд может служить яблоком, из которого тот, кто поймает его, высосет ядовитый сок.
Тот, кто любит в первый раз, видит мир как бы сквозь богато ограненный драгоценный камень: каждая грань и каждое ребро переливаются радужными цветами надежды. Самые заурядные люди становятся поэтами, а последние создают свои самые вдохновенные творения.
Если восемнадцатилетней девушке интересен двадцатидвухлетний мужчина, через несколько дней она непременно полюбит его.
В середине апреля наездники давали последнее представление. Зрительный зал был еще закрыт. Двое конюхов готовили к выходу лошадей в угловых стойлах. Рядом с красавцем вороным, на котором обычно выезжал Владислав, стоял и сам прекрасный бронзоволицый атлет; его угольно-черные брови хмурились. Он еще не переоделся для сцены и был в короткой куртке и желтых кожаных штанах, которые облегали его великолепные мускулы, точно собственная кожа. Левая рука покоилась на холке коня, и черный фон особенно подчеркивал ее благородную форму – соединение силы с аристократизмом. Владислав читал письмо: это был всего лишь крохотный клочок бумаги, но розового цвета с золотым обрезом и яркой облаткой. Ясно было, что письмо от дамы. Возможно, поэтому на устах адресата играла тонкая улыбка.
Современные историки искусств утверждают, что в древние времена многие замечательные ваятели раскрашивали свои творения. Возражение, что при раскраске статуя приобретала неестественность, присущую восковым фигурам, они отметают, говоря, что восковые фигуры – это вообще не искусство; поднимись они до высоты последнего, тогда и краски соответствовали бы уровню мастерски переданных форм. Мы не знаем, правы они или нет, но воспользуемся лишь самой их идеей. Представим себе Аполлона Бельведерского, изваянного и раскрашенного с одинаковым мастерством; бронзовое, как у Наполеона, лицо и темные выразительные глаза, какие бывают у сынов Аравии, довершат портрет Владислава.
Сегодня было прощальное представление, публика расставалась с великолепной труппой и с особенным восторгом провожала своего любимца. Семья барона занимала две ложи. Нечего и говорить, что фрёкен Эмма и Наоми тоже были здесь.
Наездники разыгрывали сцену рыцарского турнира. Владислав в доспехах выехал за ограду и в знак приветствия склонил копье как раз перед ложей, где сидели Эмма и Наоми – они ведь были его ученицами. Эмма вспыхнула, Наоми лишь улыбнулась.
О, какие видения населяли сны Эммы в эту ночь! К Наоми же они, видимо, пришли с опозданием, только на следующую, и это наверняка были очень длинные сны: время близилось к десяти, а девушка все не появлялась за чайным столом.
За ней послали служанку, но та не нашла барышню в спальне, нашла лишь записку с извинениями: дескать, Наоми просит не беспокоиться, ей еще вчера вечером пришлось вернуться на Фюн, это был не пустой каприз, а так сложились обстоятельства; с ближайшей почтой они получат подробное письмо, в котором она все объяснит.
Все были изумлены и в тот же день известили старую графиню. Впрочем, всерьез никто не беспокоился: выходка была вполне в духе Наоми – вдруг ей взбрело в голову отправиться на Фюн, и она не замедлила это сделать.
Через несколько дней пришло письмо от старой графини: она была в панике, потому что Наоми у нее не появлялась; хоть бы весточку послала, несносная девчонка!
Как уже говорилось, дело было в середине апреля. Скоро весна, скоро прилетят аисты, эти удивительные птицы: когда они прилетают к нам с юга, нас тянет туда, откуда они явились. Теплое солнышко манит нас выйти из дома; нам хочется посмотреть, набухли ли уже зеленые почки на деревьях, и мы отправляемся гулять по улицам. Копенгагенцы весной идут к морю и смотрят, как отплывают корабли. Пароход выпускает в воздух клубы черного дыма, колеса поднимают брызги, и тем, кто остался на берегу, становится грустно, что они не могут тоже уплыть вдаль. Конечно, найдутся и такие, кто скажет: «Мне и дома хорошо!» – но для того ли путешествует человек, чтобы ему было хорошо, для того ли живет? Однако добропорядочным мещанам этого не понять. Пароход исчезает из виду, обгоняя гордые парусные суда.
Карл Гуцков в своей «Валли сомневающейся» говорит: «Для пошлых душ нет ничего более гениального, чем изобразить самих себя такими, какие они есть; свою тетушку, свою кошку, свою шаль, свои маленькие привязанности, свои слабости. Существуют критики и литераторы, которые восхищаются только копированием действительности. Поэзия стала самооплодотворением. Действительность питается собственным мещанским жирком, которым она заплыла». Дом барона мог бы представить нам много примеров, подтверждающих эту мысль, но мы не хотим ограничиваться буднями повседневной жизни и поспешим оставить место, где ничего другого нам не найти.
Наоми позволила себе внезапно уехать; мы последуем ее примеру, мы покинем Копенгаген – ведь на дворе весна, и пароход готов к отплытию, – но путь его лежит не на Фюн, и мы не сможем проведать Кристиана, Люцию или еще каких-нибудь знакомых на острове; вздымая брызги своими двумя колесами, пароход рассекает Балтийское море. Ну что ж! Для разнообразия отправимся туда. Что-то мы там да найдем, кого-нибудь да встретим. Мы обещаем, что не вернемся в Данию, пока не переживем приключения, которые вознаградят нас за труды; а иначе мы останемся там навсегда, никогда не возвратимся домой. У нас ведь есть в дальних странах хотя бы один знакомый – злополучный портняжка, отец Кристиана, возможно, в эту самую минуту он посылает привет на родину с аистом, собирающимся погостить в Дании.
Итак, мы на борту. Пароход отчаливает.
Говорят: «Что на морское дно упало, то позабылось и пропало». Скорее это можно было бы сказать о поверхности моря… Сколько ни смотри в воду, когда успокоится кильватерная волна, мы не видим больше след корабля; но что, если бы на поверхности всплывало лицо того, кто смотрел в ее зеркало, отразившее выражение, с каким он тогда смотрел? Тогда мы увидели бы красивое гордое лицо Владислава. Ведь прошло всего несколько дней с тех пор, как он вместе со всей труппой проплывал именно этим путем. В сообществе циркачей прибавился еще один член: датчанин, совсем еще юноша, наверняка не старше пятнадцати лет, но и в этом возрасте уже поздновато начинать карьеру циркового наездника; впрочем, юноша силен и гибок, а в глазах читается железная воля; его свежий рот украшают кудрявые усики. Зовут его господин Кристиан, по паспорту он родом с Фюна. Он положил руку на плечо Владиславу; в обнимку стояли они, когда судно приближалось к берегам Мекленбурга. Датчанин смотрел на северо-запад, на море – наши плавучие Альпы, из-за которых весна приходит к нам на две недели позже.
Да, когда наше артистическое сообщество пустилось в путь по суше, луга и леса стояли в таком пышном цвету, в каком у нас они будут только через две недели.
Датский юноша поцеловал Владислава в губы.
– Бери меня, – сказал он. – Я принадлежу тебе.
Владислав усмехнулся:
– Взять тебя! Я взял тебя еще на пароходе.








