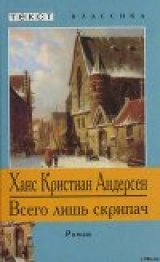
Текст книги "Всего лишь скрипач"
Автор книги: Ханс Кристиан Андерсен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Кажется, датский юноша покраснел, но лица его не было видно – оно прижалось к лицу Владислава, который возвращал ему поцелуй.
«Я взял тебя еще на пароходе»! Да, верно, хорошенькую историю мы бы услышали, ежели бы могли понять говор волн. Рыбы тоже знали, что произошло, но они ведь немые! Велика мудрость природы. Рыбы созданы немыми, чтобы не разглашать сплетни волн, а черви в земле – чтобы не рассказывать, как скучно мертвым в могиле… Сделаем же вид, что мы тоже немы, и откажемся от толкования этих слов.
Цирковая труппа выбрала кратчайший путь – не через Любек в Гамбург, а через маленький городок Мёльн, прославившийся, так же как Верона и Ассизи, находящейся там могилой[40]40
В Вероне похоронены Ромео и Джульетта, в Ассизи – святой Франциск.
[Закрыть] – в Мёльне похоронен Тиль Уленшпигель.
Говорят, что Тиль погребен вниз головой; в надгробном камне высечены сова и зеркало[41]41
«Уленшпигель» дословно означает «совиное зеркало».
[Закрыть]. Когда-то здесь росло дерево, и каждый странствующий подмастерье вбивал в него гвоздь – на память и загадав желание. Во время войны дерево срубили. У надгробья люди останавливаются и размышляют: ведь само имя усопшего представляет собой каламбур. С Уленшпигелем произошло то же, что с Гомером: одни сомневаются в его существовании, другие полагают, что под этим именем скрываются несколько разных людей. Но мы не будем ломать над этим голову, мы пойдем дальше в город и поищем нашего собственного Уленшпигеля, как старая графиня иногда называла Наоми.
Мёльн – интересный старинный город. Мы свернем в одну из самых узких улочек и войдем в дом с толстыми стенами, зубчатым фронтоном и немногочисленными окнами, похожими на бойницы. В просторных сенях мы увидим фургон циркачей, карету хозяина и большой свернутый матрас; стол накрыт; можно подумать, что эти «сени» объединяют все комнаты, включая спальни.
Высадившись на сушу, цирковая труппа проделала шесть миль – теперь можно было отдохнуть. Датчанин – тот, кого называли Кристианом, – сидел между Владиславом и Жозефиной, уже знакомой нам наездницей с развевающимися перьями и цветными флажками. За столом царили смех и веселье, даже Владислав выглядел не таким суровым и мрачным, как обычно, взгляд его гордых глаз был на удивление выразительным.
– Noch einmal die schöne Gegend[42]42
Снова эти чудные места (нем.) – ария из популярной в те годы оперетты «Алина».
[Закрыть], – запел паяц, потом стал болтать о сливочном мороженом и жареных цыплятах, все это на превосходном венском диалекте. А когда Кристиан шепотом сказал, что он устал и хочет спать и видеть сны, паяц глянул на него, подмигнул Владиславу и снова запел на австрийском диалекте:
Купите толкователь снов!
Зачем? Не понимаю.
Всегда один я вижу сон,
И что он значит, знаю.
В Священном писании рассказывается такая история: когда Спаситель сидел в храме, привели к Нему женщину, уличенную в прелюбодеянии, чтобы Он судил ее; Он же сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень», – и все они ушли один за другим[43]43
Иоанн, 8, 3–9.
[Закрыть]. Узнав в датчанине Кристиане Наоми, вспомним эту историю, вспомним также воспитание Наоми, ее окружение и в особенности ее взгляды.
Они с Владиславом остались наедине.
– Я на многое пошла ради тебя, – сказала девушка с печалью в голосе, прежде ей совсем несвойственной. – Не забывай об этом.
– А забуду, так ты сто раз напомнишь, – улыбаясь, ответил он.
– Нет, никогда! Чем бы это ни кончилось! Я все решила сама, я терпеть не могла окружавших меня людей, я их не уважала. Тебя я люблю. Ты можешь убить меня, я все равно буду тебя любить. Это как лихорадка в моей крови. Но никогда я не была счастливее, чем сейчас. Долгая однообразная жизнь, где каждый день – «добрый день», как они выражаются, мне омерзительна. Лучше прожить недолго, но – полной жизнью.
– Меня любило много женщин, – сказал Владислав. – Я мог бы порассказать тебе прелюбопытнейшие истории. Я в грош не ставлю весь ваш пол. Но ты – больше мужчина, чем женщина, и поэтому ты мне нравишься. Я люблю тебя настолько, что даже, пожалуй, буду ревновать. Мне еще неведомы твои недостатки, но, не доехав до Вены, мы изучим друг друга. Ты прекрасна! Тело у тебя теплое, женское, но ум как у мужчины. – Он поцеловал ее в губы и в лоб. – Лежа на моей груди, ты должна верить в Мадонну; перед нею ты должна склониться.
Наоми обвила его руками и ответила на поцелуй.
– Придется твоей женушке первое время носить усы, – сказала она, улыбаясь. – Я не боюсь в роли датчанина Кристиана гарцевать на цирковой лошади. Но у тебя всегда будет получаться лучше, так что я буду тебе завидовать.
– А я, – ответил он, – наверно, не простил бы тебе, если бы ты имела больший успех у публики, чем я.
Они услышали шаги в коридоре.
– Свадебные гости начинают съезжаться, – сказал, входя, хозяин. – Завтра в городе будет праздноваться пышная свадьба. Вся компания из Любека; есть среди них и несколько моряков.
Когда потом Наоми со свечой в руке шла по коридору, ей попался навстречу невысокий коренастый человек с добродушным и веселым лицом; наверняка он с удовольствием предвкушал завтрашнюю свадьбу. В руках у него тоже была свеча; когда он почти поравнялся с Наоми, свечу задуло сквозняком, но девушка успела узнать его: это был Петер Вик. Кровь бросилась ей в лицо, но она быстро успокоилась: нет, он-то не узнал ее, ему ведь и в голову не могло прийти, что копенгагенская барышня в костюме наездника и с усами окажется в добром городе Мёльне. Она смело подошла к нему, зажгла его свечу от своей и еще имела дерзость сказать, что его акцент выдает в нем иностранца.
Петер Вик фамильярно хлопнул ее по плечу, проговорив по-немецки:
– Спокойной ночи, братец.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
И з e н б у p г
Смертельно бледен
За дни разлуки стал ты.
Ф а у с т
Испил я чашу яда.
Глотал я жадно яд сомнений,
И кости выпали, суля беду мне.
ЛенауФауст
Знаешь ли ты родину индусов? Там немилосердно палит солнце, но ветер веет прохладой с гималайских высот. Благоуханные леса сулят отдохновение; смоковница до земли склоняет свои ветви, они укореняются и образуют хижину; кокосовая пальма предлагает тебе молоко, финиковая – плоды, вокруг порхают разноцветные птицы: пурпурно-красные попугаи, золотисто-желтые нектарницы. Как буйствуют здесь краски! Они расцвечивают и крылышки насекомых, и лепестки роскошных цветов. Полноводная река, украшенная голубыми цветами лотоса, считается священной, и в ней совершают омовения. О родина индусов! Что в тебе яснее, прозрачнее всего? Небо или чистейшие озера, где утоляют жажду антилопы и леопарды?
Именно здесь, как гласит предание, находился рай, откуда были изгнаны Адам и Ева. Рай цветет до сих пор, а новыми изгнанниками стали отверженные, несчастные парии. Монгольские орды вытеснили их с родной земли. Парии разделяют судьбу Агасфера. Цыгане – так называют теперь кочующий народ. Современные парии добрались до самого севера – до бесплодных вересковых пустошей Ютландии. Мы считаем их бродягами и ворами. Летом они расставляют свои шатры в чистом поле, зимой забиваются в глубокие канавы. У лисы есть нора, у птицы – гнездо; у парии нет ничего. В бурю и дождь бредут цыгане по вересковой пустоши. Там же они, подобно диким животным, приносят приплод. А пока цыганка рожает, ее соплеменники пополняют свои запасы, поэтому крестьяне всячески стараются избавиться от беременной женщины; бедняжку перевозят с места на место в убогой скрипучей, подпрыгивающей на кочках телеге, даже не подложив ей соломы, и в пути она производит на свет своего будущего нехристя. Едва оправившись, цыганка встает и привязывает узел с новорожденным за спиной; опираясь на посох, она бредет вслед за мужем по кочковатой пустоши; с моря тянет промозглым туманом, небо серое, и вот-вот пойдет дождь, но ведь эта женщина ничего другого и не видала!
Знаешь ли ты родину индусов? Там ярко светит знойное солнце, но ветерок приносит прохладу с гималайских ледников. Благоухающие рощи сулят покой, смоковница наклоняется к земле, и ее ветви дают новые побеги, образуя хижину, кокосовая пальма предлагает тебе молоко, финиковая – плоды. Какое буйство красок! Родина индусов…
На вересковых пустошах Ютландии, как и под стенами Альгамбры, встречаются отдельные таборы, но больше всего цыган живет в лесах и широких степях Венгрии. Трон цыганского короля – замшелый камень подле котла, в котором варится украденный ягненок. Усталые от перехода люди укладываются отдыхать в высокую траву, черноглазые детишки играют с цветами.
Цыганский табор никогда не осмелится войти в императорскую столицу Вену, но поодиночке они нередко крадутся по улицам, в еще большей мере, чем бедные славонцы[44]44
Историческое название хорватов, которым в те времена, как и цыганам, не разрешалось ночевать в Вене.
[Закрыть], окруженные всеобщей подозрительностью.
Чаще всего цыгана можно встретить в одном из предместий, которые так разрослись, что стали больше старой Вены.
В предместье Мариахильф, по аллее, ведущей к Шенбрунну, жарким летним днем 1820-го, того самого года, когда Наоми начала свою карьеру (в буквальном смысле слова, ибо ей не раз приходилось скакать карьером), шли два цыгана в своих обычных белых рубахах и широких коричневых плащах; один был совсем молодой человек в широкополой шляпе, какие носят славонцы: тень падала ему на спину и плечи. Второй, значительно старше, высокий и худой, не нуждался в головном уборе: густые черные с проседью волосы были достаточной защитой от палящего солнца. Они свернули в одну из многих боковых улочек, ведущих от Мариахильфа к летнему дворцу Бельведер.
– Предместья могли бы взять Вену в кольцо, – сказал младший. – Мне сегодня снился забавный сон. Как будто Мариахильф, Йозефштат и вообще все тридцать четыре предместья ожили и пошли войной на город, а обороной командовал собор святого Стефана. Тут такая пошла заваруха, что золотые и серебряные монеты покатились в Дунай.
– Небось выпил липшего, – ответил старик. – Будь осторожен, Цеклеш. Не рассказывай таких снов. У полиции длинные уши. Да и что за дурацкий сон для молодого парня! Нет чтобы увидеть красивую девчонку!
– А мне вот снится война. Эх, был бы я солдатом! Мог бы отсалютовать императору Францу своим оружием! Добрый император Франц! Представляешь, я обнажаю перед ним голову, а он тоже снимает шляпу. И не перед кем-нибудь, а передо мной, нас было только двое на дороге. Император поздоровался с цыганом! Ну а что касается моего сна, то он был ужасно чудной. Собор святого Стефана в своем остроконечном ночном колпаке был генералом. Плечи богатырские, а силы стариковские. Колонну Святой Троицы в Грабене он взял в руки как маршальский жезл. Статуя императора Иосифа на медном коне гоняла по площади Кольмаркт и улице Кертнерштрассе; она созывала портреты с вывесок[45]45
В Вене у каждой лавки есть вывеска, но которой и названа лавка, например: Кардинал, Мадам Каталани, Датский король и т. д. Чаще всего эти изображения обладают портретным сходством, а некоторые и художественной ценностью; такова вывеска у аптеки, изображающая возвращение юного Товии. (Примеч. автора.)
[Закрыть], и они шли за ней. Мраморный великан из Народного парка[46]46
Тесей, скульптура Кановы. (Примеч. автора.)
[Закрыть] встал во главе статуй из церкви Капуцинов, и они взобрались на вал, а потом на крышу императорского дворца, чтобы наблюдать за тем, как приближаются предместья. Пригороды Хицинг и Веринг атаковали в первых рядах; толкотня была такая, какой не бывает в Народном парке или на Пратере в праздничные дни.
– И чего только не взбредет на ум человеку, – сказал старик. – Берегись пьянства, Цеклеш! Винные пары образуют вокруг нас заколдованный круг. Сначала там, внутри, все выглядит очень красиво, но, если подбавишь еще несколько чарок, он сужается, обволакивает нас, словно паутиной, и вот уже мы не видим ничего, кроме плодов своего воображения. Паутина опутывает нас так крепко, что мы теряем власть над своим телом; потом мы засыпаем, испарения рассеиваются, но, проснувшись, мы чувствуем, что наши руки и ноги словно бы освободились от пут, а рассудок наш, слишком крепко спавший, никак не может пробудиться и осознать, что же произошло, пока он отдыхал.
За разговором два цыгана быстро продвигались вперед; только дойдя до длинной улицы Хойгассе, откуда уже был виден дворец, примыкавший к ограде предместья, они замедлили шаг.
– Ты хочешь быть солдатом, Цеклеш! – сказал старик.
– Да, и лучше всего бы служить здесь в Вене. Охранять императорский дворец.
– Ты затоскуешь в неволе, Цеклеш. Не можем мы жить все время на одном месте! Бродяжничество у нас в крови, так же как воровство. А убежишь – тебя повесят.
– Ну и пусть! Какая разница, оказаться в утробе червя или в зобу у птицы! И потом, необязательно ждать худшего!
– В зобу у птицы, – повторил старик. – Золотые твои слова. Это достойная могила для цыгана: вечно в странствии, как и наш парод на земле. Даже у молодежи можно чему-нибудь научиться. Когда я буду бродить по венгерским лесам и слушать птичьи голоса, я вспомню тебя. Каркнет ворона – а я подумаю: не у нее ли в зобу глаза того, кого я любил больше всех на свете? Веришь ли, Цеклеш, более ясных глаз, чем были у моего сына, моего Белы, я не видел. Ты ведь знаешь его парня? Владислав похож на отца как две капли воды, только в нем больше гордыни, больше черной крови. Бела был лучше, хоть его и повесили. А его сыну рукоплещут, когда оп мчится на коне и при этом в душе презирает своих зрителей.
– Вот видишь, он ушел из племени, – сказал молодой.
– Но он не осел на одном месте. Его странствия дальше наших, он побывал за морем, которое шире, чем вся Венгрия. Представь себе, чтобы Дунай разлился до такой ширины! Всех императоров и королей, которых мы видели здесь на конгрессе, мой внук повидал у них на родине. Он летает далеко, как перелетные птицы, и удача сопутствует ему во всем.
За разговором они подошли к дворцу с той стороны, какой он повернут к открытой равнине. Солдаты сидели группками и болтали, туристы и горожане входили и выходили из помещавшейся здесь картинной галереи. Цыгане стояли молча и разглядывали здание, как будто просто из любопытства; но тот, кто знал старого цыгана, заметил бы, что он высматривает кого-то за окнами. Он и его молодой спутник встали у открытых ворот, но не вошли в парк, где люди гуляли по чопорно подстриженным аллеям, среди оскопленной природы в стиле Людовика XIV.
Весь первый этаж занимала великолепная картинная галерея – превосходные полотна, в особенности голландской школы. Сегодня здесь было много туристов. Одна группа восхищалась мастерскими барельефами Герардини, другая – богатым собранием полотен Рубенса.
Среди толпы один молодой человек обращал на себя внимание своим поведением – он небрежно переходил от одного шедевра к другому и смотрел, казалось, больше на расстилавшийся за окнами пейзаж – обширный парк, а позади него – императорскую столицу и горы Венгрии; у молодого человека были темные усики, тонкие черты лица и умные глаза. Всякий, кто замечал его, узнавал в нем наездника из труппы, выступавшей в Пратере. Мы же узнаем в нем Наоми.
Она пришла в Бельведер совсем не для того, чтобы смотреть картины, потому-то и не уделяла им особого внимания. Казалось, только одна картина пробудила в ней интерес, и к ней она постоянно возвращалась. Это было полотно Ван Дейка «Самсон и Далила» – воистину великолепное произведение. Отчаянный укор в глазах Самсона так по-человечески выразителен, что его понял бы любой – от Гренландии до Таити. Равнодушие Далилы, любопытство хозяйки – сама реальность. Мы не смеем открыть читателю, была ли Наоми захвачена лишь мастерством художника, или сам сюжет привел ее к далеко идущим сопоставлениям. То и дело подходила она к окну и высматривала кого-то, но потом снова возвращалась к «Самсону». Грудь ее вздымалась от беспокойных мыслей.
В очередной раз глянув в окно, она заметила цыган, после чего быстро вышла из зала и спустилась по лестнице. Цыгане увидели ее, но ничем не показали этого, только побрели медленнее. Наоми пошла за ними. У низенького домика, куда привела их петляющая тропинка, старик остановился, будто бы завязывая шнурок на башмаке; молодой же продолжал путь. Наоми приблизилась к старику, и они заговорили о Владиславе. Старик отзывался о нем дурно.
– Ты лжешь, – не поверила ему Наоми.
– Лгу? – переспросил старик. – Он – моя родная плоть и кровь, и вместе с тем глубокая, незаживающая рана в моем сердце. Его отец был моим сыном. Владислав презирает своего деда и весь свой род. Он не испытывает ненависти к тем, кто ненавидит нас. Однажды я высказал ему правду, и на моем плече остался след его кнута. Я помню об этом! Человек может забыть чистую свежую воду, которой ему дали утолить жажду, но грязную и горькую он не забудет никогда. Владислав, возможно, любит тебя сегодня; но завтра он тебя возненавидит, и за то, что любил, он станет тебя мучить. Я знаю, что ты женщина. Я видел достаточно знаков, которые рассказали мне о твоем прошлом; о будущем я тебе не скажу: его легко угадать. Держи с ним ухо востро! А если душа у тебя под стать твоему костюму, накажи его, если сможешь. Для того-то я и назначил тебе эту встречу. Сегодня ты можешь найти его в Хицинге. Там много красивых женщин.
– Но я вовсе не женщина, – возразила Наоми. – Ты ошибся. Вполне возможно, что Владислав злой; но пускай себе любит женщин, я тоже их люблю. Нет человека, который наслаждался бы своей молодостью полнее, чем я; и мне всегда улыбается счастье.
– И все-таки ты покраснел, – сказал цыган. – Мои глаза не ошиблись, и мои слова дошли до твоего сердца.
Он кивнул в знак прощания и ушел.
Наоми с минуту колебалась, не пойти ли ей за ним, но передумала и направилась сначала к дворцу, потом через старомодный подстриженный парк в городок.
От Петерсплац как раз отходил омнибус на Шенбрунн и Хицинг.
Наоми села в него. Она улыбалась, так же как и все: ведь они ехали развлекаться. Славные венцы с восторгом говорили о своем добром императоре, о колбасках и жареных цыплятах, о комиках братьях Шустер, обо всем вперемешку, как это бывает в пустой светской беседе. Напротив Наоми сидел молодой художник с наглым взглядом. Он услышал по ее выговору, что она не местная, вдобавок он видел ее в Пратере.
– Ваш господин, – сказал он, – наверняка сейчас в Хицинге, он часто там бывает.
«Мой господин», – повторила про себя Наоми. Незнакомец имел в виду Владислава. Они подъехали к летнему дворцу Шенбрунн. Несколько бедно одетых ребятишек бежали рядом с каретой и бросали туда букетики цветов, чтобы получить за это пару крейцеров; художник поймал букет и улыбаясь перебросил его Наоми; та непроизвольно раздвинула ноги, как делают женщины, когда хотят поймать что-нибудь в подол платья; художник усмехнулся, а она вспыхнула.
Совсем недалеко от Шенбрунна расположился маленький городок Хицинг; достопримечательностями его были церковь и прелестные места для увеселений. Задорная музыка лилась из летнего ресторана, в те времена столь же посещаемого, как и сейчас, хотя его еще не прославили оркестры Штрауса и Ланнера. В маленьком саду, втиснутом между домами и грязным ручьем, яблоку было негде упасть из-за столиков и палаток, в нем, как и сейчас, толпились люди.
Владислав с двумя молодыми девушками сидел за столиком, Наоми села неподалеку; мысли у нее были мрачные, как у Саула, но ликующая музыка не умиротворяла их, как гусли Давида. Танцевальные мелодии дышали живой фантазией народного театра, радостями Шенбрунна и Пратера, все сердца подпевали веселому куплету, но для Наоми в нем звучали вздохи и насмешки, тянуло холодом сырых темниц, гнетущим зноем свинцовых рудников.
Владислав надменными дерзкими глазами смотрел на нее, она – на него, но они делали вид, будто незнакомы, хотя следовали друг за другом, неразлучные, точно человек и его тень.
Растяжимость человеческой мысли не знает границ, она неизмерима как Вселенная, чью безграничность нам доказали астрономы; титаны духа расширяют кругозор нашей мысли, но такую же власть имеют и страдания, и великие мгновения нашей жизни; и благодаря им мы можем воспарить мыслью в небеса или низвергнуться в ад. Наоми смотрела взглядом острым, как у Ньютона, но смотрела она в дьявольскую бездну.
Перейдя из сада в освещенный зал, Наоми и Владислав встретились в танце. Поскольку Наоми была одета мужчиной, танцевать ей пришлось с женщиной, и Владислава это явно позабавило; но и теперь они не перемолвились ни словом. Под ликующую мелодию Наоми вертелась, как Иксион[47]47
Иксион – мифический царь лапифов. В наказание за попытку соблазнить Геру, Иксион в Тартаре привязан к вечно вращающемуся огненному колесу.
[Закрыть] на колесе. Грудь ее вздымалась, глаза сверкали. Владислав же был холодей – принцесса Турандот в мужском обличье, с высокомерной, насмешливой улыбкой. О, какие муки причиняет человеческое сердце самому себе! Всегда оно колотится, всегда кровоточит – и это необходимо, иначе нам не жить.
Владислав исчез в толпе; тщетно Наоми искала его. Было уже поздно, последний омнибус ушел, но еще остались несколько крестьян со своими частными маршрутными каретами. Мужчина с двумя дамами сел в карету: да, это был он. Наоми проворно вскочила следом, для нее еще нашлось место, и они покатили.
Сквозь темные деревья светились огни Хицинга и Шенбрунна; в карете сидели еще несколько порядочных бюргерских семей, очень довольных проведенным днем; они судачили об эльфах и феях, хорошо знакомых добрым венцам по представлениям народных театров, цитировали шутки Касперля и Пумперникеля и восхищались своими любимцами братьями Шустер, особенно Игнацем, благослови его Бог!
Наше поколение не знает комическую троицу братьев Шустер, не знает времен расцвета Леопольдштадтского театра, но мы легко можем представить себе все это; пусть нам незнакома муза Бойерле, зато хорошо известны произведения Раймунда и Нестроя, и мы вполне могли бы вместе с добрыми венцами в карете тоже посудачить о волшебном мире народных театров, чудесном мире, в который так легко перенестись наивному бюргеру летним вечером, когда огоньки Хицинга и Шенбрунна мерцают среди деревьев.
Одна из этих новейших пьес начинается с того, что король духов, сидя в своей постели, звонит в колокольчик и спрашивает явившегося камердинера, почему тот сегодня постелил ему такие сырые облака. «В этом году невозможно просушить их, – отвечает тот, – венская полиция тоже подала нам жалобу на этот счет. Времена года перемешались между собой, сейчас не то, что было раньше».
«Позови ко мне сюда времена года!» Те являются на зов. Зима – старик с палкой в руке. Король приказывает ему подойти поближе. «Что я слышу, – говорит он, – на старости лет ты стал таким пьяницей, что просто не просыхаешь! Кончай с этой привычкой. Каждый из вас должен лучше трудиться на своем посту, иначе я отправлю вас в отставку без пенсиона». Времена года смущаются; они почтительно целуют руку королю и обещают исправиться.
В другой пьесе мы видим добропорядочную венскую семью, которая начиталась рыцарских романов и полагает, что те времена были гораздо лучше нашего. Они ложатся спать, а просыпаются в средневековых костюмах: они перенеслись в столь желанную рыцарскую эпоху. Приходит рыцарь-разбойник, он просит руки их дочери, и они на верху блаженства от такой романтической партии. Но вскоре им приходится почувствовать всю грубость того времени и отсутствие всех удобств, какими пользуемся мы. В конце концов они даже попадают в темницу, где приговорены умереть голодной смертью. Теперь бедняги мечтают вернуться в наши счастливые дни, когда можно есть жареных цыплят, ездить в Хицинг и смотреть комедии в предместье. Излечившимися от бредней колдовство снова переносит их в наше лучшее, в паше радостное время.
Ах, как хотелось бы Наоми, чтобы тот волшебный мир, о котором говорили ее соседи, вмешался в реальную жизнь! Чтобы, как горный дух из скандинавского народного сказания превратил в камень ненавистную ему свадебную компанию, она могла превратить в камень Владислава и обеих женщин – но она сделала бы так, чтобы в холодный мертвый камень обратилась лишь нижняя часть его тела, как у принца Агиба из «Тысячи и одной ночи»; пусть в голове его живет мысль, а сердце истекает кровью, дабы он мог полностью прочувствовать свою муку.
Карета остановилась. Владислав сделал вид, что только теперь заметил Наоми. Он обнял ее за плечи так, что ей стало больно и на теле у нее наверняка остались синяки.
– Кристиан! – сказал он, улыбаясь. – Ты тоже вышел на поиски приключений. Хвалю, мой мальчик. Так и заласкал бы, так и зацеловал тебя за то, что ты наконец-то стал таким же, как мы все.
– Пусти, – огрызнулась Наоми, уклоняясь от его бурных ласк, – я с дамой.
Она отвернулась от него и, выражая взглядом больше, чем можно было бы сказать словами, предложила руку одной из спутниц Владислава. Женщина оперлась на нее и зашептала на ухо «кавалеру» непристойные нежные слова, но Наоми уже некуда было дальше краснеть, и сердце ее не могло уж биться сильнее.
В Вене многие улицы соединяются между собой через крылечки и прихожие отдельных домов. Человек, который не знает этого, может подняться по лестнице в полной уверенности, что он вошел в дом, а на самом деле оказаться в переулке.
Владислав со своей женщиной проскользнули в один дом; Наоми бросилась за ними.
– Куда же они девались? – спросила она свою спутницу.
Та рассмеялась и повела Наоми наверх по винтовой лестнице, но и там Владислава не было. Женщина постучала в дверь.
– Где же они? – спросила Наоми.
– Они в другом месте, а мы здесь, – со смехом ответила женщина.
Дверь отворилась; пожилая, хорошо одетая дама с серебряным подсвечником в руке пригласила их войти.
– Проклятье! – выругалась Наоми и чуть ли не кувырком скатилась с лестницы. Огонек свечи спускался: обе женщины шли за ней. Наоми выскочила на улицу. Она никого не увидела, вокруг не было ни души. «Владислав», – пробормотала девушка и до крови закусила губу.
Через полчаса она была у себя дома в Пратере; Владислав еще не приходил. Наоми, не раздеваясь, бросилась на кровать, однако в глазах ее не было ни слезинки, ни вздоха не сорвалось с уст. Наконец послышались шаги – пришел Владислав.
Молча смотрели они друг на друга.
– Ну как, хорошо повеселилась? – ехидно улыбаясь, спросил он.
Наоми молчала, не сводя с него оскорбленного взгляда своих гордых глаз; он же смотрел на нее насмешливо и улыбался.
Она пошевелила губами, собираясь что-то сказать, но промолчала.
– Ты никогда не замечала, – заговорил он, – что, когда я иду по конюшне и моя кобыла не привязана, она всегда ржет и идет за мной следом. Просто потому, что любит меня, а я за это поглаживаю ее по гриве. Ты тоже ходишь за мной по пятам, но не из любви, совсем наоборот. Вот и мне хочется тебя приласкать наоборот, ты этого заслуживаешь.
Он взял со стола кнут и щелкнул им в воздухе в сторону Наоми так, что котик коснулся ее шеи.
Это был словно укус тарантула. Похолодев, девушка не сводила глаз с обидчика. Наконец произнесла единственное слово: «Владислав!» – и вышла из комнаты.
На улице было темно и тихо, только прогрохотала, катя по дороге мимо Пратера, карета. Небо было звездное. Большая Медведица указывала на север. Вспомнила ли Наоми о родине, или ее мысли оставались в дощатом доме у сына парии, гордого Владислава? Глаза ее не пролили ни слезинки, пи единый вздох не сорвался с уст; она в задумчивости сделала несколько шагов, не отрывая глаз от звездного неба. Так смотрела на море Ариадиа, узнав, что Тесей обманул ее. Так улыбалась Медея, здороваясь с Ясоном у Креусы.
В тот самый час, в ту самую ночь, только в другом месте – на скучной проселочной дороге в Зеландии, еще одни глаза смотрели на то же созвездие, однако в них, напротив, читались надежда и вера, какие вдохновляли Леандра, когда он бросился в волны Геллеспонта и поплыл к маяку, зажженному Геро.
Человек, кативший в эту ночь в карете по зеландской дороге в сторону Копенгагена, был Кристиан. Он пришел к убеждению, что у господина Кнепуса многому не научишься и, если он хочет чего-то добиться в жизни, пора ему выходить в широкий мир. Петер Вик рассердился и сказал: пусть, дескать, плывет дальше в одиночку. Люция плакала, но Кристиан был тверд в своем решении. У него были рекомендательные письма, одно из них – к королевскому лакею, и он считал, что это гораздо надежнее, чем пустые обещания и рукопожатия. Стояла прекрасная, тихая летняя ночь, кучер трубил в свой рожок, и ему отвечало эхо. Одна звезда сверкала ярче других – это была звезда Денеб в созвездии Лебедя. «Вот моя счастливая звезда», – подумал Кристиан и спросил соседа, как она называется. «Курица на насесте», – ответил тот.
Кристиан думал о Наоми; а ее мысли в этот час кружились, словно пчелиный рой, отыскивая каждый побег горечи, проклюнувшийся за последние месяцы в ее сердце, и отовсюду приносили ей яд.
Она прислушалась, и ей показалось, что она слышит плеск дунайских волн. По небу, где когда-нибудь будут плавать воздушные шары, пролетела падучая звезда.
Наоми вернулась в дом, где спал Владислав; однако она осталась в коридоре, села на нижнюю ступеньку лестницы, положила руки на перила и прислонилась к ним головой. Она задремала, как дремлет араб, знающий, что его злейший враг спит с ним в одной кибитке: они. ели и пили вместе; гостеприимство – священный щит, который разделяет их, они пожали друг другу руки… но последней мыслью каждого, перед тем как заснуть, было: мы еще встретимся в другом месте! В жилах сына парии и дочери Израиля течет азиатская кровь, в ней пылает жаркое солнце.








