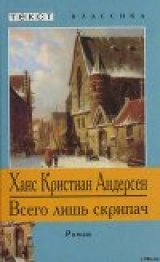
Текст книги "Всего лишь скрипач"
Автор книги: Ханс Кристиан Андерсен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
X
– Чтобы стать пастором, надо просто этому учиться.
– Ну что ж, и треснувший колокол может сзывать на молитву.
К. ЛевийнПиковая дама
Он умер, твердо веря, что его народ – прекраснейший на земле и, несмотря на вырождение и на все свои бедствия, остается народом, избранным Богом.
Б. С. ИнгеманСтарый раввин
Когда господа нанимают слугу, они смотрят не только на его умение выполнять свои обязанности, но и хотят, чтобы в его внешности и произношении не было ничего смешного. Актер, выступающий на сцене, должен обладать наружностью, соответствующей персонажу, которого он будет играть, иначе он не донесет до зрителя замысел автора пьесы. Особенное значение придается голосу. Почему же пастор, устами которого вещает сам Господь, имеет у нас право на самый писклявый фальцет и смешную манеру говорить? Наши пасторы проповедуют нараспев, гнусаво, вычурно, как правило, повторяя ошибки столичных пасторов, которые блистали во времена их молодости. Подобно тому, как некогда казался невозможным перевод Библии на родной язык, многие считают невозможным чтение Библии вслух без той аффектации, с которой передают слово Божие наши пасторы. Вместо того чтобы говорить естественно, от сердца, глядя в глаза своей пастве, эти священники пыжатся, как индюки, склоняют набок голову, закатывают глаза. А между тем слово Божие должно преподноситься как благородное вино, в чистом серебряном бокале.
Все недостатки, которые должны быть чужды духовному лицу, наличествовали у местного священника господина Патерманна, который по желанию графини готовил Наоми к конфирмации. Не зря уста его источали мед, не зря он пресмыкался как змея; в его вечной улыбке было что-то омерзительно приторное, льстивое; он обращал к людям свое приятное лицо, в то время как сзади у него была пустота[31]31
По народным поверьям у короля эльфов вместо спины – пустое место, нечто вроде корыта для опары.
[Закрыть].
Гувернантка утверждала, что у господина Патерманна лик апостола, что его обхождение – это поэзия в прозе жизни. Мы не можем разделить ее точку зрения. Господин Патерманн очень курьезно использовал чужие удачные выражения – собственные экспромты никогда не приходили ему в голову. Но и мысли других он не умел перемножать со своими и получать произведение – скорее он вычитал свои минусы из чужих плюсов. Наоми он не нравился.
– Так вот кто должен сделать из меня человека! – поморщилась она и перечислила в уме все выдающиеся качества господина Патерманна.
Он был ей смешон, а смешным ни в коем случае не должен быть человек, проповедующий Священное писание. Она его не уважала, и он часто давал ей повод выказать присущий ей дух противоречия. Подготовка к конфирмации превращалась таким образом в постоянные диспуты. Пастор заискивал перед барышней из господского дома, но срывал зло на грешной деревенской молодежи; он вел себя как учитель, который за проступки сына богача бил собственного, говоря: «Ты моя плоть и кровь, вот же тебе, получай!» Обычно Наоми приезжала в пасторскую усадьбу верхом, и достопочтенный учитель сам помогал барышне сойти с лошади. Но сегодня его опередил подручный скотника, поскольку у него было поручение от одной бедной женщины: у нее-де в доме лежит умирающий и он очень просил барышню прийти к нему.
– Что за чепуха! – фыркнул пастор. – Ведь она вдова. Это лживая уловка, чтобы выклянчить денег.
И он повел Наоми в гостиную.
Надо же было случиться такому совпадению, что сегодня они читали притчу о милосердном самаритянине.
– Он сделал доброе дело, и мы должны следовать его примеру, – заключил пастор.
– Значит, я напрасно не пошла к той бедной женщине, – сказала Наоми.
Не надо понимать это так буквально, – возразил господин Патерманн. – В нашей стране бедняки – это подлый сброд, который только и думает, как бы обманом и всякими уловками выманить деньги у тех, кто их имеет. Здесь нельзя поступать так, как в восточных притчах!
И он засмеялся, очевидно полагая, что удачно сострил.
Умирающий лежал на охапке соломы в пристройке у вдовы арендатора, где к кормушке была привязана ее единственная корова; кусок дырявой мешковины прикрывал ему ноги. Он был один, только корова с любопытством поглядывала на него поверх разделявшей их решетки. Худые бессильные пальцы больного находились в непрерывном движении.
Дверь отворилась, и вошла арендаторская вдова. Она принесла кружку воды, поставила рядом с больным и сказала жалобно и вместе с тем ворчливо:
– О Господи! Не хватало только, чтобы он умер здесь у меня. Вот награда за то, что я пустила его переночевать. Да ведь вчера, когда старый коробейник попросился ко мне, смерть уже смотрела из его глаз. Боже, спаси меня и помилуй!
Умирающий приподнял голову и словно бы улыбнулся, потом снова закрыл глаза.
– Барышня не придет, – сказала женщина. – Я так и знала, к тому же пастор рассердился. Мне за это еще достанется.
Умирающий глубоко вздохнул. Вдруг он приподнялся и показал на свой перевязанный короб.
– Ты хочешь, чтобы я открыла его? – спросила женщина.
– Да, – прошептал он.
Внезапно взгляд его прояснился, он протянул вперед руки: в дверях стояла Наоми.
– Я видела тебя прежде, – сказала она. – Ты всегда так почтительно здоровался со мной. И так странно смотрел на меня. Ты даешь ему воду? – обернулась она к женщине. – Принеси чего-нибудь получше!
– Да, ему бы не помешал глоток вина, но вот уже две недели, как в моем доме нет ни капли.
Наоми дала женщине денег и велела купить вина. Та повиновалась не сразу, сбитая с толку.
Воробьи влетали в пристройку, чирикали на каменном полу. Холодный ветер задувал в щели. Умирающий, казалось, ожил; он заговорил:
– Дай поглядеть на тебя, Наоми!
– Тебе известно мое имя?
– Я узнал его раньше, чем ты сама, – сказал он с горькой усмешкой. – Я носил тебя на руках, но ты не можешь помнить старого Юля.
– Я видела тебя прежде. Но ты никогда не приходил к нам в усадьбу.
– Мне запретили. Да я и не хотел.
– Что ты собирался мне сказать?
Он указал на раскрытый короб. Что прятал он там? О чем поведал? Если бы ты понимал чириканье ничтожных воробьев, они передали бы тебе его слова, обращенные к Наоми. Будь тебе внятны звуки, которые холодный ветер ранней весны извлекал из своей эоловой арфы – ветхой плетеной стены, ты бы знал, почему на обратном пути Наоми была задумчива и ехала шагом.
«Не породил ли иудаизм христианство, а теперь сам, подобно Эдипу, принужден скитаться по свету и терпеть издевательства со стороны своего же детища?» Возможно, она размышляла об этом, а не то – так о милосердном самаритянине, о котором рассказывал сегодня пастор. Ее тонкие пальцы перелистывали какую-то книгу, а глаза смотрели в нее с таким же жадным интересом, с каким алхимик заглядывает в тигель, где плавится смесь различных веществ. Что это была за книга – учебник епископа Балле или повое, исправленное издание сборника псалмов, откуда прозаичный издатель вырвал самые поэтичные, подобные ароматным лепесткам страницы? Нет, для этого формат был слишком велик, переплет слишком стар, а вместо лепестков были всего лишь листы бумаги с поблекшими от времени буквами. Это было наследство, полученное высокородной барышней от матери. В книге были записаны стихи и мысли, а между страниц вложены отдельные листки.
«Разве это позор – принадлежать к народу, известному во всем мире? – спрашивала себя Наоми. – Отец моей матери был богат. Юль всю жизнь служил ему верой и правдой. Когда я осталась одна, когда все погибло в огне и превратилось в пепел, он нашел для меня дом, тот, где я живу и должна жить. Старый преданный друг!»
Слезы навернулись ей на глаза, но она сдержала их, сомкнув черные ресницы.
Вдова арендатора в одних подшитых кожей чулках бежала за ней.
– Барышня, он умер! – кричала она.
Наоми остановила лошадь.
– Вот как, стало быть, он умер! Кстати, что он сказал вам, когда просил позвать меня?
– Он сказал только, чтобы я привела вас, мол, он не может умереть, не поговоривши с вами. Я знала, что сегодня вы будете у пастора…
– Вы его неправильно поняли, – холодно перебила Наоми. – Потому-то и сделали такую глупость. Поедали за мной, а ведь он мне совсем посторонний человек. Я его знать не знаю. В усадьбе не поблагодарят вас, если услышат об этом. Я-то буду молчать, обещаю вам, только сами не проговоритесь. Сообщите о его смерти фогту.
– Как, вы его не знали?
Наоми смерила женщину ледяным взглядом:
– Что у меня общего со старым евреем?
И она ускакала прочь, но сердце у нее отчаянно колотилось.
«Бедный Юль! Если сам Бог отвернулся от твоего народа, так могу и я отречься от тебя!» Она снова вынула книгу, спрятанную на время разговора с женщиной, немного почитала, потом пришпорила коня и галопом вернулась домой.
Самого бедного крестьянина хоронят в освященной земле кладбища; если его неимущая родня не в состоянии поставить крест на его могиле, натягивают кусок холста между двумя ивовыми прутьями и пишут на нем черным его имя и дату его смерти. А честный Юль, который некогда совершил далекое путешествие, чтобы похоронить золу, оставшуюся от его господина, в освященной земле, сам упокоился за каменной оградой кладбища, там, где арендаторская вдова пасла у дороги свою корову. Четыре дня еще был виден белый песок, которым женщина посыпала могилу, но потом мальчишки с присущей им жестокостью забросали его камнями: они ведь знали, что здесь лежит еврей. И всеми презираемые воробьи садились на камни и чирикали, и холодный ветер ранней весны играл на своей эоловой арфе – ветхой изгороди…
В самом процессе чтения заключена некая магия: мы смотрим на черные буковки, а видим живые образы, которые проникают к нам в душу и захватывают нас с не меньшей силой, чем сама действительность. Наоми читала книгу и письма, и дом, который сгинул, превратившись в пепел и золу, вставал перед нею: старинные резные шкафы, надписи на дверных косяках: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя»[32]32
Пс. 136, 5.
[Закрыть]. Прелестные левкои благоухали, а солнце светило сквозь пурпурное стекло в беседку, где под потолком висело страусиное яйцо.
Значит, старая графиня все-таки сказала правду о матери Наоми, но она не поведала о том, как норвежец, узнав о ее тайных встречах с прежним возлюбленным, темной ночью прокрался к Саре вместо графа; он поджидал его, затаившись, подобно тому, как червь беззвучно источает стебель, на котором висит перезревший плод. Потом явился граф, и сплетни подтвердились для обоих. Любовь дарит великое счастье, но тем больнее наносимые ею удары.
Прекрасная Сара плакала, как Сусанна, дочь Хелкии, но Даниил не закричал: «Чист я от крови ее». По этому поводу в книге было сказано много важного и интересного, но, в сущности, это было неподходящим чтением для отроковицы, которая еще только готовилась к конфирмации.
Еще там была приписка, сделанная дрожащей рукой старого Юля: «Норвежец – отец Наоми. Несчастная Сара, рождение ребенка стало несмываемым пятном на твоей безупречной репутации. Отверженная, ты возненавидела отца своего ребенка, но у тебя не было никого, кроме него. С проклятьями ты все же пришла к нему, и он запечатал печатью смерти твои уста: твои жалобы пробудили в нем духа зла и он убил тебя. Суров Бог Израилев, карающий детей за грехи родителей до четвертого колена!»
«Итак, мой отец норвежец! – сказала себе Наоми. – В этом, пожалуй, теперь нет сомнения. А моя мать? Через нее я принадлежу к отверженному народу. Уж в этом-то точно сомневаться не приходится. – Она подошла к зеркалу. – Я не голубоглазая блондинка, я ничем не похожа на людей, рожденных под северным сиянием, среди туманов. Волосы у меня черные, как у детей Азии, мои глаза и моя горячая кровь говорят, что я из народа, жившего под южным солнцем!»
Теперь она читала Ветхий Завет с жадным интересом, как аристократ – свое родословное древо. Сердце ее начинало биться сильнее, когда она доходила до глав о смелых женщинах, о которых повествует Священное писание: храброй Юдифи, разумной Эсфири.
«Народ моей матери был просвещенным, победоносным народом, когда на севере бродили орды дикарей. Колесо истории повернулось!»
– Глубокоуважаемая барышня, вы настоящий искуситель, – говорил господин Патерманн на уроках.
И действительно, Наоми иной раз задавала вопросы, которые привели бы в смущение и более мудрого священника, чем он. Ее мысли развивались, лишенные чьего-либо руководства, и порой давали дерзкие, чересчур дерзкие побеги. Никто ей был не указ, и она любила вступать в дискуссию со своим наставником и побеждать его, что случалось довольно часто. Ее интересовало, чему учил свой народ Магомет и в чем заключается мудрость браминов, живущих на берегах Ганга. «Надо знать все, чтобы выбрать лучшее, – говорила она. – Больных и расслабленных держат на диете, но я здорова и сильна и хочу перепробовать все кушанья».
На такие речи господин Патерманн отвечал поклоном, а про себя думал: «Если кому-нибудь и суждено гореть в геенне огненной, так это ей». И обо всех недостатках Наоми докладывал старой графине, а та, в свою очередь, передавала это сыну. Гувернантка, которая совсем не подходила для того, чтобы руководить развитием Наоми, перешла на службу к графине в качестве лектрисы, сиделки и собеседницы. То, что ангел Господень предрек Агари о сыне, которого она родит, казалось, относилось к Наоми в точности так же, как к Измаилу: «Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него»[33]33
Быт., 16, 12.
[Закрыть]. К последним относились графиня, пастор и гувернантка. «Я знаю, – говорила Наоми, – что, когда пар поднимается с болот, могут собраться темные тучи. Но мне нравится гроза, особенно если я сама ее вызвала. Мне смешно, что эти люди хотят распоряжаться мною. Только графа я признаю своим господином и повелителем. Ну а если эти людишки захотят сыграть роль злого Амана, у меня хватит смелости преподнести им сюрприз, как у Эсфири, причем тогда, когда они меньше всего будут этого ожидать. Я знаю, что рука более могущественная, чем рука белокурого Людвига, водила пером, когда в паспорт этого нытика из Оденсе было внесено описание моей внешности». И она читала и перечитывала страницы о богатых стадах Авраама, о победах Давида и великолепии Соломона.
На римском Форуме есть руины языческого храма, внутри которого, между высоких мраморных колонн, построена христианская церковь; древнее и новое сплетаются, но глаз зрителя дольше задерживается на древних развалинах; точно так же мысли Наоми, когда она рассматривала две переплетающиеся религии, христианскую и иудейскую, больше задерживались на последней. В то время как обычно юношеская фантазия преобразует каждый миф в действительность, Наоми выказывала склонность видеть в истории собрание легенд. У нее создалось мировоззрение, похожее на то, что в наши дни в какой-то мере получило распространение в Германии, – своего рода религиозное свободомыслие. Впрочем, если точнее определить, кем, в сущности, она была в период конфирмации, то скорее последовательницей иудаизма, нежели христианкой. Извергающий громы и молнии беспощадный судия Иегова был ей ближе, чем кроткий дух, к которому мы можем воззвать «Авва, Отче!». Прочитанное в Ветхом Завете связывалось для нее с воспоминаниями детства, и она все чаще думала о Юле, о своем последнем разговоре с ним.
Когда Наоми в первый раз прошла мимо его могилы, на этом месте паслась корова вдовы арендатора. Девушка заглянула за кладбищенскую ограду и улыбнулась.
«Какая разница, по какую сторону лежать? И тут и там его сожрут черви. Библия пророчит воскресение из мертвых, а эта книга, как мне говорят, есть слово Божие; но там же сказано: «Редеет облако, и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет»[34]34
Иов, 7, 9.
[Закрыть]. Раз так написано в Библии, значит, и это истина. Я должна верить ей, как и той, другой. В Библии сказано, что бессмертия не существует. Самое совершенное творение Иеговы рассыплется в прах, перестанет существовать еще скорее, чем статуя, созданная человеком из праха; все творения Божии, все светила распадутся, пусть для этого потребуются миллионы лет, но в конце концов они распадутся; в одиночестве будет витать Иегова над руинами своего творения, над хаосом, как витал он в одиночестве до сотворения мира. «Редеет облако, и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет», – говорит мне Библия. И еще: «Дни мои бегут скорее челнока, и кончаются без надежды»[35]35
Иов, 7, 6.
[Закрыть]. Значит, живи, не откладывая! Радуйся, пока можешь, а потом умри мгновенной смертью!»
В следующее воскресенье церковь была разукрашена гирляндами еловых веток, перед алтарем горели пурпурные свечи, а по полу шуршали атласные шлейфы. Наоми стояла первой в череде конфирмующихся, ведь она сделала самые большие успехи. Никто не мог сравниться с ней в точности ответов, никто не доказал так убедительно, что усвоил христианские догматы.
Карета отъехала от церкви; колеса прошлись по могиле Юля.
«Сегодня я присягнула христианскому знамени, – задумчиво сказала себе Наоми. – Для этого меня воспитали, меня кормили и поили, чтобы потом я стала одной из них. Я знаю, перебежчиков карают. Не важно, служишь ты в пехоте или в кавалерии, но служить ты должен только одному королю. О Господи, такова и моя судьба в этом мире!»
И слезы блеснули между ее черных ресниц.
Слуга позвал ее на праздничную трапезу. Господин Патерманн вел к столу старую графиню. Наоми была в атласном платье с розовым бутоном, приколотым как раз в том месте, где бешено колотилось сердце.
XI
Эти образы и вещи
То смешны, а то зловещи.
Приходите посмотреть
На их круговерть.
Ф. Рюккерт
Подобно тому как бедные женщины для удобства всегда оставляют на веретене ниточку старой пряжи, чтобы привязать к ней новую, простой народ в своих письмах тоже начинает со старой традиционной формулы: дескать, я пребываю во здравии и благополучии, чего и тебе желаю; при этом зачастую дальнейшее содержание письма полностью противоречит сказанному. Так было и с ответом честного Петера Вика на послание Кристиана: за традиционным вступлением следовало:
«Какая муха тебя укусила, что ты чуть ли не напрочь ума решился? Ты не с того начал: пока еще у тебя на борту нет никакого груза, а ты уже распустил все паруса. Смотри, не растеряй и той капельки познаний, которая уже накопилась у тебя в голове. Впрочем, остаюсь до самой смерти твоим преданным другом.
Петер Вик, владелец и капитан шхуны «Люция».
Рука друга бьет больнее, нежели вражеская; к тому же Петер Вик был отчасти прав. Кристиан не мог этого отрицать и потому хоть и огорчился, но не был оскорблен, как тогда, когда Наоми покинула его, рассерженная, что он не бросился слепо выполнять ее сумасбродные планы. В нем проснулось чувство собственного достоинства, и он горько сожалел, что не швырнул ей назад ее деньги. Теперь в голове у него вертелись сотни колкостей, которые он мог бы ей при этом сказать. Но получилось так, что на следующее утро он увидел вместо своего дома груду дымящихся развалин, мать, всеми покинутая, горько сетовала, и он отдал ей половину этих денег, надеясь потом возместить их при счастливом случае или собственным трудом; это был мгновенный порыв. Хочешь потерять друга – возьми у него в долг. Кристиан доказывал на собственном примере истинность этих слов, нарочно вызывая в памяти те случаи, когда Наоми вела себя с ним холодно и резко. «Я не люблю ее больше! – говорил он себе. – Ну да, она красива, но что еще в ней хорошего?» И все же он постоянно думал о ней, вспоминал, как она сидела у его постели, как протянула ему руку и как он сам однажды поцеловал ее в щеку. Это был чудесный сон. Половину денег Наоми он отдал матери – это тяготило его, как оковы, и тяготило вдвойне, потому что деньги совсем не сделали мать счастливее.
Сейчас она жила со своим младенцем в бедной комнатушке арендатора. Богатая мужнина родня никогда не жаловала ее, а теперь и вовсе не желала признавать. Ребенка родичи хотели взять к себе, но Мария не отдавала его и, осмелев от отчаяния, наговорила им резких слов. Нильс присутствовал при ссоре.
– Ты можешь вернуться к своему портному, – сказал он. – Он получил от нас сотню ригсдалеров.
– И даже больше, – отвечала Мария. – Но за них он заплатил своей жизнью.
– Нет, он был не дурак, чтобы лезть в самое пекло, – возразил Нильс. – Не думай, что он погиб, я видел его ровно год назад. Как-то вечером он явился к нам в усадьбу, и отец дал ему ассигнацию не то в сотню, не то в полсотни ригсдалеров с условием, что он покинет страну. Так что не хнычь, ты еще можешь заполучить своего муженька.
– О Господи, что ты такое говоришь, Нильс? – спросила Мария, прижимая к груди руки.
– Я говорю, что ты не смеешь бранить мою семью за то, что она не хочет тебя содержать. Ты ничего не принесла в дом, и мы ничего тебе не должны. Твой первый муж жив, вот и ступай к нему, скатертью дорога!
У Марии от его слов сжалось сердце.
– Ты – злобный звереныш, – сказала она. – Все это ложь!
И она залилась слезами.
В Оденсе прибыла проездом в Копенгаген труппа цирковых наездников.
В городе только и разговору было что об этих красавцах мужчинах и великолепных лошадях; Кристиан и другие музыканты-любители аккомпанировали их выступлениям.
Наоми и старая графиня тоже побывали в Оденсе. Обе остались довольны представлением. Единственная дама в труппе выглядела, по словам графини, настолько порядочной, что можно было без всякого смущения смотреть на ее обнаженные руки и ноги; в шляпе с развевающимися перьями, с флажками в каждой руке она стояла на спине вороного коня, который мчался с такой скоростью, точно у него выросли крылья. Мужчины были все атлетического сложения, мускулистые и сильные; самые сложные трюки они исполняли играючи, однако же ходили слухи, что среди них был один еще более выдающийся – Владислав, поляк двадцати одного года от роду. Утверждали, что его трюки были рискованными до безумия; недавно он перенес тяжелую болезнь и пока еще не мог выступать перед публикой. Впрочем, на манеж он вышел и во время парада-алле вел одну лошадь; все обратили внимание на поистине идеально красивого мужчину, чье лицо, хоть и осунувшееся и изжелта-бледное после болезни, выдавало дерзость и, пожалуй, даже высокомерие. Черные ресницы подчеркивали остроту взгляда, но вместе с тем глаза были полны безысходной печали, – возможно, этот след оставили в них недавно перенесенные страдания. Владислав вызывал у публики больше всего интереса, хотя никто еще не видел воочию его вольтижировки. Молва не скупилась на предположения: одни говорили, что он из знатного рода и по неосторожности убил свою невесту, другие утверждали, что ему пришлось покинуть родину из-за дуэли, третьи – что он оставил свой богатый дом из любви к прекрасной наезднице, которая недавно умерла. Молва превращала догадки в непреложные истины, но, будь то правда или небылицы, бледный, серьезный наездник интересовал всех.
– Да, он был очень болен, – с видом знатока подтвердила графиня, – и какой уход мог быть у этого несчастного! Только я, знающая, что такое недуг, могу понять его. Что за ужасная жизнь – не иметь крыши над головой, скитаться из страны в страну; некому даже сварить хворому овсяного супу!
– Я считаю эту жизнь прекрасной, – возразила Наоми. – Я завидую циркачке с ее флажками и перьями.
– В конце концов все они ломают себе руки или ноги. Становятся несчастными калеками, а то и разбиваются насмерть.
Наоми тряхнула головой и вернулась к мыслям о красивом циркаче. С Кристианом она не перемолвилась ни словом с того вечера, когда в гневе бросила его на постоялом дворе; теперь, пока она смотрела на наездника, Кристиан, в свою очередь, не сводил глаз с нее. По словам Плавта, любовь равно богата и медом, и желчью; сердце Кристиана было тому порукой.
Места графини и Наоми были совсем рядом с оркестровой ямой. Господин Кнепус заговорил с ее сиятельством, и Кристиану ничего не оставалось, как поклониться, однако Наоми он не сказал ни слова. В самом конце представления она нагнулась к нему и прошептала:
– Вот тебе и представился случай. Наймись в эту труппу капельмейстером и поезжай странствовать вместе с ними.
– Ну и чего я этим добьюсь? – спросил он твердым голосом, хотя сердце его тут же стало мягким, как воск; он готов был не медля поцеловать ей руку и попросить прощения за каждую свою недобрую мысль о ней.
– По крайней мере, сменишь климат, – холодно ответила Наоми и больше уже не разговаривала с ним.
Надо сказать, что тема климата всегда была наготове, когда в графском доме шла светская беседа. Сколько бы поэты и патриоты ни воспевали прекрасную Данию, Наоми утверждала, что климат здесь премерзкий. «Если бы Бог предвидел, что наша любовь к природе поднимется до таких высот, Он при творении снабдил бы нас раковинами, как улиток, и освободил от вечных забот о пальто, плащах и зонтиках, которые теперь составляют неотъемлемую часть нашей личности. У нас, как в тропических странах, год делится на дождливый и сухой сезоны, с тою разницей, что сухой сезон приходится на зиму, и тогда нас сковывает холод, а сезон дождей мы называем летом, и оно дарит нам свежие благоуханные леса, которыми мы по праву гордимся; оно создает причудливые нагромождения облаков, которые не вызывают того восхищения, какого заслуживают, потому что большинство людей не поднимают глаз столь высоко. В сентябре мы надеемся, что хорошая погода может еще установиться, но, если этого не происходит, утешаем себя, говоря, что нельзя же требовать вёдра осенью. Когда нас поливает злой дождь, мы считаем это благом. Только бы Господь послал нам хороший дождичек, а не то не видать нашим землепашцам урожая! Эту песню – в сущности, наш национальный гимн – поют каждое лето, если только земля не стоит в буйном цветении. Человека, который два или три раза в жизни обманул своего ближнего, мы справедливо называем дурным человеком; лето же, которое коварно подтачивает наше здоровье, лето, на которое нельзя положиться, ибо погода меняется каждую минуту, заставляя нас всегда таскать с собой свою раковину, мы не смеем назвать плохим. Мы должны думать о благе крестьянина, а не о собственном удовольствии, скажут мне. Но ведь крестьянин и сам всегда недоволен! Если год выдастся неурожайным, он с полным основанием восклицает: «О, Боже милостивый! В закромах у меня пусто!» Если же он соберет богатую жатву, то вздыхает: «Боже милостивый, по всей стране хлеба уродилось так много, что придется продавать его за бесценок». Вечно он хнычет и ноет! Так почему же не имеем на это права мы, любители природы, хотя любовь наша мимолетна, как радуга, – по крайней мере, та и другая на мгновение посещают нас лишь после дождя».
Таковы были воззрения Наоми. Графиня говорила, что она плохая патриотка, а господин Патерманн – что она плохая христианка. Не смея объявить ее самое антихристом, он называл свою ученицу Иоанном Богословом в юбке, имея в виду, что она предвещает скорое его пришествие. В отношении религии взгляды Наоми не были ни аскетическими, ни эллинистическими, скорее они предвосхищали воззрения «Молодой Германии»[36]36
«Молодая Германия» – литературное течение 30-х – начала 40-х гг. в Германии, вдохновленное Июльской революцией 1830 г. во Франции.
[Закрыть]; нам могут возразить, что девушка не имела ни малейшего понятия о философии, но, чтобы разделять учение этой школы, философия потребна лишь в гомеопатической дозе – было бы красноречие, остроумие, а также строгое следование одиннадцатой заповеди: не давай сбить себя с толку.
Итак, господин Патерманн бурчал под нос свое обычное «плохая христианка», а графиня пела свой неизменный гимн «доброй старой Дании» и утверждала, что наша страна лучше всех других; правда, никакой страны, кроме нашей, она не видела.
– Я не поэт, который сочиняет свои вирши, чтобы получить орден, – отвечала Наоми, – и не общественный деятель, стремящийся заслужить более высокий балл в своем политическом табеле; то, что у нас есть красивого, я признаю и, возможно, тоже бы восхищалась, если бы другие меньше усердствовали в этом.
Наоми говорила правду: она, пожалуй, больше, чем они, восторгалась зеленым благоуханным лесом, морем и курганами, поросшими цветущей ежевикой, но она знала также, что в мире существуют и более красивые места и что климат у нас ужасный.
– Ну вот и поезжай туда, где лучше, – заключала дискуссию графиня.
– Не премину, – отвечала Наоми.
Так прошло лето 1819 года; а осенью девушку действительно ожидало путешествие, правда недалекое: всего лишь в Копенгаген. Наоми предстояло жить в семье знатных родственников графа, в светском доме, посещаемом сливками общества, а также выдающимися умами, которых принято приглашать в такие дома, чтобы они развлекали гостей; подобно струям фонтанов, их остроумие и интеллект должны сверкать и переливаться на потребу публике. Наоми с особенным удовольствием предвкушала именно этот интеллектуальный десерт; она была просто счастлива при мысли о переходе от одра больной в светскую гостиную, от скучных речей господина Патерманна к спектаклям и опере. Она ведь была уже взрослая, она знала, что красива и умна; однако же ей не приходило в голову, что в том аристократическом доме гораздо лучшей опорой для нее было бы родословное древо.
– Наконец-то я начинаю жить! – ликовала Наоми. – Наконец-то я вырвалась из Бастилии!
Ради ее же собственного блага мы могли бы пожелать ей посидеть в Бастилии еще хотя бы год – но это она поймет только со временем.








