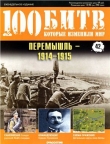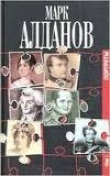Текст книги "Перья"
Автор книги: Хаим Беэр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Венский кружок.
5
Вену Ледер назвал главной ставкой в нашей игре.
– Люди ясного рационального мышления, препарируя факты холодным скальпелем логики, не без основания скажут, что никакого прока от Вены нашему движению не будет, – объяснял он. – Венцы большей частью привержены показной мишуре и ведут соответствующий образ жизни. Их рты если не напевают мелодии Иоганна Штрауса, то жуют дорогие пирожные, и, казалось бы, где они и где теория линкеусанства, вся основанная на императиве скромности и умении довольствоваться малым? Скажут, не лучше ли нам сберечь свои силы и предоставить венцев самим себе? Но что бы там ни было, Вене суждено стать духовной столицей грядущего линкеусанского царства, мощным магнитом для всех сознательных линкеусанцев, которые будут искать в этом городе отпечаток величия, оставленный благородным основоположником нашей доктрины.
Голос Ледера зазвучал так, будто он говорил издалека. В Вене разворачивалась жизненная драма Поппера-Линкеуса, в Вене им было создано его замечательное учение, в Вене навсегда закрылись его ясные очи, и там же, в распутной Вене, он, Ледер, часто бывал у великого мыслителя. Скромный дом основоположника в Хитцинге был свидетелем его человеческого подвига: полупарализованный, прикованный к своему креслу, страдавший жестокими болями Поппер не оставлял интеллектуальных трудов, и сюда, в Хитцинг, к нему приезжали лучшие люди того времени. Профессор Эйнштейн беседовал с хозяином дома о физике, бессмертный актер Александр Моисси ценил возможность поговорить с ним о сценическом искусстве, актриса Ида Роланд зачитывала Попперу знаменитые пьесы.
Но поистине незабываемым для Ледера оказался день 21 декабря 1921 года. Он был тогда в числе десяти человек, присутствовавших при бракосочетании Поппера с его помощницей Анной Кранер. Церемонию проводил раввин доктор Фойхтванг. Невестой великого человека была семидесятилетняя женщина, простая крестьянка-католичка из Бургенланда. Поппер называл ее Анерель, и она на протяжении многих лет преданно ухаживала за ним. Пожелав сделать ее своей законной наследницей, Поппер решил жениться на ней, и непосредственно перед церемонией бракосочетания Анна приняла иудаизм. В глазах у присутствующих стояли слезы, когда раввин, преклонив колени перед ложем умирающего Поппера, попросил того подписать брачный контракт. Рядом с раввином стояла Маридель, ближайшая родственница новобрачной. Одетая в нарядное платье, она скорбно осеняла себя крестным знамением.
На следующий день Ледер снова пришел навестить Поппера и узнал о его кончине. Голова великого человека покоилась на бархатной подушке, глаза его были закрыты. У тела стояли доктор Ганс Мартин, бывший личным врачом покойного, Мендель Зингер, профессор Ерузалем[181]181
Мендель Зингер (1890–1976) – писатель, публицист, сионистский общественный деятель, уроженец Галиции, жил в Вене в 1914–1934 гг. Вильгельм Ерузалем (1854–1923) – австрийско-еврейский историк, психолог и педагог, профессор Венского университета.
[Закрыть] и, конечно, две женщины, сопровождавшие Поппера на протяжении всей его жизни. Супруга профессора Ерузалема сообщила присутствующим, что Поппер, узнав о решении венского муниципалитета назначить ему почетную пожизненную пенсию, сказал, что у него осталось только одно желание – чтобы о праве называться его родиной спорили семь городов, как это было с Гомером.
– А снаружи Вена жила своей жизнью, и ей не было дела до угасшего в ее небесах светила, – продолжил Ледер. – Но возможно ли, что появление и исчезновение такого гиганта вообще не оказало воздействия на людские сердца?
Он находил подобное немыслимым и полагал, что жизнью и смертью Поппера на венцев было оказано таинственное влияние. В складки их сознания заброшены семена любви и почтения, которые непременно прорастут через какой-то срок, если не у современников Поппера, то у их потомков.
– Кто знает, возможно, решающий час настанет уже сегодня вечером, и нам нельзя его упустить! – воскликнул Ледер.
За окном начал накрапывать дождь, стекла снова запотели. Ледер расхаживал по комнате, потом подошел к окну и написал на нем пальцем свои инициалы. То же самое он сделал у второго окна. Сегодня вечером, объявил он, ему предстоит обрезать необрезанные сердца иерусалимцев и венцев[182]182
Библейское выражение «необрезанное сердце» (см., например, Ваикра, 26:41) является метафорой упрямства, непослушания, отказа признать истину.
[Закрыть]. Одновременно. Представители Старого ишува приглашены, в исключительном порядке, на встречу венского кружка. Расхожее присловье «нет пророка в своем отечестве» будет опровергнуто ныне дважды: выходцы из Вены признают учительство Поппера-Линкеуса, а иерусалимский Старый ишув, из среды которого вышел он, Мордехай Ледер, наконец-то признает величие своего земляка и собрата.
Стоя ко мне спиной, он стал снова выписывать на запотевшем стекле свои инициалы. Потом пририсовал к ним лучащийся глаз. Серое небо и кроны деревьев за окном то становились видны мне, то заслонялись его фигурой. Ледер насвистывал веселую песенку, и мне показалось, что он вообще позабыл о моем присутствии в комнате. Желая вернуть его внимание, я спросил, не подразумевает ли он под встречей венского кружка банкет, который устраивает сегодня наша соседка, мастер постижерных работ госпожа Рингель по случаю какой-то там годовщины визита императора Франца Иосифа в Святую землю.
– Откуда ты знаешь? – в голосе Ледера прозвучали удивление и обида человека, чья сокровенная тайна неожиданно оказалась достоянием посторонних. Я попытался успокоить его и стал объяснять, что госпожа Рингель и ее муж – наши соседи, что я часто бываю у них дома и лишь поэтому осведомлен о планируемом мероприятии. Ледер оставался глух к моим объяснениям. Мрачное недоверие не покинуло его, даже когда я поклялся, что покрою нашу дружбу позором, если выдам кому-нибудь его тайну.
– Ты принесешь сегодня присягу поппер-линкеусанской продовольственной армии, и будь что будет! – произнес он наконец и погрозил мне пальцем.
Мое дальнейшее уклонение от присяги, добавил Ледер, вызовет самую строгую реакцию военного совета.
6
Церемония присяги проводилась тайно, в лучших традициях подпольной революционной романтики.
Ледер сказал, чтобы я вышел в соседнюю комнату и дождался там завершения приготовлений. Из-за двери можно было расслышать, что он лихорадочно мечется, передвигает мебель, открывает и закрывает окна. Когда я был снова допущен в помещение штаба, там царила темнота, которую едва рассеивала слабая лампочка в сине-белом эмалированном абажуре. Свисавшая с потолка на длинном электрическом проводе, она почти достигала стола и освещала расстеленный на нем бархатный флаг цвета желчи и старую книгу, лежавшую на вышитом посередине флага гербе.
– Это Библия нашего движения, – объявил Ледер, бережно открывая книгу и показывая мне дарственную надпись на ее форзаце. Скачущие неровные буквы заставляли предположить, что надпись выведена дрожащей старческой рукой. Ледер предоставил мне самому помучиться над немецким текстом, а потом сообщил, что работа Поппера «Право на жизнь и обязанность умереть» была подарена ему автором с личным посвящением.
Верховный главнокомандующий продовольственной армии велел мне положить на книгу правую руку и в точности повторить за ним слова присяги:
– Я обязуюсь хранить верность… И даже отдать свою жизнь…
Голос Ледера звучал в темноте отчужденно и торжественно. Казалось, церемония близка к завершению, когда он вдруг прервал ее, выскочил в соседнюю комнату, вернулся оттуда с потрепанным чемоданом, положил его на скамью, раскрыл и, покопавшись в чемодане какое-то время, извлек из него чехол с тфилин. На давно полинявшем коричневом чехле посекшейся золотой нитью были вышиты инициалы «Д. Л.». Положив тфилин на немецкую книгу, Ледер потребовал, чтобы я повторил за ним слова присяги с самого начала.
– С добрым почином! – взволнованно сказал он, завершив церемонию.
Оказалось, я первым – после него, разумеется, – присягнул продовольственной армии, но Ледер не сомневался, что под наши знамена уже в недалеком будущем встанут бесчисленные полки. Раздвигая шторы и раскрывая ставни, он извинился, что ему пришлось неожиданно прервать церемонию и отступить от обычных официальных правил принесения присяги. Я и сам должен понимать, добавил он, что ему необходимы различные меры предосторожности. Лишь теперь, когда я возложил руку на принадлежавшие его отцу тфилин, он может быть окончательно уверен, что я никогда его не предам.
Ледер поставил книгу обратно на полку, поместил в выдвижной ящик стола бережно сложенный флаг и приподнял обитую синей клетчатой тканью крышку чемодана, намереваясь вернуть в него чехол с тфилин. Из-под крышки блеснула золотая монета.
– Это настоящее золото? – удивился я.
Ледер извлек из чемодана заинтересовавший меня предмет, оказавшийся прикрепленной к красно-белой ленте медалью. Ледер назвал ее орденом и сообщил, что его дед по материнской линии был награжден им за то, что сопровождал императора Австро-Венгрии в путешествии по Иудейской пустыне и Моавским горам[183]183
Моав – историческая область на территории современной Иордании, расположена между лежащими к северу и к югу от нее историческими областями Гильад и Эдом.
[Закрыть]. Лучи свисавшей с потолка электрической лампочки поблескивали на лысине и на носу у Франца Иосифа, чей портрет украшал аверс медали.
– Я и забыл, что ты еще ребенок, – улыбнулся Ледер. Его настроение явно улучшилось, и он сказал, что в этом чемодане многое может меня заинтересовать.
Достав старый снимок, на котором были изображены реб Довид Ледер, доктор Яаков де Хаан и Хаим Сегаль, первый муж Аѓувы Харис, он сообщил, что его отец запечатлен здесь после встречи с Верховным комиссаром. Канцелярия Герберта Сэмуэла находилась тогда в Августе-Виктории[184]184
Августа-Виктория – расположенный на Масличной горе в Иерусалиме архитектурный комплекс, включает в себя больницу и лютеранскую церковь Вознесения при ней, построен в 1907–1910 гг., назван в честь королевы Пруссии и германской императрицы.
[Закрыть], уточнил Ледер, и именно там была сделана фотография.
– А это мой отец получил от эмира Абдаллы, – сообщил он, демонстрируя мне куфию с золотым шитьем и прилагающийся к ней черный шнур. Ледер-старший удостоился этого подарка в Трансиордании: депутация ультраортодоксального еврейства отправилась туда, дабы предстать перед Хусейном ибн Али, королем Хиджаза, и известить его величество, что богобоязненные евреи Иерусалима решительно отвергают декларацию Бааль-Пеора, иначе именуемого Бальфуром[185]185
Бааль-Пеор (Бельфегор и Ваал-Фегор в русской традиции передачи библейских имен) – одно из божеств Моава и название посвященного ему места, в котором вышедшие из Египта евреи предались идолопоклонству и блуду перед вхождением в Землю обетованную. Декларацией Бальфура (1917) объявлялось о сочувствии британского правительства планам создания еврейского национального дома в Эрец-Исраэль.
[Закрыть], и изъявляют преданную дружбу своим мусульманским братьям.
На дне чемодана лежал револьвер.
– Это будет оружие продовольственной армии? – спросил я.
– Дурачок, – ответил Ледер. – Единственным оружием продовольственной армии станут руки.
Что же до револьвера, то его Ледер-старший получил от британской полиции как средство самообороны после того, как доктор де Хаан, выходивший из больницы доктора Валаха[186]186
Имеется в виду иерусалимская больница «Шаарей Цедек», учредителем которой стал в 1902 г. немецко-еврейский врач д-р Моше-Мориц Валах (1866–1957)
[Закрыть] после вечерней молитвы, был убит посланцами «Хаганы».
– В общем, всякая ерунда, – с этими словами Ледер закрыл чемодан, и я увидел на его крышке наклейку с синими полями. Такими же наклейками мы пользовались в школе, помечая своими именами тетради и указывая на них, по какому предмету эта тетрадь. На ледеровской наклейке было аккуратным почерком написано слово reliquia.
– Святые остатки, – Ледер перевел для меня иностранное слово. – Как волос из бороды Мухаммеда или платок, которым Вероника отерла пот и кровь с лица Иисуса.
Только человеческая слабость, понятная, но непростительная, мешает ему выкинуть этот чемодан вместе со всем его содержимым, признался Ледер. Затем он подвел меня к выходу, козырнул мне и, как обычно, положил конец нашей встрече словами:
– Нам предстоит еще долгий и трудный путь, мой друг!
Глава шестая
1
Ледер набросил мне на плечи прорезиненную накидку, открыл передо мной дверь подъезда и спросил, приглашен ли я на банкет, который устраивает сегодня госпожа Рингель в своей кальварии[187]187
Кальвария – принятая у католиков форма названия Голгофа, от латинского Calvariae locus, т. е. «место черепов».
[Закрыть]. Попытавшись изобразить рукой в воздухе череп, он сказал, что, если бы путешествовавшая по Святой земле византийская царица Елена оказалась во дворе у нашей соседки и увидела выставленные там деревянные головы, она без колебаний освятила бы это место и нарекла бы его Кальварией-Нотр-Дам на Волосах[188]188
Обретением многих своих реликвий в Святой земле христианство обязано паломничеству царицы Елены (ок. 250–330), матери императора Константина.
[Закрыть].
Вместе со своим супругом госпожа Рингель проживала в квартире, отделенной от нашей тонкой перегородкой. Посередине перегородки была дверь без ручки, напоминавшая о временах, когда оба помещения составляли одну квартиру. По субботам отец, стоя у этой двери, прислушивался к доносившимся от Рингелей звукам включенного радиоприемника, после чего он мог поделиться новостями с прихожанами в синагоге, которые, как и он сам, радио по субботам не включали.
Однажды он удостоился благодаря этому особенных почестей. Дело было зимой, в самом начале пятидесятых годов, и среди прихожан распространился тогда слух о том, что ночью египетский флот высадил десант в Тель-Авиве. Люди были напуганы, но отец успокоил их, сообщив, что два египетских корабля, попытавшихся обстрелять тель-авивскую набережную, были тут же отогнаны патрульными катерами израильских ВМС. Реб Симха-Зисл, неофициально считавшийся раввином нашей синагоги, обнял отца и произнес сквозь слезы:
– Время делать для Господа, нарушили Твой закон[189]189
Прямой смысл этого стиха (Теѓилим, 119:126) состоит в том, что праведным и благочестивым настало «время делать для Господа», потому что злодеи «нарушили Твой закон», однако в талмудической традиции этот стих чаще используется в иносказательной интерпретации: когда наступает время делать для Господа, Его закон может быть нарушен в той или иной частности.
[Закрыть].
Затем, успокоившись, он велел прочитать молитву за мореплавателей, прокладывающих в бурных водах тропы свои, и оказал отцу честь, вызвав его к Торе. Но, несмотря на включенный по субботам приемник Рингелей, благодаря которому отец часто оказывался долгожданным вестником в синагоге, особенной дружбы между моими родителями и жившей по соседству четой не водилось.
Бывало, по вечерам из-за перегородки доносились крики и жалобный плач, способные напугать наших случайных гостей, однако Аѓува Харис умела унять тревогу и предотвратить ненужный вызов полиции. Так уж заведено у этого дайч митн байч, немца с плеткой, говорила она: только отхлестав свою жену, он может ее приласкать, а та, словно кошка, мурлычет в ответ и раскрывает ему объятия. Мать поддакивала Аѓуве:
– Видели бы вы ее наутро после такого концерта! Нарядившись, будто невеста, она выходит во двор и развешивает сушиться свою черную амуницию.
Это зрелище мать находила зазорным, но однажды, вскоре после того как она в очередной раз оказалась его свидетельницей, ей пришлось обратиться к соседке за помощью. Напуганная исчезновением отца, который впервые отправился на поиски настоящей аравы, мать решила обратиться в полицию. И поскольку оставить меня было не с кем, она первый раз в жизни постучалась к соседям.
– Schämen macht einen Fleck! – сказала госпожа Рингель, увидев, что я прячусь за юбку матери.
И поскольку я все еще отказывался зайти к соседям, мать перевела мне эту немецко-еврейскую поговорку:
– Стыд оставляет пятна.
Если я позволю ей отлучиться, добавила она, госпожа Гелла разрешит мне сесть в парикмахерское кресло и поднимет меня в нем высоко-высоко.
Оказавшись тогда у соседей, я впервые ощутил запах паленых женских волос – в них тушили окурки – и разнообразных косметических препаратов, хранившихся в красных и зеленых флаконах. Тот же запах встречал меня на протяжении всего следующего лета, когда я прибегал к Рингелям укрыться от горечи, переполнявшей сердце моей матери. Хозяйка дома щипала меня за щеку липкими пальцами в чужих волосах, давала мне медовый леденец со стершимся от влажности изображением пчелы и объявляла, что лучшие манекенщицы Лондона и Парижа ждут меня с нетерпением. Повсюду в комнате и вокруг кресла, в котором обычно дремал, зажав булавку в губах, господин Рингель, были разбросаны иностранные журналы мод, служившие его жене источником вдохновения.
Окна квартиры и ночью, и днем были задернуты черными шторами. Госпожа Рингель, так и не привыкшая к яркости местного солнца, работала при свете торшера, длинная бронзовая ножка которого повторяла форму готической башни венского собора Святого Стефана. Подобно своему мужу, она редко вставала с места и, желая подкрепиться, наливала себе кофе из термоса и отламывала кусочек посыпанной сахарной пудрой оладьи.
На столе перед ней стояли тиски с зажатой в них деревянной головой, и такие же головы были разбросаны у Рингелей во дворе. Поверх помещавшейся на столе головы была натянута сетчатая основа будущего парика, закрепленная воткнутыми в ту же болванку длинными металлическими булавками. Извлекая отдельный волос из пряди, которую она удерживала средним и указательным пальцами левой руки, госпожа Рингель аккуратно вставляла его в ячейку основы и закрепляла там. Свою проворную работу она сопровождала напеванием веселых танцевальных мелодий.
Пребывая однажды в приподнятом расположении духа, госпожа Рингель высказала убеждение, что родители растущих в Палестине детей принесли бы своим чадам большую пользу, если бы вместо того, чтобы пичкать их хасидскими легендами и канторскими песнопениями в стиле сестер Малявских[190]190
Популярная в 50-х гг. прошлого века американская семья исполнителей канторской и народной еврейской музыки. Вместе с отцом семейства композитором и кантором Шмуэлем Малявским на сцене выступали два его сына и четыре дочери.
[Закрыть], знакомили их с европейской музыкой. О, если бы герр Рингель был мужчиной, она прямо сейчас показала бы мне, что такое настоящий вальс! Однако на господина Рингеля ее слова не произвели впечатления, и он по-прежнему сидел неподвижно в кресле, уставившись на фарфоровую тарелку с изображением набережной Дуная, по которой степенно прогуливались красиво одетые господа и дамы с раскрытыми солнечными зонтиками. Белая с синим рисунком тарелка висела на перегородке, за которой находилась наша квартира.
Когда с улицы доносился нестройный шум женских голосов, госпожа Рингель приподнималась со своего места, отворачивала край шторы и выглядывала в окно. В таких случаях их маленький двор бывал заполнен облаченными в темные одежды религиозными женщинами, кудахтавшими на идише с выраженным венгерским акцентом. Испуганная девушка, окруженная ими со всех сторон, шла, прикрывая обеими руками свои волосы под шелковой белой косынкой. Госпожа Рингель возвращалась на свое место, гасила сигарету в полоскальном тазу и велела своему супругу и мне покинуть помещение. Выказывая своим видом крайнее неудовольствие, господин Рингель вставал, брал меня за плечо, и мы с ним уходили в соседнюю комнату. Закрывая дверь, он оставлял узкую щель и шепотом говорил, что, если нам повезет, мы увидим сейчас, как золотушной невесте сбривают ее девичью косу. Увы, сгрудившиеся в комнате женщины с толстыми красными мочками ушей всегда закрывали невесту от нас, а их напев «Невеста красивая, невеста благочестивая!» заглушал стук ножниц и жалобные всхлипы постриженицы. Нервно ковыряя булавкой в зубах, господин Рингель говорил, что, если меня одолеет соблазн и я захочу изведать вкус греха, он позволит мне незаметно погладить отрезанную косу, прежде чем фрау Рингель сделает из нее парик с запахом смерти.
2
Такое времяпрепровождение, ставшее обычным для меня за весенние и летние месяцы, прервалось наутро после субботы «Нахаму»[191]191
Первая суббота после поста Девятого ава, в которую читают 40-ю главу из книги пророка Йешаяѓу, начинающуюся словами «Утешайте, утешайте народ Мой». Нахаму́ – утешайте (ивр.).
[Закрыть]. Со двора у Рингелей исчезли деревянные головы, а на двери их квартиры появился приколотый кнопками листок с надписью на корявом, изобиловавшем ошибками идише: правление венского салона извинялось перед своими почтенными клиентами в связи с временным прекращением обслуживания по случаю отъезда госпожи Рингель в летний отпуск, который закончится 19 августа.
Тем не менее, потянув дверь на себя, я обнаружил, что она не заперта, и зашел внутрь. Помещение, служившее кабинетом госпоже Рингель, неузнаваемо преобразилось. Из него исчезли парикмахерское кресло и висевшее перед ним большое зеркало. Рабочий стол госпожи Рингель, заставленный обычно деревянными головами, засыпанный булавками и прядями волос, был застелен чистой плюшевой скатертью цвета душицы с изображениями ветвисторогих оленей по краям. На столе стояла высокая ваза с золотисто-зелеными павлиньими перьями, каждое из которых украшал на конце многоцветный глазок. Царивший в комнате запах стал менее острым, и к нему подмешался аромат мази «Брассо»[192]192
Популярный некогда препарат для полировки металлической посуды и т. п.
[Закрыть].
Госпожу Рингель я с трудом разглядел в полутемной кухне, но сама она заметила меня, как только я появился в квартире, и теперь вышла мне навстречу, держа перед собой в руках, словно щит, овальный медный поднос.
– Мы должны соблюдать осторожность, – сказала она и велела мне закрыть за собой дверь.
Последовав за ней на кухню, я услышал, что хозяева дома делают все возможное, чтобы не встревожить большевистских медведей. Однако, убедившись за время нашей дружбы, что я мальчик умный и добрый, госпожа Рингель решается сообщить мне, что даже теперь, когда плоньский коротышка[193]193
Давид Бен-Гурион (1886–1973), первый премьер-министр Государства Израиль, был родом из города Плоньск, ныне на территории Польши, и отличался невысоким ростом.
[Закрыть] деспотически правит своим народом, они с Генрихом хранят верность Габсбургскому дому. Прислонив медный щит к ящику со льдом, она чуть отодвинула штору кухонного окна и позволила солнечным лучам озарить отчеканенного на нем двуглавого орла и императорскую корону над ним.
– Сохрани в своем сердце эту картину, мой мальчик! – высокопарно произнесла госпожа Рингель.
Мне с трудом удалось утаить улыбку, когда она выразила уверенность, что я впервые имею честь лицезреть великолепный герб Австро-Венгерской империи. В ящике бабушкиного стола, рядом с фотографиями ее внуков, пузырьком камфары, защищавшей, как она полагала, от полиомиелита, и письмовника, из которого она заимствовала черновики писем, отправлявшихся ею дочери Элке в Зюйд-Африку, долгие годы хранилась пачка серо-голубых облигаций выигрышного займа с отпечатанными на них ярко-синими двуглавыми орлами. Перед наступлением праздника Песах бабушка удаляла осевшую на облигации пыль, выбивая толстую пачку о подоконник. Если бы ее покойный муж не был слепым почитателем Фройма-Йосла[194]194
Фройм-Йосл – иронически переиначенное на еврейский манер имя Франца Иосифа (1830–1916), предпоследнего императора Австро-Венгрии.
[Закрыть], всякий раз говорила она при этом, имевшиеся у него деньги были бы потрачены на покупку земельного участка у Яффской дороги, доходами от которого кормились бы и мы, и наши потомки. Но свои деньги он предпочел израсходовать на приобретение цветных бумажек, негодных даже на то, чтобы обклеивать ими стены.
Госпожа Рингель вернулась к прерванному моим появлением занятию и стала бережно натирать смоченной в чем-то сером ватой распахнутые крылья орла, его золоченые клювы и когти, червленые языки, обнаженный серебряный меч в его правой лапе и золотой шар державы в левой. Через несколько дней, сообщила она, наступит 18 августа. В этот день у них дома будут отмечать тезоименитство Франца Иосифа, и супруги Рингель будут несказанно счастливы, если я, их маленький друг, зайду к ним поднять бокал в честь покойного императора.
3
Совершавшиеся у Рингелей лихорадочные приготовления не могли остаться не замеченными моей матерью, и, хотя ее сердце было охвачено тревогой в связи с частыми исчезновениями отца, она не удержалась и спросила меня, не означает ли поведение моих немецких друзей, что в Израиль возвращается их дочь Амалья. Упомянув ее, мать сообщила, что эта легкомысленная девица крутила шашни с английскими солдатами в кафе «Риц» и в находящемся напротив кинотеатра «Эдисон» ресторане Коэна, а под конец уцепилась за хлыст австралийского офицера и бежала с ним на край света.
В серванте у Рингелей мое внимание привлекла подставка для ножей с желтыми ручками, лезвия которых выглядели в ней, как струны в арфе. Тыльной стороной к ней была приставлена фотография, снятая посреди огромной ананасовой плантации: светловолосый мужчина обнимал за плечи молодую женщину. Замерев однажды у этого снимка, я шепотом спросил у госпожи Рингель, на каком континенте находятся эти удивительные, уходящие за горизонт плантации, и она, поспешно сунув мне в руки новый журнал с описанием осенней коллекции мод, заявила, что молодым людям приличествует смотреть в будущее, а не копаться в прошлом.
Тем не менее неделю спустя, когда совершавшиеся у нее дома приготовления к празднованию тезоименитства Франца Иосифа были в самом разгаре, она по собственной инициативе нарушила заговор молчания. Сняв фотографию с полки серванта, госпожа Рингель сказала, что наша дружба теперь скреплена узами тайны, и поэтому она может поведать мне, что молодая женщина на фотографии – ее единственная дочь, живущая в далеком австралийском Сиднее со своим мужем и двумя маленькими детьми.
Здесь у ее дочери не было бы никакой жизни, продолжала, заметно повысив голос, госпожа Рингель, поэтому она была совершенно права, когда искала общества людей культурных, воспитанных, деликатных – и отворачивалась от своих одноклассников, которых смешили ее молочная кожа и длинные пальцы прирожденной пианистки. И также правильно она поступила, отказавшись прислушаться к увещеваниям своей школьной учительницы, имевшей наглость называть ее Амальей, как будто она корова в кибуцном стойле, и заставлявшей девочку стыдиться своего истинного имени Елизавета Амалия Евгения, данного ей, конечно, в честь императрицы.
С этими словами госпожа Рингель перевела взгляд на портрет императорской четы. В волосы красивой женщины, стоявшей рядом со своим царственным мужем на фоне овального гербового щита, были вплетены белоснежные орхидеи. Мне было предложено убедиться в том, что горячо любимая супруга императора отличалась редкой, классической красотой. И, кроме того, взволнованно говорила госпожа Рингель, она обладала широким образованием в вопросах литературы и искусства, проявляла живой интерес к творчеству Гейне и к произведениям поэтов классической древности, простирала покрова либерализма и прогресса над своей великой страной. Увы, судьба была сурова к этой прекрасной, благородной женщине: после трагической гибели своего сына Рудольфа императрица удалилась от двора, стала путешествовать по миру и в конце концов пала жертвой бездушного итальянского анархиста, заколовшего ее на набережной в Женеве.
– Генрих! – обратилась госпожа Рингель к своему мужу, отрезавшему себе еще один кусок каштанового торта с кремом. – Не соблаговолишь ли ты рассказать нашему другу о поместье Ахиллион на острове Корфу?
Господин Рингель, как будто впав в забытье, стал расхаживать по тихим тропинкам среди мраморных муз. Он остановился у портика напротив скульптуры умирающего Ахилла, зашел в покои императрицы и вспомнил, что та укрывалась в них от мирской суеты, затем поднялся к верхним садам и стал озирать оттуда греческий город, лежащий у синего моря, в окружении оливковых рощ и цитрусовых плантаций.
На столе, среди пирожных «Снежки в шоколаде» и засахаренных фруктов, стояла пузатая бутылка вина. В ее темном стекле я увидел перевернутое отражение комнаты, слабо освещенной установленными в бронзовом канделябре свечами. Царивший в комнате полумрак создавал ощущение торжественности. В бутылочном стекле отражалась и моя собственная физиономия – вытянутое лицо мальчика, внемлющего рассказам своих друзей о далеких островах. Внезапный удар кулаком по столу заставил всколыхнувшееся пламя свечей заплясать на моем отраженном лице, а с улицы, из-за толстых бархатных штор, донеслось громкое балканское пение, перемежаемое повторяющимся выкриком: «Ясо! Ясо!» Солдаты расположенного неподалеку лагеря «Шнеллер»[195]195
Построенное в 1861 г. немецким миссионером Иоганном Людвигом Шнеллером здание Сирийского сиротского приюта в Иерусалиме в годы Второй мировой войны отошло в пользование британского мандатного правительства Палестины, а после провозглашения независимости Израиля долго использовалось его армией.
[Закрыть] совершали ночную пробежку.
Вытянутые губы госпожи Рингель блестели, она еще раз хлопнула по столу и сказала, что недалек тот день, когда варвары-греки сдадут последнее творение вдохновенной императрицы Елизаветы в аренду алчным американцам, которые устроят во дворце казино – и это ее пророчество исполнилось через несколько лет[196]196
Построенный в 1890 г. австрийской императрицей на греческом острове Керкира (итал. Корфу) дворец Ахиллион был передан в управление частной компании в 1962 г. и более двадцати лет использовался как казино.
[Закрыть]. Господин Рингель, сжимавший коленями бутылку вина, нежно ответил супруге, что его маленькая красавица не должна печалить себя вещами, над которыми мы не имеем власти, и что время токайского уже настало. С этими словами он энергичным движением вытащил пробку.
Когда тосты были произнесены и мы уселись за стол, господин Рингель обнаружил, что моя рюмка осталась полной. Я попытался объяснить, что у нас дома не пьют алкоголь и что отец даже субботнюю трапезу освящает над виноградным соком, но мои слова не возымели действия на хозяина дома. Он решительно настаивал, чтобы я выпил вина, за которое в эти дни суровой экономии и жесткого нормирования ему пришлось заплатить в магазине «Скрип» несусветные деньги. А если я боюсь опьянеть, господин Рингель заверяет меня, что мои опасения совершенно напрасны, поскольку и сам он пил в моем возрасте токайское в этот праздничный день.
О, что это был за праздник! На улицах его родного города вечерний ветер колыхал развешанные повсюду императорские флаги, в окнах домов во множестве светились зажженные свечи. Сопровождаемое оркестром и факельщиками праздничное шествие направлялось к зданию большой синагоги, где глава общины встречал его молитвой «Дарующий спасение царям», а престарелый раввин Ринк произносил проповедь, специально приуроченную к событиям праздничного дня. Как и в прошлом, и в позапрошлом году она включала в себя напоминание о том. как, посетив сей город в самом начале своего славного царствия, молодой император поцеловал свиток Торы, вынесенный навстречу ему старейшинами еврейской общины, а на вынесенные священниками кресты и хоругви взора не обратил.
Дома, продолжал свой рассказ господни Рингель, к их возвращению служанка уже успевала накрыть праздничный стол, и отец приносил из погреба запечатанную бутылку токайского, запасы которого мать пополняла по пути от Карпатских гор, где она проводила с детьми каждое лето.
Забыв о моем присутствии, супруги Рингель без устали нахваливали золотистое, цвета солнца в день жатвы, вино, сладость которого так приятно оттеняет намек на тонкую горечь. Они вспоминали золоченую императорскую карету на улицах Вены, запряженных в нее белых лошадей и окружавших ее венгерских гусар в леопардовых шкурах, а потом проклинали день, когда бездна разверзлась в Сараево.
Кажется, я уже дремал, когда пропахшую нафталином, вином и запахом догорающих свечей комнату вдруг наполнили далекие и торжественные слова песни, исполнявшейся на пьянящую, неведомую мне прежде мелодию:
Боже, царя нам превознеси,
Боже, страну нашу сохрани!
Сильный спасением в вере,
Правит он мудрой рукой!
Супруги Рингель самозабвенно пели стоя. Свое пение они сопровождали ритмичными взмахами рук, в которых держали черно-желтые флажки, и вызванное этим движение воздуха освежило мое лицо.
Когда комната погрузилась в тишину, госпожа Рингель включила электрический свет и сообщила, что они с супругом специально для меня исполнили гимн Австро-Венгрии на иврите, как пели его когда-то участники сионистских собраний в их родном городе. Поправив берет у меня на голове, она проводила меня к двери и еще раз взяла с меня обещание никому не рассказывать о том, свидетелем чему я оказался сегодня у них дома.
4
Мои друзья-монархисты очень старались не навлечь на себя гнев властей, и хотя они знали, что наслаждаются временным покоем, за которым придет неизбежное столкновение с действительностью, им и в голову не приходило, что это случится так скоро.
Придя к ним наутро следующего дня, я увидел, что у них дома все вернулось к прежнему состоянию. Господин Рингель подал мне тарелку с оставшимися от вчерашнего празднества пирожными, а госпожа Рингель уже сидела на своем обычном месте, согнувшись над обтянутой сеткой деревянной головой, в которую были воткнуты длинные, как спицы, булавки. Оторвавшись от работы, она порылась в выдвижном ящике стола и протянула мне извлеченный оттуда продолговатый конверт авиапочты с окантовкой из синих и красных ромбовидных полосок. Конверт украшали зеленые марки с изображением маленького медведя на дереве, и госпожа Рингель, указав на него пальцем, спросила: