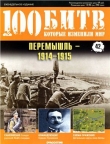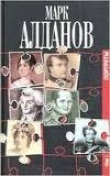Текст книги "Перья"
Автор книги: Хаим Беэр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
– Пусть отец отправит тебя в Москву лечиться у профессора Вовси и доктора Этингера, – сказала она испуганной девочке.
Единственной заступницей Пеледа оставалась тогда мать Хаима. Она взывала к совести соседей и говорила им, что они ведут себя как дикие звери в отношении человека, имеющего отличные от их убеждения. Мало того, госпожа Рахлевская убеждала окружающих, что они должны гордиться соседством с доктором Пеледом:
– Где еще в мире университетский профессор живет рядом с мелкими лавочниками, рабочими компании «Шелл» и мусорщиками?
В разговорах с моей матерью госпожа Рахлевская настаивала на том, что наша ненависть к доктору Пеледу проистекает не из его коммунистических убеждений, а из обычной для малограмотных людей иррациональной неприязни к ученым. В числе ее аргументов были и приведенные в трактате «Псахим» слова рабби Акивы, который на старости лет признавался, что в свои молодые годы, оставаясь невеждой, испытывал к мудрецам Торы настолько глубокую ненависть, что иной раз говаривал: «Попался бы мне кто из них, так я укусил бы его ослиным укусом».
Не желая, чтобы ее слова расходились с делом, госпожа Рахлевская приглашала к себе на обед детей доктора Пеледа и поощряла визиты Хаима в профессорский дом.
– Авось и к тебе прилепится что-нибудь из его мудрости, – говорила она при этом сыну. – Ведь даже служанка в доме раввина умеет дать правильный ответ на вопрос о дозволенном и запрещенном еврейским законом.
Поведение госпожи Рахлевской не нравилось ее мужу, и тот нашептывал моей матери, что благорасположенность его супруги к красному профессору проистекает «не из любви к Аману, а из ненависти к Мордехаю»[297]297
Переиначенная талмудическая поговорка «Не из любви к Мордехаю, а из ненависти к Аману», в которой упоминаются противостоявшие друг другу главные персонажи библейской книги Эстер.
[Закрыть].
– Ведь ей хорошо известно, как мне отвратительны большевики и их пособники, – жаловался господин Рахлевский. – Вот она и нашла способ отравить жизнь своему мужу без того, чтобы кто-нибудь мог отозваться о ней как о строптивой жене.
Копившееся в его сердце негодование прорвалось наружу в тот день, когда в Москве хоронили Сталина. Уже с момента публикации первого, потрясшего весь мир сообщения о том, что перенесший инсульт генералиссимус находится в тяжелом состоянии, господин Рахлевский практически не покидал нашу квартиру. Он не отходил от нашего радиоприемника, который был оснащен, в отличие от приемника у Рахлевских, сильной наружной антенной, и жадно внимал славянским голосам, доносившимся из далекой Москвы сквозь снежные облака и грозовые тучи. Время от времени московское радио прерывало трансляцию песен в исполнении армейского хора и чтение взволнованных телеграмм, составители которых в советских республиках и в братских партиях всего мира выражали надежду, что солнце Иосифа Виссарионовича никогда не сойдет с небосклона прогрессивного человечества. В эти моменты диктор зачитывал глухим металлическим голосом бюллетень о состоянии здоровья товарища Сталина, составленный советским министром здравоохранения, и ухо господина Рахлевского, и так постоянно прижатое к динамику радиоприемника, вжималось в него еще сильнее.
Мать опасалась, что наш «Филипс» не переживет этой драмы, и сердилась на господина Рахлевского, настроение которого колебалось, подобно маятнику, в зависимости от содержания очередного советского бюллетеня. Сообщение о снизившемся давлении у Сталина приводило его в глубокое беспокойство, унять которое удавалось следующему сообщению, в котором отмечались участившийся пульс и случившееся у больного серьезное нарушение сердечного ритма. Господин Рахлевский ушел от нас глубокой ночью, выразив сожаление, что «грузинский хам» потерял сознание и не может чувствовать всех мучений, которых, несомненно, достоин.
Время от времени мать предлагала ему стакан горячего чая, зная, что он наверняка тут же пожалуется, что тот совершенно остыл.
– Рахлевский, когда вы родились, вам, надо думать, налили кипятку прямо из самовара, – насмешливо говорила она.
Не обращая внимания на ее колкости, господин Рахлевский то и дело возвращался к рассказу о своих братьях, оставшихся в Советском Союзе. Один из них, бывший с юных лет преданным большевиком, был объявлен врагом народа в какую-то из первых сталинских чисток. Его сослали за Енисей и бросили там в ледяную землянку, где он находился, брошенный всеми, до тех пор, пока его не пристрелили из револьвера в затылок. Другой брат Рахлевского, Ицхак, был взят посреди ночи из своей квартиры и бесследно исчез. Мои родители, не знавшие в своей жизни больших мучений, чем голод, который им довелось пережить в последние годы турецкого правления, со страхом наблюдали за тем, как тлевшие и, казалось, почти угасшие за давностью лет воспоминания господина Рахлевского разгораются от дуновения далекого ветра.
В пятницу рано утром господин Рахлевский снова зашел к нам перед тем, как отправиться с отцом в синагогу, и немедленно включил радиоприемник. Из Москвы доносилась печальная торжественная мелодия. Сосед сидел, сдвинув брови, и пытался осмыслить значение этих звуков, а потом вдруг сорвался с места, захлопал в ладоши и заголосил:
– Близится день, близится день, который не день и не ночь![298]298
Слова из пиюта, написанного жившим в V или VI в. в Эрец-Исраэль поэтом Яннаем и входящего в число песнопений, исполняемых, по обычаю многих еврейских общин, в заключительной части торжественной трапезы седер, совершаемой вечером с началом праздника Песах.
[Закрыть]
Разбуженная его криками мать вышла из спальни, запахнувшись в халат, и сердито спросила у господина Рахлевского, с чего это он празднует Песах, когда только что миновал Шушан Пурим.
– Сдох, собака! Сдох, собака! – прокричал наш сосед сквозь душившие его смех и слезы.
Мать поинтересовалась у господина Рахлевского, не боится ли он, что его радость окажется преждевременной, но сосед успокоил ее, выразив уверенность, что Москва не стала бы транслировать Героическую симфонию Бетховена, если бы «не сгинул угнетатель, не пресеклась его ярость»[299]299
Цитата из библейской книги пророка Йешаяѓу, 14:4.
[Закрыть].
Ровно в шесть часов утра трансляция торжественной музыки была прервана, и в эфире раздался надорванный горем голос советского диктора.
– Юрий Левитан! – прошептал узнавший его господин Рахлевский. – Уж если его разбудили так рано, значит, все там решилось.
Выслушав официальное сообщение о смерти «великого соратника Ленина и гениального продолжателя его дела», отец с господином Рахлевским отправились в синагогу, но прежде, чем они успели удалиться от нашего дома, сосед спохватился:
– Надо бы захватить с собой угощение. Устроим по такому случаю трапезу.
– Выпьем за вознесение его души, – с усмешкой согласился отец.
До самой субботы, о приближении которой возвестил гудок, доносившийся к нам от бань в Батей Оренштейн[300]300
Батей Оренштейн, или «Дома Оренштейна» – религиозный квартал в Иерусалиме, основанный в 1908 г. и названный в честь человека, пожертвовавшего на его строительство все свои средства.
[Закрыть], господин Рахлевский не отходил от нашего радиоприемника. Он с нескрываемым наслаждением слушал всхлипывающих дикторш, когда те зачитывали приходившие в Москву телеграммы со словами глубокого соболезнования советскому правительству и народу. Сразу же по окончании субботы господин Рахлевский снова появился у нас, чтобы присоединиться к сонму трудящихся, ждавших у входа в Колонный зал своей очереди проститься с вождем. Соседу нравились описания тела покойного, облаченного в парадный мундир, с орденскими знаками на груди. Он как будто вдыхал спертый, перенасыщенный ароматом тысяч цветов воздух Колонного зала и с удовольствием видел перед своим мысленным взором «бесконечный людской поток» на морозных улицах мартовской Москвы.
В Иерусалиме тоже шел снег, но пребывавший в радостном возбуждении господин Рахлевский едва успевал оттирать пот со лба. О миллионах людей, шедших бросить последний взгляд «на усатое чудовище, расфуфыренное, как уличная шалава», он говорил, что они хотят убедиться, что ангел смерти действительно посетил Кремль. А в понедельник господин Рахлевский поспешил к нам, чтобы послушать прямой репортаж о похоронах Сталина.
Иерусалимская погода резко переменилась к тому времени, сухой ветер принес из пустыни тяжелый зной, но дома у нас свистела московская пурга, раздавался звон кремлевских колоколов, грохотали траурные залпы сотрясавших Красную площадь артиллерийских орудий. Когда слово для прощания с вождем было предоставлено Маленкову, наш сосед открыл Танах и стал напевно, с выражением читать пророчество Йешаяѓу о падении Ѓейлеля бен-Шахара[301]301
В 14-й главе книги Йешаяѓу приводятся слова, осуждающие царя Вавилона, упомянутого там как Ѓейлель бен-Шахар. Это выражение может быть переведено как «блистающий сын зари», и в латинской Библии оно передано словом «люцифер», означающим «светоносный». В позднесредневековой католической литературе Люцифер стал синонимом сатаны.
[Закрыть].
– Видящие тебя всматриваются, пристально глядят на тебя: он ли колебал землю, сотрясал царства? – господин Рахлевский читал слова древнего пророчества так, как читают их в синагоге в одну из семи суббот утешения[302]302
Семь суббот, следующих после поста Девятого ава, установленного в память о разрушении Иерусалимского храма.
[Закрыть]. – Выброшен ты из могилы своей подобно ростку негодному, в одежде убитых, пронзенных мечом.
Наш сосед был уверен, что заключительная часть пророчества Йешаяѓу исполнится так же, как исполнилась первая. Недалек тот день, предсказывал он, когда один из наследников Сталина вышвырнет из мавзолея его забальзамированное, накрашенное и напудренное тело.
Торжественную атмосферу момента нарушила госпожа Рахлевская, внезапно ворвавшаяся к нам в дом и попытавшаяся сунуть своему мужу ворох счетов и квитанций.
– Я не знаю, сколько мы должны заплатить компании «Осем», – пожаловалась она моей матери. – Он уже неделю не делает ровным счетом ничего, только читает газеты и просиживает у вашего радиоприемника, а я тем временем загибаюсь в лавке одна. – Затем, уже обращаясь к мужу, она прокричала: – Скоро у тебя будут еще одни похороны, и на этот раз хоронить придется меня! Возвращайся в лавку немедленно!
– Оставь меня в покое, – отвечал господин Рахлевский. – Я должен дослушать речь Берии.
– Ты сейчас будешь слушать речь своего домашнего Берии! Будешь слушать свою жену, на которую взвалил всю работу, словно она не жена тебе, а какое-то вьючное животное!
С этими словами госпожа Рахлевская вцепилась в рукав своего мужа и потянула его к двери, но тот оторвал от себя ее руки и, подтолкнув жену к выходу, спросил у нее, не для того ли он должен явиться в лавку, чтобы она смогла подать скорбную трапезу доктору Пеледу, который наверняка будет теперь справлять семидневный траур.
– Крутые яйца ему ты уже сварила? – язвительно вопрошал господин Рахлевский. – Сухие лепешки испекла?
– Не радуйся падению врага твоего, Авраам, – с осуждающей, почти родительской интонацией отвечала мужу мать Хаима. – Убеждения доктора Пеледа всем хорошо известны, но сам он, как ты, вероятно, знаешь, является человеком любезным и деликатным. Он и мухи не обидит, и нет никакой нужды навешивать на него груз преступлений Сталина.
– О, наивная иерусалимка! – воскликнул господин Рахлевский. – Что ты вообще понимаешь? Ведь у вас тут, в Иерусалиме, после ухода турок и доносчиков толком не было, кроме Менделя Кремера[303]303
Иерусалимский фармацевт и журналист, известный своими неблаговидными связями с османской, а затем британской полицией; умер в 1938 г.
[Закрыть]. А у меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю этих любезных и деликатных людей, которые, как ты полагаешь, мухи не обидят! Один только Владимир Коган чего стоил! Незадолго до того, как мне удалось бежать из России, в Киеве он ворвался ночью к нам в дом. В Овруче я знал этого молодого человека как сына главы местной ешивы, но тут он предстал передо мной следователем ЧК, облаченным в кожаные штаны и черкеску. И какой безжалостный, какой отчужденный взгляд был у него тогда!
– Что ты упрямишься как мул? – прервала его супруга. – Может быть, для него это был единственный способ предупредить тебя об опасности.
Казалось, она использует аргумент, уже не раз звучавший в их спорах.
– Я знаю их, как свои пять пальцев! – отвечал жене господин Рахлевский. – Эти евреи суть жесточайшие и хитрейшие из слуг сатаны! И вот он, – здесь наш сосед указал на росший перед домом философа куст страстоцвета, – именно он первым побежит доносить на тебя в НКВД, если сюда когда-нибудь явится Красная армия.
– Паскудник!
Бросив в лицо мужу одно из необычных ругательств, которыми тот сам часто пользовался, госпожа Рахлевская все еще растерянно стояла у двери, сжимая в руках квитанции компании «Осем».
Ее супруг уже намеревался вернуться к приятному прослушиванию доносившихся из Москвы звуков траурного салюта и маршей Шопена, когда вдруг увидел, что в открытой по случаю неожиданной в это время года жары двери соседского дома появился сам доктор Пелед. Тщательно причесанный, с красной гвоздикой в верхней петле рубашки, он распрямил спину и вышел со двора, направившись в сторону лавки Рахлевских.
– Иди-иди, твой евсек[304]304
По названию Евсекции (Еврейской секции), действовавшей в составе РКП(б) – ВКП(б) в 1918–1930 гг. и проявлявшей особенный энтузиазм в преследовании сионизма и иудаизма.
[Закрыть] тебя ищет, – сказал господин Рахлевский жене. – Поминальную свечу пошел покупать.
Четыре года спустя доктор Пелед, сопровождаемый, как обычно, сердитыми взглядами соседей и проклятиями госпожи Адлер, зашел в лавку Рахлевских. Дождавшись ухода всех покупателей, он неуверенно поинтересовался у хозяев, не испытывают ли они нужды в оберточной бумаге, и уже в тот же день доктор Пелед и его сын снесли к лавке Рахлевских несколько ящиков, набитых запыленными печатными томами и рукописями. До вечера у господина Рахлевского не было времени, чтобы заняться этой макулатурой. Лишь закончив свои обычные дневные труды, он обнаружил, что сосед-философ удалил из своей библиотеки труды Ленина и Сталина и большое количество посвященной им литературы.
– «Коль ѓа-ам»[305]305
«Коль ѓа-ам» («Голос народа») – выходившая в 1937–1975 гг. ежедневная газета на иврите, печатный орган Коммунистической партии Палестины и затем Израильской коммунистической партии.
[Закрыть] опубликовал наконец секретный доклад Хрущева двадцатому съезду, – ехидно бросил супруге господин Рахлевский. – А ты, кажется, до сих пор все так же наивна.
– Только дураки никогда не меняют своего мнения, – ответила ему жена и вышла из лавки, хлопнув дверью.
Тому, кто заглянул бы тот день в лавку наших соседей, показалось бы, что он очутился на продовольственном складе в удаленном советском колхозе сразу после того, как туда завезли из райцентра новую партию книг для крестьянской библиотеки.
Затворив ставни, господин Рахлевский всю ночь орудовал ножом, вырезая из переплетов и рассекая на отдельные листы толстые книжные блоки. Фотографии и цветные картинки, на которых Сталин осматривал новый танк, держал на руках розовощекую девочку или внимал поучениям Ленина, он яростно резал на куски. Наблюдательные клиенты господина Рахлевского еще долго затем обнаруживали на выдававшихся им счетах за покупку край уса, тяжелую руку с курительной трубкой, ряд пуговиц с военного френча и другие детали рассеченного Иосифа Виссарионовича.
Наутро господин Рахлевский разнес подготовленные им за ночь пачки оберточной бумаги по всем бакалейным лавкам в нашей округе, и их владельцы сворачивали из нее впоследствии кульки для маслин, маринованных огурцов и сыпучих продуктов.
– Черт возьми, – приговаривал господин Рахлевский по-русски, завороженно наблюдая, как нарезанная им оберточная бумага расползается от влаги, а напечатанные на ней буквы кириллицы теряют узнаваемость очертаний. – Они там, в Советском Союзе, даже бумагу делать как следует не научились.
Чаще всего его жалобы доводилось выслушивать Хаиму, помогавшему отцу в лавке.
Ровно это было предсказано Ледером, когда мы впервые встретились с ним у располагавшегося в здании «Сансур» магазина русской книги, за две недели до вселения доктора Пеледа в соседнюю с нашей квартиру. Но самому Ледеру не было суждено узнать о том, как осуществилось его пророчество.
6
Ледер испытывал сильнейшее отвращение ко всему «красному».
Первого мая мне довелось оказаться вместе с ним возле кинотеатра «Тель-Ор», у старого здания «Ѓистадрута», из громкоговорителей которого раздавалось пение «Интернационала». Ледер, скривив лицо, заявил, что только что услышанные нами слова «проклятьем заклейменный» он относит к самим коммунистам, поскольку именно они способствовали своим поведением приходу Гитлера к власти в Германии. Если бы после смерти Фридриха Эберта в 1925 году, настаивал Ледер, они не выдвинули своего шутовского кандидата и не пошли на сотрудничество с другими общественными силами, Гинденбург не был бы избран президентом, а это, в свою очередь, могло блокировать последующую победу нацистов[306]306
Фридрих Эберт (1871–1925) – немецкий социал-демократ, первый рейхсканцлер Германии после Ноябрьской революции 1918 г. и первый рейхспрезидент Германии с 1919 г. Во втором туре президентских выборов 1925 г. соперниками Гинденбурга (48,3 % голосов) были Вильгельм Маркс (45,3 %), кандидат от т. н. «Народного блока», объединившего СДПГ, Немецкую демократическую партию и Германскую партию Центра, и лидер КПГ Эрнст Тельман (6,4 %). В дальнейшем, 30 января 1933 г., Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером Германии и поручил ему формирование правительства.
[Закрыть].
Сплюнув в сторону красных флагов, которыми был завешан длинный балкон, Ледер сказал, что из-за восторгов по поводу Сталинграда Сталину склонны забывать этот грех и, хуже того, прием Риббентропа в Кремле. Заключение советско-германского пакта Ледер считал преддверием Второй мировой войны, унесшей жизни миллионов евреев.
Когда я сказал ему, что его нападки направлены не по адресу, Ледер возмутился. Ударив кулаком в окно кооперативной столовой, закрытой по случаю международного праздника трудящихся, он заявил, что партийная пропаганда МАПАЙ уже успела отравить мой юный мозг, создав у меня уверенность, что между социализмом и коммунизмом имеется принципиальная разница.
– Та же тетя в другом капоте, – вынес сердитый вердикт мой спутник и немедленно сообщил, что он еще в Вене на своей шкуре изведал, кто такие социал-демократы. Ледер снова вспомнил первомайское шествие, свидетелем которого оказался вскоре по приезде в австрийскую столицу и в первых рядах которого заметил мою учительницу госпожу Шланк. Многие из полицейских и солдат поддерживали тогда социал-демократов. С красными цветами в лацканах своих мундиров они приветствовали участников праздничной демонстрации возле казарм Россауэр. И что же? Всего через несколько лет они без колебаний стреляли в участников июльского восстания 1927 года[307]307
В ходе вооруженных столкновений между левой военизированной организацией «Республиканский шуцбунд», полицией и действовавшими на стороне полиции боевыми отрядами националистов из организации «Хеймвер» в Вене летом 1927 г. были убиты 89 и ранены около 600 человек, причем основное число погибших составили левые демонстранты и шуцбундисты.
[Закрыть].
– Только красным быкам, одержимым идеей рабочего сионизма, могло прийти в голову, будто пролетарии всех стран в самом деле способны стать братьями, – уверенно заявил Ледер. – Они и думать не хотели, что антисемитизм окажется сильнее любой попытки замалевать его лозунгом братства народов. Но рабочее движение в Австрии и созданный им «Шуцбунд» быстро распались. Его члены стали массово переходить на сторону нацистского подполья, предавая своих прежних еврейских товарищей и объясняя свой выбор ненавистью к реакционной буржуазии «Хеймвера».
Мимо нас с большим шумом проехал грузовик с откинутыми бортами, кузову которого, усыпанному соломой и уставленному снопами пшеницы, было придано сходство с гумном. Одетые в вышитые белые рубахи юноши и девушки били в бубны и танцевали посреди этого гумна с несомненным риском для жизни. Грузовик направлялся к месту, у которого позже, под вечер, должно было начаться праздничное первомайское шествие.
Я смотрел на танцоров в грузовике, разинув рот от восторга, и разочарованно наблюдавший за моей реакцией Ледер заключил, что еврейским воспитанием в нашей стране уже осуществлен идеал «кто был ничем, тот станет всем», о котором поется в «Интернационале». Понять его было трудно, но он поспешил объяснить свою мысль:
– Никто здесь не хочет учить уроки прошлого, и ты сам тому доказательство. Когда я рассказывал тебе о совсем недавних событиях, которые еще будут иметь последствия и для твоего личного будущего, и для будущего последующих поколений, ты смотрел на меня примерно как баран на новые ворота. Всё здесь маньяна[308]308
Завтра (исп.).
[Закрыть], все завтра. Вы ничего не хотите решать сегодня, все откладываете на будущее.
Последнюю фразу Ледер выкрикнул, глядя в сторону удалявшегося грузовика.
Социалисты и коммунисты, настаивал мой собеседник, увязывают социальные проблемы со сложными научными теориями, очевидно полагая, что это позволит им откладывать решение проблем на неопределенно долгий срок. В отличие от них Поппер-Линкеус был озабочен изысканием быстрых практических решений. Абстрактные идеи не интересовали его, поскольку он вообще думал не об идеологии, а о людях и об их желании освободиться.
– И усвой себе, что коммунисты ненавидят Поппера-Линкеуса из-за того, что в его сочинениях содержится резкая критика Маркса, – с этими словами Ледер старательно растоптал листовку, которую нам вручила девушка в синей рубашке «Ѓа-Шомер ѓа-Цаир»[309]309
«Ѓа-Шомер ѓа-Цаир» («Юный страж») – сионистское молодежное движение, создано в австрийской Галиции в 1913 г., впоследствии приобрело и долго сохраняло приверженность марксистской идеологии.
[Закрыть].
Нарушив однажды родительский запрет и отправившись вместе с Хаимом к нашему соседу-философу, я изложил ему усвоенные мною от Ледера обвинения в адрес коммунизма.
Вопреки предостережениям моей матери, в комнате у доктора Пеледа не висело ни красного флага, ни портретов отцов-основателей марксистской теории и советского государства, но книг у него действительно было много, а в редких просветах между книжными полками на стенах висело несколько картин и рисунков. В углу комнаты стоял простой письменный стол с зеленой вазой на нем, в вазе покоилась ветка акации. Пол был застелен ковром, и когда мы зашли, доктор Пелед лежал на нем. На груди у него сидела его маленькая дочь, которую он смешил телячьим мычанием.
Хозяин квартиры велел обращаться к нему по имени, и беседа с ним оказалась настолько приятной, что я осмелился задать доктору Пеледу волновавший меня вопрос:
– Амирам, а правда, что вы ненавидите Поппера-Линкеуса?
– Кто это «мы»?
– Коммунисты, – ответил я и тут же почувствовал себя неловко.
– А почему ты решил, что я коммунист?
Хозяин понял мою неловкость и избавил меня от необходимости отвечать на заданный вопрос. Вместо этого он сказал, что, если бы я оказался в Музее революции в Москве, то обнаружил бы там целый зал, посвященный Попперу-Линкеусу. И в этом, считал доктор Пелед, можно увидеть жест признательности известному мыслителю, которого тот не удостоился ни в своей родной Австрии, ни в Государстве Израиль, считающем себя родиной всех евреев.
– В Советском Союзе Поппера-Линкеуса считают одним из выдающихся ранних мыслителей, определивших необходимость удовлетворения нужд человека на основе коллективизма, – продолжил сосед.
Его речь приобрела тональность лекции, звучащей с университетской кафедры на факультете философии, но он сразу же оценил комичность сложившейся ситуации, уложил ребенка в люльку, сел к письменному столу, дунул несколько раз на высохшие шарики цветов акации и спросил, откуда у такого подростка, как я, интерес к Попперу-Линкеусу.
Ледер, когда я спросил его о почете, который оказан в Москве нашему замечательному учителю, кивнул и сказал, что читал об этом в какой-то газете и что это, в сущности, не должно удивлять, ведь коммунистам легко демонстрировать уважение к умершему мыслителю. Они украшают свой иконостас именами Спартака и братьев Гракхов[310]310
Братья Гракхи – устоявшееся именование двух древнеримских реформаторов II в. до н. э. Тиберия Семпрония и Гая Семпрония Гракхов.
[Закрыть], вот и Поппер-Линкеус пригодился им в этом качестве. Но здесь Ледер спохватился и привел совершенно иное объяснение услышанному. Уважительное отношение Москвы к Попперу-Линкеусу – очередная ложь, распространяемая советским агентством ТАСС, чтобы посеять сомнения в душах истинных гуманистов, выступающих против диктатуры пролетариата и тех жестоких методов, к которым коммунисты неизменно прибегают с тех пор, как впервые ступили на историческую арену.
– У лжи нет ног, мой ученый друг, поэтому она летает[311]311
На иврите слово «летает» (тас) созвучно названию агентства ТАСС.
[Закрыть].
Ледер был очень доволен своей остротой. Насладившись ее эффектом, он бросил поспешный взгляд в сторону входа в библиотеку, желая убедиться, что ни моя мать, ни Аѓува Харис не выследили нас здесь.
7
Читальный зал библиотеки «Бней Брит» на Абиссинской улице стал местом наших тайных встреч, когда моя дружба с Ледером перешла на подпольное положение. Ледер, с нетерпением ждавший ответа доктора Швейцера на отправленное тому предложение встать во главе линкеусанского государства, не тратил времени зря. Обложившись книгами по экономике, праву и истории, он сочинял черновой вариант конституции задуманной им державы. Так, во всяком случае, он утверждал. Приходя в библиотеку, я заставал своего друга погруженным в чтение и грызущим кончик паркеровской ручки. Подчиняясь его указанию, я не подходил к нему слишком близко, а садился через два места от него и делал вид, что занимаюсь приготовлением уроков.
В вытянутом прямоугольном зале с толстыми каменными стенами даже в жаркие дни стояла приятная прохлада. Книжные стеллажи возвышались вдоль стен до самого потолка, и если посетитель хотел снять книгу с одной из верхних полок, ему приходилось взбираться под потолок по деревянным ступеням тяжелой лестницы, выдвинуть которую из угла, где она обычно стояла, удавалось только вдвоем. Смягченный, рассеянный свет проникал в помещение через высокие окна, забранные витыми решетками. В центре читального зала располагался длинный стол, по обе стороны которого стояли массивные деревянные стулья с высокими спинками. На них там и сям рассаживались школьники, шептавшиеся и пересмеивавшиеся между собой по ходу приготовления домашних заданий. Их некому было призвать к порядку, поскольку единственная работница библиотеки была занята обменом книг в абонементном зале, большинство посетителей которого составляли молодые чиновницы, работавшие в расположенных на улице Яффо учреждениях. Они заходили в библиотеку в конце рабочего дня и подбирали себе любовный роман потолще в надежде скоротать за чтением приближавшийся вечер. А мы с Ледером тем временем предавались нашим конспиративным занятиям.
Свои рассуждения Ледер, как правило, начинал с упоминания Великой хартии вольностей или конституции США, но его мысль все время возвращалась к письму, которого он с нетерпением ждал. Прошло уже полтора месяца с тех пор, как он положил адресованный доктору Швейцеру конверт на зеленый каменный прилавок главпочтамта, и Ледера начинало одолевать отчаяние, под действием которого он то сердился на себя самого, то загорался неприязнью ко всем окружающим. Иногда он ругал себя за то, что пожадничал и не отправил письмо заказной почтой, с уведомлением о вручении адресату, и вот теперь, рисовалось его воображению, адресованный Альберту Швейцеру конверт оказался в брюхе у аллигатора в одном из болот в верхнем течении реки Огове. В других случаях он сокрушался, что позволил почтовому чиновнику наклеить на конверт цветную марку «Освободи Иерусалим!» с изображением стен Старого города на горе. Какой-нибудь пигмей наверняка захотел прилепить эту марку к своему боевому наряду, сетовал мой друг, а если бы на конверте была обычная марка, отправленное из Иерусалима письмо давно бы нашло своего адресата. В числе одолевавших Ледера подозрений была также и мысль, что нанятые доктором Швейцером помощники из числа местных жителей по собственному произволу не передали письмо своему господину.
Подобно простодушному верующему, который всегда найдет способ объяснить происхождение зла кознями сатаны, своеволием ангелов и грехами людей, но не собственной волей Бога, Ледер не мог допустить, что, ознакомившись с его посланием, доктор Швейцер решил не отвечать на него. Изливая свою горечь на всех подряд, мой друг все так же благоговейно отзывался об эльзасском враче, не забывая отметить, что среди миссионеров часто встречаются прекрасные люди. В этой связи Ледер не раз с благодарностью вспоминал двух католических монахинь, приехавших в Иерусалим в конце мировой войны и посвятивших себя излечению трахомы древними методами китайской медицины. Заговорив о них, Ледер, случалось, надолго погружался в свои мысли. По его словам, эти монахини были первыми людьми, говорившими с ним на равных, просто и уважительно, без обычных для иерусалимцев перепадов между заискиванием и спесью. Ледер считал, что благодаря им у него открылись глаза на мир.
Ответ из Ламбарене пришел через четыре месяца после отправки письма доктору Швейцеру.
Придя в библиотеку в тот день, я застал Ледера в подавленном состоянии. Перед ним не громоздились обычные груды книг, лишь голубой конверт авиапочты лежал на пустом столе.
– Пришел ответ? – неуверенно спросил я у Ледера.
– Вот.
Он протянул мне конверт, на который была наклеена черно-зеленая марка с изображением цапель, выгибавших свои длинные шеи посреди африканских джунглей. Я осторожно извлек из конверта лист тонкой полупрозрачной бумаги, плотно исписанный мелким почерком. В его правом верхнем углу были от руки написаны имя и адрес Альберта Швейцера, а с левой стороны листа и чуть ниже – имя и адрес Ледера. Мне удалось разобрать лишь первую строчку «Lieber Herr Ledder», после чего мой друг забрал у меня письмо и зачитал мне его, переводя каждую фразу.
В начале своего послания доктор Швейцер извинялся за задержку с ответом, объясняя ее тем, что речное судно, доставившее мешки с почтой из Либревиля, привезло в Ламбарене так же и значительную группу африканцев, страдавших трипаносомозом. Врач выражал уверенность, что его адресат знает, как долго и трудно лечится эта тропическая болезнь. На протяжении шести недель он был целиком поглощен уходом за страждущими, и лишь теперь, когда болезнь отступила, у него появилась возможность ответить на давно полученное письмо.
Доктор Швейцер тепло отзывался о Поппере-Линкеусе и вспоминал, что скупой на похвалу Зигмунд Фрейд называл его одним из своих духовных учителей. Находя, что Поппер-Линкеус вполне свободен от негативных эффектов психологического вытеснения, Фрейд характеризовал его как одного из немногих совершенно беззлобных и нелживых людей. Далее доктор Швейцер с похвалой отзывался об идее создания продовольственной армии и особенно отмечал важность того, что эта идея исходит из Иерусалима, уже подарившего миру Спасителя. Но вслед за тем доктор Швейцер писал, что, подобно древнему еврейскому мудрецу, о котором он слышал когда-то от страсбургского раввина, сам он тоже решил прожить свою жизнь в небольшом, очерченном им для себя кругу[312]312
Здесь, очевидно, имеется в виду Хони ѓа-Меагель, знаменитый праведник и чудотворец I в. до н. э., о котором в Талмуде рассказывается, что однажды в засушливый год, когда к нему обратились за молитвенной помощью, он очертил на земле круг, встал посреди него и сказал, обращаясь к Всевышнему, что не выйдет из этого круга до тех пор, пока Тот не пошлет Своим детям дождь и благословение.
[Закрыть]. И, конечно, теперь, на склоне лет, он не сможет принять сделанное ему лестное предложение и не оставит своих несчастных больных, которые так нуждаются в его помощи здесь, между морем и вечными тропическими лесами.
Ледер сложил письмо, сунул его в карман и погрузился в глубокое уныние.
8
В последующие дни состояние Ледера становилось все хуже. Он не читал ничего, кроме газет, и постоянно ругал врачей, утверждая, что, если общество не сумеет их обуздать, землю заполнят больницы, в которых будут покоиться, как в цветочных горшках, люди-растения, а продовольственной армии придется сосредоточить все свои силы на производстве удобрений и сосудов для этих диковинных растений. Имя доктора Швейцера он больше не упоминал.
Но прошло еще какое-то время, и оказалось, что жгучая обида, нанесенная ему доктором, не заставила Ледера отказаться от своей мечты и сделаться обыкновенным человеком. Напротив, она окрылила его, освободила от груза прошлого и связанных с ним обязательств. Ледер ощутил себя вправе усвоить новое мировоззрение, которое, как он полагал, было способно вывести из тупика идею линкеусанского государства. Он снова сидел, обложившись книгами, был охвачен деятельным настроением, и в глазах его загорелся огонь близкой к осуществлению утопии.
– Ни вегетарианство, ни эсперанто нам не нужны! – ликовал Ледер, предаваясь ощущению новой свободы. – Нечего цепляться за авторитеты! Нашей былой инфантильности положен конец.
Мой друг заключил, что все его прежние действия были беспомощным воспроизведением абстрактных формул и нелепой приверженностью церемониалу. Эти формулы, считал он теперь, не имеют ничего общего с реальностью нашего жестокого времени и с его главным принципом «побеждает сильнейший».
– Ведь что я по своей глупости думал? – размышлял Ледер вслух. – Что мы изменим существующий порядок вещей, а стоящие по другую сторону баррикад интересанты – все эти производители мороженого, модные портные, продавцы табака и их святое стадо – будут любезно нам улыбаться и пощипывать нас за щечку.