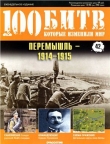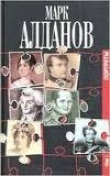Текст книги "Перья"
Автор книги: Хаим Беэр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Много лет спустя, уже будучи взрослым и даже женатым, я решился спросить у матери, что произошло с ней в тот день, когда отец исчез во второй раз.
– Так ты не спал, когда мы разговаривали с Цивьей? – спросила она с запоздалым упреком.
– Не спал.
– Вечером того дня у меня случился выкидыш.
6
О том, чем завершилась история новообретенного тхелета, отец рассказал мне, когда мы шли с ним ночью вдвоем на гору Сион, чтобы благословить там Творца по случаю завершения солнечного цикла.
Древними астрономами было установлено, что один раз в двадцать восемь лет, в выпадающий на среду день весеннего равноденствия, восходящее солнце возвращается в ту самую точку на небосводе, в которой оно находилось в момент своего появления при сотворении мира.
Отец с большим волнением ждал наступления этого дня. Ему дважды доводилось видеть солнце в момент завершения двадцативосьмилетнего цикла, рассказывал он любому, кто был готов его слушать. В первый раз – трехлетним ребенком, когда он сидел на плечах у своего отца, поднявшегося на крышу синагоги «Хурва». Во второй раз он стоял со своими друзьями на горе Скопус, среди строившихся тогда зданий Еврейского университета, и вместе они наблюдали появление солнечного диска над горами Моава, за Иудейской пустыней. Теперь такая возможность была дарована ему в третий раз.
– А в четвертый раз, – тихо приговаривал отец, – в четвертый раз я уже буду над солнцем.
В ту ночь, со вторника на среду четырнадцатого нисана, отец не ложился вовсе. Он отгонял от себя сон черным кофе и сигаретами, а в два часа зажег свет, погладил меня по лицу и сказал, что, если я не хочу пропустить восход солнца, нам нужно отправляться в дорогу.
Зеленоватый свет уличных фонарей пробивался сквозь заслонявшие их кроны деревьев и отбрасывал на каменные стены домов прозрачные хвойные тени, шевелившиеся с каждым дуновением ветра. Отец держал меня за руку.
– Запомни навсегда эту ночь, – говорил он. – Запомни ее, и это воспоминание еще не раз вернется к тебе. Например, уже в армии, когда ты будешь приставлен охранять какой-нибудь склад боеприпасов, в Араве[244]244
Арава – равнина, простирающаяся от южной оконечности Мертвого моря до Эйлата и Красного моря, вдоль границы между Израилем и Иорданией.
[Закрыть] или где-то еще. И вот ты ходишь у этого склада, одетый в шинель, с тяжелой винтовкой на плече, глаза слипаются… Или, кто знает, ты выйдешь однажды ночью из дома и станешь бесцельно бродить по городским улицам, надеясь, что их пустота поможет тебе забыть о болезни, укрыться от подступивших страданий. А меня уже не будет в то время рядом с тобой…
Мы вышли на открытую местность, где нам в лицо ударил холодный ветер. Отец снял с себя и накинул мне на плечи пиджак. Его полы достигали моих щиколоток, и отец ободрил меня, сказав, что в следующий раз я точно так же сниму с плеч пиджак и накрою им своего сына, когда мы пойдем с ним произносить благословение на обновленное солнце.
Никогда больше мы не были с отцом так близки. Он, казалось, забыл о визите инспекторов Министерства нормирования в наш дом и находился в своем прежнем расположении духа. Был бодр, озорничал, перепрыгивал через плиты мостовой, рассказывал одну историю за другой.
Когда мы перешли по мосту долину Еннома и миновали старый, давно не дававший воды турецкий сабиль[245]245
Сабиль – вид фонтана в восточной архитектуре, обычно представляет собой отдельно стоящее или пристенное сооружение, часто бывает украшен резьбой.
[Закрыть], на нас злобно залаяли собаки. Брошенные своими хозяевами, они были привязаны во дворе находившейся в долине под нами ветеринарной лечебницы. Испуганный их яростным лаем, я прижался к отцу, а он, обняв меня, напевно произнес слова мудрецов из трактата «Брахот»:
– С какого времени читают Шма по утрам? С того момента, когда можно уже различить между цветом тхелет и белым. Рабби Акива говорит: между ослом и онагром. Рабби Меир говорит: между волком и собакой.
В залитой молочным туманом долине справа от нас можно было вообразить очертания древнего тофета, в раскаленное чрево которого некогда вбрасывали приносимых Молоху в жертву детей. На юго-западном углу стены Старого города возвышалась обложенная мешками с песком сторожевая позиция, и стоявший на ней иорданский легионер должен был счесть безумцами евреев, шедших в столь ранний час неведомо куда. Что выгнало их ни свет ни заря из домов и теплых постелей?
Мы направились вверх по тропе, ведущей на гору Сион, и отец рассказал мне тогда, чем закончилась история с тхелетом.
Примерно через год после смерти моей бабушки дед имел неосторожность жениться на женщине из Трансильвании, вдове сатмарского хасида, и та стала мучить второго мужа своей ненасытной страстью к золотым украшениям – цирунг[246]246
Ювелирные изделия (идиш).
[Закрыть], как она их называла, – и к бархатным скатертям. Они прожили вместе два года, когда дед, вышедший из дома в подавленном настроении и не замечавший, что вокруг него происходит, был сбит на улице Принцессы Мэри пьяным английским водителем. Сразу же по окончании семидневного траура его вдова выкинула в мусор склянки с моллюсками, куски окрашенной шерсти, все рукописи деда и его переписку с известными раввинами и исследователями. На стену квартиры она повесила собственного изготовления гобелен с изображением парусного корабля, стоящего на якоре вблизи песчаного, усыпанного ракушками берега. После этого она навсегда захлопнула перед детьми своего второго мужа дверь дома, в котором прошли их детство и юность.
Теперь мы уже были на вершине горы и взбирались на крышу старого здания по узкой винтовой лестнице, цепляясь в кромешной темноте за каменные стены, скользкие и маслянистые от прикосновения многих рук. Вдруг затхлая теплая тьма разом осталась позади, и мы оказались на крыше, обдуваемой ветром раннего иерусалимского утра. В сером первобытном сумраке – таком же, что стелился над водами в первый день Творения, – виднелись силуэты закутанных в талиты людей. Столпившись у каменной ограды с той стороны, откуда открывался вид на Храмовую гору, они пристально смотрели на восток.
Внизу, прямо под ногами у нас, в Сионской горнице, заколдованной в этот час своей пустотой, легендарные пеликаны по-прежнему терзали себя и кормили собственной кровью птенцов; их изображения напоминали о последней трапезе Назарянина, в ходе которой тот, разделив с учениками хлеб и вино, предложил им свои тело и кровь[247]247
Свод над криптой в Сионской горнице подпирает мраморная колонна с рельефным изображением пеликанов на ее капители. В силу упомянутой автором легенды пеликаны являются одним из принятых символов в христианской иконографии.
[Закрыть]. Этажом ниже, в основании скалы, под накрытым черным покрывалом каменным надгробием покоился вечным сном Давид, царь Израилев. У его надгробия дремал сторож, приставленный оберегать свитки Торы и их короны.
Небосклон над горизонтом медленно алел, очертания гор на востоке проступали все резче, и теперь могло показаться, что вырезанные из черной бумаги горы наклеены на основу из красной бумаги. Отец молча глядел на Масличную гору, высматривая там, в еще не развеявшейся темноте, разрушенные надгробия над могилами, в которых так и не обрели надежного успокоения его первая жена и мой брат Реувен. В глазах у отца блестели слезы. И тогда взошло солнце.
Это был первый восход, увиденный мною в жизни.
7
Мы уже вернулись на улицы проснувшегося города, когда отец со вздохом сказал:
– Тебе еще предстоит узнать, что время – великий дракон, хвост которого тянется из болот бесконечного прошлого, а глаза жадно рыщут там, где положен предел далям будущего.
Взглянув на меня, он проверил действие своих слов и добавил, что сегодня я стал свидетелем одного из вечных сражений, ведущихся людьми с этим драконом. Не имея в руках ничего, кроме своих календарей и хронометров, люди могут разве что поцарапать ему шкуру насечками отмеряемых ими часов, дней, месяцев, лет. Это неравная битва, но люди не оставляют попыток смирить чудовище.
– Мой дед гонялся за ним по горам, – сказал отец, указывая правой рукой на горизонт к востоку от нас. – Он не страшился его и верил, что время можно смирить молитвой, совершаемой в тот момент, когда тьма сворачивается перед светом нового дня.
Все вокруг мирно спали, продолжил отец свой рассказ, когда мой прадед и его друг рав Хия-Давид Шпицер, автор книги «Ниврешет»[248]248
Р. Хия-Давид Ѓалеви Шпицер прибыл в Иерусалим из Пресбурга (Братиславы) в 1873 г. и не покидал город до своей смерти в 1915 г. Делом его жизни стало исчисление точных ѓалахических сроков произнесения различных молитв и совершения иных действий, предписанных еврейским законом. Его книга «Нивре́шет» («Светильник»), содержащая элементы полемики с гелиоцентрической системой Коперника, вышла в 1898 г.
[Закрыть], взбирались на вершину Масличной горы. Там, вблизи русской церкви – на ее высокую башню в те дни как раз поднимали колокол, который русские паломники волоком доставили в Иерусалим из Яффо[249]249
Самый большой из размещенных на башне Вознесенского монастыря колоколов (308 пудов, или 5 тонн) был отлит в России и доставлен в Иерусалим в феврале 1885 г.
[Закрыть], – они вставали лицом к востоку и записывали точное время, в которое верхняя кромка солнечного диска появлялась над горами Моава. Их товарищи, остававшиеся на крыше синагоги «Хурва», фиксировали точное время восхода, видимого в том месте, где находились они. Так им удалось установить, насколько восход в Иерусалиме задерживается тенью, которую отбрасывает на город Масличная гора.
Зимой и летом, ночь за ночью они поднимались на вершины окружавших Иерусалим гор, пока не составили точную таблицу времен, с помощью которой стало возможно в любой день года совершать утреннюю молитву в самый ранний срок, по многократно упоминаемому в Талмуде обычаю древних. Прадед и его друзья, рассказывал отец, твердо верили, что, если многие сыны Израиля станут заканчивать чтение Шма с восходом солнца, смежая «Освобождение» с Молитвой[250]250
«Освобождение» – название благословения, произносимого после чтения Шма, а Молитва (с прописной буквы) – название произносимой сразу же вслед за ним главной еврейской молитвы, иначе именуемой «Шмоне эсре», или «Восемнадцать», по числу входящих в нее в будний день благословений.
[Закрыть] в краткий миг наибольшего благоволения свыше, путы времени будут разорваны. Но любовь ко сну – быть может, сильнейшая из людских страстей – погубила предпринятую ими попытку одолеть самого страшного из врагов человека.
– Теперь ты, возможно, поймешь, почему меня так расстроил пожар, уничтоживший солнечные часы в Махане-Йеѓуда, – сказал, погладив мою руку, отец.
Мы вышли к зданию «Терра Санта»[251]251
Большое четырехэтажное здание францисканского колледжа Terra Santa («Святая земля»), расположенное на Французской (она же Парижская) площади в центре Иерусалима было построено в 1924–1927 гг. и использовалось Еврейским университетом до 1967 г., когда, с одной стороны, завершилось строительство его нового кампуса в районе Гиват-Рам и, с другой стороны, освобождение Восточного Иерусалима в результате Шестидневной войны позволило начать работы по восстановлению старого университетского кампуса на горе Скопус.
[Закрыть], в котором располагались тогда факультеты Еврейского университета, лишившегося своего прежнего места с превращением горы Скопус в изолированный от израильского Иерусалима анклав. Бросив взгляд на его верхние этажи, отец выразил уверенность, что я непременно стану со временем знаменитым ученым, коль скоро моими предками были такие замечательные люди. И кто знает, добавил он, может быть, именно мне суждено найти лекарство от полиомиелита, этой страшной болезни, уносящей столько человеческих жизней.
На губах у меня, вероятно, мелькнула недоверчивая улыбка, потому что отец тут же спросил, почему это Хаимке Вейцман, сын мотыльского дровосека[252]252
Хаим Вейцман (1874–1952) – выдающийся ученый-химик, многолетний глава Всемирной сионистской организации и первый президент Государства Израиль, родился в селении Мотоль (Мотыли) в Белоруссии.
[Закрыть], мог спасти великую Британскую империю в годы войны, разработав способ изготовления ацетона из кукурузы и картофельной шелухи, а я не смогу принести исцеление страждущему человечеству? Ведь моими предками в трех поколениях были смелые, вдохновенные люди, не страшившиеся бросать вызов реальности! Да к тому же в моем распоряжении будут современные лаборатории Еврейского университета, – и отец снова указал на здание, мимо которого мы проходили.
– Ты еще Нобелевской премии удостоишься!
Он мечтательно изобразил мой триумф: вот я стою перед королем Швеции, надевающим мне на шею золотую медаль. И тогда, выступая перед участниками торжества, я, конечно, упомяну в своей нобелевской лекции отца, не жалевшего сил на изыскание истинной аравы и безропотно сносившего ради этого людские насмешки. Деда, странствовавшего по просторам бесконечной синевы. Прадеда, который каждую ночь оставался у переправы через Ябок и боролся с драконом времени до зари.
– Если бы его колыбель стояла в Лондоне, а не в Иерусалиме прошлого века, твой прадед был бы назначен главным астрономом Королевской обсерватории в Гринвиче. И если тебе нужны доказательства, посмотри на доктора Песаха Хеврони[253]253
Песах Хеврони (1888–1963) – известный израильский математик, лауреат Премии Вейцмана, родился в иерусалимской семье хасидов Хабада, был в юности блестящим учеником ешивы. Приступив к изучению математики только в юношеском возрасте, он продолжил учебу в университете Цюриха в 1909–1912 гг. и, защитив там докторскую диссертацию, добился больших успехов в своих дальнейших научных занятиях.
[Закрыть], выросшего у него на коленях и получившего от него начатки своих познаний. Вот чего смог достичь иерусалимский юноша, не испугавшийся испытать себя в большом мире!
Отец стал восторженно рассказывать про замечательного математика, научные достижения которого снискали признание повсюду от Японии до Голландии и с которым пожелал лично встретиться профессор Эйнштейн в ходе своего визита в Иерусалим.
– Один час и десять минут, – со значением произнес отец. – Они встретились в библиотеке «Бней Брит», и ровно столько продолжалась беседа профессора Эйнштейна со скромным преподавателем учительского семинара. А когда их беседа закончилась, Эйнштейн сказал, что Хеврони – единственный человек, до конца понимающий его идеи.
После войны, продолжал отец, Хеврони поехал в Вену, и этот великий город науки на протяжении четырех лет восхищался «звездой с востока», просиявшей в его небесах[254]254
Время и место заграничной учебы Песаха Хеврони указаны в романе неточно.
[Закрыть]. Известнейшие профессора выражали уверенность, что Хеврони проложит новый путь в математике. Красивейшие девушки искали его близости. Но он, закрывшись в своей комнате, корпел над книгами и безутешно оплакивал свою возлюбленную Стеллу – голландскую девушку, которая работала медсестрой в больнице доктора Валаха и умерла от сыпного тифа в мировую войну.
– Тебе это Люба рассказывала? – спросил я отца.
– Не твое дело! – раздраженно ответил он и тут же спросил, не от Ледера ли я узнал о его первой жене и об их венском знакомстве.
Я кивнул, испытав острую печаль от того, что возникшая между нами близость исчезла вместе с утренним туманом. Отец погрузился в свои мысли.
8
У входа в городской сад он сказал, что после бессонной ночи ступни его ног превратились в игольницы, и направился к скамье, располагавшейся так, что с нее открывался вид на весь сад. Из сумки с талитом отец достал термос и налил нам обоим чай. После этого он стал наблюдать за сценой, которая разворачивалась на лужайке перед нами: смелая ворона дразнила маленькую собачку – резко снижаясь, она ударяла ее крылом и взмывала вверх. За соснами вдали белело здание школы Шмидта[255]255
Немецкая католическая школа, построена в 1886 г. В начале Второй мировой войны школа закрылась, после провозглашения независимости Израиля ее трехэтажное здание использовалось как еврейская школа, а в 1983 г. отошло Музею итальянского еврейства, занимающему также и соседнее здание бывшего странноприимного дома для немецких паломников.
[Закрыть], над которым выступали верхние этажи центрального почтамта и украшенная крылатым львом крыша здания «Дженерали»[256]256
Построенное в 1935 г. здание иерусалимского отделения итальянской страховой компании Assicurazioni Generali.
[Закрыть]. Прямо перед нами в низине находились пруд Мамилы и прилегающий к нему участок старого мусульманского кладбища, частое место наших с Ледером встреч.
– Что ты в нем нашел? – сердито спросил отец.
– В ком? – переспросил я, желая выиграть время и собраться с мыслями.
– В ком, в ком… в Ледере! Зачем ты придуриваешься?
Лицо отца покраснело от раздражения. И тогда, и в последующие годы родители безуспешно пытались понять, чем меня околдовал низкорослый сборщик пожертвований из квартала Рухама. Они снова и снова ревниво проверяли, не отравил ли он мою кровь.
Я, как мог, попытался объяснить отцу основы линкеусанской доктрины, но мои объяснения показались ему смешными, и он спросил, что эта белиберда может дать человечеству.
– Обеспечение продовольственного минимума для всех, – проговорил я, задыхаясь от обиды.
Отец засмеялся в голос и сказал, что эта задача уже решена. Наш приятель фармацевт господин Мордухович может обеспечить продовольственный минимум каждому – пачку шоколада «Экс-Лакс».
– Экс-Лакс из а гутэ зах, м'эст а бисл м'какт а сах! – не обращая внимания на мои слезы, издевательски продекламировал отец. – Не знаешь, что это за шоколад? «Экс-Лакс» – хорошая вещь, съел кусочек – покакал в горшочек!
Глава восьмая
1
После досадного фиаско в «венском кружке» Ледер перенес передовой командный пункт продовольственной армии из кафе «Вена» в переплетную мастерскую Гринберга, располагавшуюся на улице Яффо, напротив школы Альянса. Там его КП находился вплоть до последовавшей два года спустя большой демонстрации против получения германских репараций[257]257
Массовая демонстрация протеста, состоявшаяся в Иерусалиме 7 января 1952 г., когда кнессет приступил к обсуждению переговоров, которые велись в то время израильским правительством Д. Бен-Гуриона с возглавлявшимся К. Аденауэром правительством ФРГ. В числе организаторов этой демонстрации одновременно были правая партия «Херут», левосоциалистическая МАПАМ и Израильская компартия.
[Закрыть], одним из результатов которой стало разоружение продовольственной армии.
– Наше движение избавилось от детских болезней, – заявил Ледер, когда утихли отголоски скандала, учиненного им на императорском банкете у супругов Рингель. – На смену наивной попытке завоевать улицу, немедленно убедив в нашей правоте широкие слои общества, включая нелепых в своей косности подданных Франца Иосифа, приходит тактика сжатого кулака. Нам надлежит сформировать серьезное идеологическое ядро, которое подготовит конкретные рабочие планы для будущего линкеусанского государства и составит со временем его кабинет.
Сделав вираж вокруг воображаемой выбоины на дороге, Ледер испытующе посмотрел на меня. Необходимый актив для такого ядра уже существует, сказал он, и если я не забывчив, как кошка, то, разумеется, помню, что в ходе своего краткого ночного визита в наш дом он упоминал о веганской группе, которая формируется вокруг господина Гринберга. Припомнив что-то, Ледер прервал свою речь, а затем невзначай спросил, ходит ли теперь моя мать за покупками в магазин вегетарианских продуктов.
В дальнейшем мне не раз доводилось бывать вместе с Ледером на заседаниях вегетарианско-веганского комитета, проводившихся в доме у Гринбергов в ранние послеполуденные часы. Отец вместе с Риклином был тогда поглощен кладбищенскими изысканиями, мать занималась судьбой Йеруэля и его оставшейся без мужа матери, а я оказался предоставлен самому себе.
Минуя большой пустырь, на котором был позже построен кинотеатр «Хен», мы входили во двор, окруженный заросшей каменной оградой. Во дворе был разбит огород, за которым усердно ухаживала госпожа Гринберг, и его следовало пересечь по мощенной плиткой дорожке. На цыпочках, с большой осторожностью, мы огибали мастерскую, в которой обычно еще сидел в это время флегматичный молодой человек в бухарской тюбетейке. Он размеренно водил окунутой в клей кистью по листам суровой хлопчатобумажной ткани, а сидевшая рядом с ним госпожа Гринберг сшивала отпечатанные листы в тетради, искусно орудуя большой изогнутой иглой. За ними, в темной глубине мастерской, угадывался силуэт типографской гильотины с угрожающе занесенным тяжелым сабельным резаком.
Заседания группы проводились в граничившем с квартирой Гринбергов заднем помещении мастерской. Эта комната с забранными противомоскитными сетками окнами содержалась в образцовом порядке. По утрам она использовалась как раздаточный пункт натуральных продуктов, и в ней ощущался устойчивый кислый запах пророщенной пшеницы со сладковатыми нотами коричневого сахара. На деревянных скамьях вдоль стен стояли приоткрытые мешки с нешлифованным рисом, бургулем, гречкой, перловой крупой, а над ними, на крашеных синих полках, красовались пузатые стеклянные банки с сушеными яблоками, курагой и инжиром.
На заседаниях комитета неизменно священнодействовал господин Гринберг. Положив правую руку на двухтомную «Книгу веганства» и имея слева от себя полный стакан очищенных семечек подсолнечника, он излагал основы своей доктрины немногочисленным слушателям. Когда я впервые пришел в этот дом, господин Гринберг угостил меня густой тростниковой патокой, которую он тут же собрал в мешке коричневого сахара, и двумя расколотыми грецкими орехами. По случаю моего появления, сказал он, члены комитета прервут свои дискуссии относительно теоретических построений Руссо и Вольтера, дабы вернуться к волнующим сердце словам дорогого Льва Николаевича.
Напоминавшая толстую церковную Библию «Книга веганства» пестрела цветными войлочными закладками, и с их помощью Гринберг легко отыскал фрагмент, заполнивший комнату смрадом, лужами бычьей крови на скользком коричневом полу, занесенными кинжалами и подставленными под горячие алые струи жестяными тазами. Присутствующих завораживали оставленные яснополянским старцем воспоминания о посещении скотобойни, а я не мог оторвать глаз от обложки, украшенной безыскусно исполненными портретами многих знаменитых мыслителей от Будды и Пифагора до Леонардо да Винчи и лорда Байрона. Своим оформлением обложка «Книги веганства» напоминала глянцевые плакаты со столь же аляповатыми изображениями мудрецов Израиля – такими многие украшают кущи в праздник Суккот. На корешке толстой книги виднелась эмблема издательства: преломляемый яблоком меч.
Когда господин Гринберг закончил чтение, в меня впился суровым взглядом член комитета, носивший, как я узнал позже, выразительное имя Hoax Лев-Тамим[258]258
Hoax Лев-Тамим – Ной Чистосердечный (ивр.).
[Закрыть]. Окладистая борода, матерчатый пояс на чреслах и веревочные сандалии на ногах придавали ему заметное сходство с Толстым. Тот, кому перевернули душу слова великого писателя, сказал он, никогда в жизни не прикоснется к мясу. И вообще, добавил двойник Толстого, верно говорят, что большинство людей стали бы вегетарианцами, если бы каждому приходилось убить своими руками животное, мясо которого он собирается съесть за обедом.
В этой компании провидец линкеусанского государства высказывался осторожнее, чем в наших беседах наедине. Дав Лев-Тамиму договорить, Ледер оглянулся по сторонам и сказал, что, проходя по кварталу Геула, он не далее как сегодня стал свидетелем сцены, аналогичной той, какую Толстой наблюдал в своем городе. Напротив мясной лавки «Анда» остановилась большая красная машина, из кузова которой грузчики в запачканных кровью прорезиненных фартуках вынесли на плечах разрезанную на две части коровью тушу.
– Почему ты ходишь вокруг да около? – прервал его Лев-Тамим. – Нужно называть вещи своими именами: они несли мертвое тело, труп, падаль…
Ледер снова дождался паузы и выразил согласие с гневным пророком-толстовцем. Мало того, он высказал убежденность в том, что и само слово «кухня» следует заменить словом «овощеварня», которое будет подчеркивать, что там, где люди нашего круга готовят себе пищу, нет места плоти безвинно умерщвленных животных. Присутствующие согласно закивали, причем некоторые из них удивлялись, как эта самоочевидная мысль не пришла им в голову прежде. Ободренный сочувствием аудитории, Ледер добавил, что ужасное зрелище, свидетелем которого он стал сегодня в Геуле, и, в частности, застывшие взоры в глазах перевернутых коровьих голов в чреве грузовика окончательно убедили его, что жизненный путь современного человека движется, выражаясь словами Стендаля, от красного к черному. От красного цвета грузовика, доставляющего ему кровавую пищу, к черной машине, которая отвезет его тело на кладбище.
– Ты еще упустил белую машину посередине, – бросил ему Лев-Тамим.
Присутствующие с интересом посмотрели на толстовца, и тот спросил их, сумеют ли они сосчитать людей, страдающих прямо сейчас в машинах скорой помощи и на больничных койках, призывая желанную смерть.
2
Заседания комитета часто превращались в арену энергичной полемики между соперничавшими вегетарианцами и веганами. Ледер шутливо объяснил мне однажды, что первые любят себя, а вторые – коров и что по этой причине вегетарианцы позволяют себе ношение кожаных ботинок, тогда как веганы ходят в матерчатой и резиновой обуви.
Одно из особенно резких столкновений между двумя направлениями случилось, когда Гринберг с выражением зачитал приведенный в «Книге веганства» отрывок из «Заката и падения Римской империи», в котором Эдвард Гиббон описывает нравы татар:
– Отвратительные предметы, прикрываемые утонченным искусством европейцев, выставляются в палатке татарского пастуха во всей их отталкивающей наготе. Быка или барана убивает та же самая рука, из которой он привык получать свою ежедневную пищу, а его окровавленные члены подаются, после очень незначительной подготовки, на стол его бесчувственного убийцы.
При этих словах Лев-Тамим ударил по столу своим необструганным посохом и обратился к Гринбергу, религиозному еврею, с вопросом, почему тот набрасывается на татар и с их помощью уводит дискуссию в туманные дали:
– Посмотрите на себя! Не был ли и ваш Храм сущей скотобойней? А изломанные кости козла отпущения, которого сбрасывали в Йом Кипур с обрыва в Иудейской пустыне?! Не есть ли и это акт вандализма?
Гринберг попытался смягчить настрой своего оппонента, но Лев-Тамим не отступал:
– Что будет в тот день, когда ваши ожидания сбудутся и Третий храм построят по предсказанию пророков? Ведь вы, господин Гринберг, левит, не так ли? Не значит ли это, что вы станете тогда, сообразно вашему званию, распевать гимны в момент совершаемого священниками заклания жертвенных животных? Именно так: вашими сладостными песнопениями будет сопровождаться убийство бесчисленных быков и баранов!
– Дом Господень, который будет поставлен во главу гор, станет Храмом духа! – отвечал Гринберг, нервно листая Танах[259]259
Танах – Еврейская Библия, акроним ивритских слов, означающих «Тора, Пророки, Писания».
[Закрыть], извлеченный им из ящика стола.
Наблюдавший за его действиями Лев-Тамим ядовито заметил, что хозяин дома может оставить книгу в покое, поскольку сказанное в ней о храмовой службе всем и так хорошо известно. Нелепо надеяться, добавил он, что священники согласятся принимать от сынов Израиля листья салата и шаровидные стебли кольраби вместо положенных им по закону грудины и голени жертвенного животного. Вслед за тем толстовец изобразил готовность к примирению, признав бессмысленность споров о давнем прошлом и неведомом будущем. Гринберг охотно принял его предложение сосредоточиться на настоящем и поудобнее расположился в председательском кресле, но это была искусно расставленная ловушка.
– Так вот, о настоящем. Объясните нам, Гринберг, почему вы находите позволительным для себя накладывать тфилин, изготовленные из кожи зарезанного животного? – Лев-Тамим явно наслаждался растерянностью своего оппонента. – А ведь могли бы использовать тфилин из бакелита. Как по мне, они были бы ничуть не хуже.
На следующий день мы застали Гринберга за прополкой моркови в огороде.
Овощи для домашнего употребления супруги Гринберг собственными руками выращивали в сине-белых эмалированных тазах, прохудившихся дождевых бочках и старых канистрах со срезанным верхом. Увешанные томатами, перцами и баклажанами ветви посаженных Гринбергами кустов были подвязаны ботиночными шнурками к специальным подпоркам. Землю вокруг растений супруги тщательно разрыхляли вилками и удобряли светло-серым птичьим пометом. От каменного забора огород отделяли плодовые деревья, каждый персик, лимон и яблоко на которых были обернуты в газетную бумагу. Это одновременно защищало плоды от птиц и насекомых, так что хозяева сада могли не опрыскивать деревья ядовитыми химикатами в целях борьбы с вредителями. Непосредственно у стен дома были разбиты грядки с укропом и петрушкой, и там же хозяева посадили достигшие изрядных размеров подсолнухи и кукурузу. Грядки с рассадой, над одной из которых склонился Гринберг, были прикрыты от птиц пружинными металлическими кроватями.
Хозяин дома устроил нам экскурсию по своему огороду, и мы ходили за ним, поражаясь тому, как он хорошо разбирается в сельском хозяйстве. Ледер в конце концов не удержался и спросил, чему Гринберг обязан своей компетентностью. Изучал ли он садоводство по книгам или, может быть, методом заочного обучения в «Британских институтах»?
Вопрос рассмешил господина Гринберга, сказавшего Ледеру, что таким вещам не учатся на старости лет и уж точно не по книгам. Затем, выдержав паузу, он сообщил, что его детство прошло в деревне возле Кармеля.
– Теперь вам все стало понятно? – спросил нас Гринберг с неожиданной озорной усмешкой.
К этому моменту Ледер заинтересовался газетным листом, в который был обернут один из лимонов, и он, кивнув, предположил, что Гринберг вырос в Зихрон-Яакове.
– Нет, – ответил хозяин дома.
– Тогда в Бат-Шломо? – вторично попробовал Ледер.
– Не угадаете. Мы из Архентины.
Сообщив о своем происхождении, Гринберг выразил удивление в связи с тем, что его сильный испанский акцент не позволил нам догадаться, откуда он родом.
– Так при чем здесь Кармель, если из Архентины? – обиженно передразнил собеседника Ледер.
Гринберг поправил подвязку ветвей сладкого перца, слишком сильно нависших над краем эмалированного таза, и рассказал, что некоторые из земледельческих колоний барона Ѓирша в провинции Энтре-Риос носили типичные еврейские названия – Кирьят-Арба, Рош-Пина, Эвен-ѓа-Роша, Кармель[260]260
Барон Морис де Ѓирш (1831–1896) – австрийский еврейский предприниматель и меценат, одним из благотворительных проектов которого стало создание в 1891 г. Еврейского колонизационного общества, занимавшегося организацией еврейской иммиграции в Аргентину и Канаду.
[Закрыть].
Из дома глухо донесся размеренный стук, напоминавший удары церемониального посоха, которым бил по полу вышагивавший перед раввином Узиэлем кавас[261]261
Р. Бенцион-Меир-Хай Узиэль (1880–1953), был главным сефардским раввином подмандатной Палестины и, позже, Государства Израиль. Кавас (букв. «лучник», турецк.) – церемониальный телохранитель высокочтимого лица в странах, расположенных на территории бывшей Османской империи.
[Закрыть]. Ледер, порядком уставший от изучения грядок, воспользовался этим:
– Лев-Тамим посылает нам сигнал SOS с помощью своей палки. Он там явно засыхает от скуки среди мешков с бургулем и пшеном. Пока суд да дело, пойду поболтаю с ним.
Когда Ледер скрылся за персиковым деревом, хозяин дома сказал мне, что я, мальчик, учащийся в религиозной школе «Мизрахи» и носящий под рубашкой талит катан[262]262
Талит катан – малый талит, четырехугольная одежда с кистями на краях, носимая религиозными евреями под верхней одеждой в течение всего дня, в отличие от обычного, или большого, талита, в который облачаются на время утренней молитвы.
[Закрыть], наверняка и сам понимаю, что после вчерашнего богохульства он, Гринберг, не может продолжать общение с Лев-Тамимом, несмотря на близость их взглядов по вегетарианским вопросам.
– В душе он – резник, – категорично заявил Гринберг, снимая божью коровку с морковной ботвы и выпуская ее за ограду. – Разум не позволяет ему резать острым ножом горло коровам, поэтому он колет людей своим языком.
Гринберг погладил меня по голове, вернул на место сбившуюся мне на ухо синюю ученическую ермолку и сказал, что люди не приходят к своим убеждениям рациональным путем, но, главным образом, через пережитые ими обиды и травмы. Так, сам он никогда не стал бы вегетарианцем, если бы не распорядитель барона Ѓирша, заставлявший его есть свинину. И не просто свинину – это было мясо свиней, которых кололи прямо у него на глазах во дворе поселковой администрации.
– Агрессия всегда приводит к противоположному результату, – сказал господин Гринберг, блуждая взглядом по кронам плодовых деревьев.
Позади своего собеседника я увидел невысокого старика, почти беззвучно приближавшегося к дому Гринбергов по пустырю со стороны улицы Яффо. Когда старик подошел достаточно близко, я разглядел его аскетическое лицо в обрамлении белой бороды и глубоко посаженные глаза, во взгляде которых угадывалась мечтательная страстность.
– Salution sinjoro Grinberg! – приветствовал подошедший к воротам гость моего собеседника.
– Salution sinjoro Havkin, kiel vi Fartas? – отвечал Гринберг, поворачиваясь к старику и приглашая его зайти.
Он дружески положил испачканную землей руку на плечо гостю и сообщил мне, что сегодня мы имеем честь принимать у себя пионера еврейского вегетарианства в Стране Израиля, нашего господина и учителя Хавкина, успешно осуществляющего свою теорию на практике в созданном им хозяйстве в Иерусалимских горах.
– Кіи estas tiu bela knabo? – спросил, ущипнув меня за щеку, господин Хавкин.
– Я не понимаю по-испански.
– Это не испанский, а эсперанто, – ответил старик и тут же поинтересовался, рассказывали ли нам в школе о докторе Лазаре Заменгофе и о созданном им международном языке.
Вслед за тем гость спросил у Гринберга, кто этот милый мальчик, и я понял, что он повторяет заданный им прежде вопрос. Про эсперанто он поспешил сообщить, что в недалеком будущем этот язык станет самым распространенным в мире и что мне следует приступить к его изучению прямо сейчас или, во всяком случае, как можно скорее. Свежесть детского восприятия такова, что я без труда овладею новым для себя языком, пообещал господин Хавкин.
Дебаты на заседании комитета в тот день естественным образом сфокусировались на эсперанто и по случаю присутствия почетного гостя протекали мирно. Гринберг усадил господина Хавкина в свое председательское кресло, а сам остался стоять по правую руку от него, готовый исполнить любое его поручение. Лев-Тамим не задирал докладчика и на протяжении всего заседания сосредоточенно вырезал перочинным ножом цветочный узор на своем посохе. Ледер записывал что-то в блокнот.