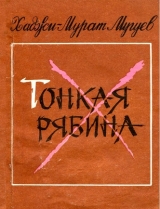
Текст книги "Тонкая рябина"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
– Ух, гад, еще и огрызается! – замахиваясь гранатой и с размаху бросая ее в оконце, закричал рыжебородый.
Три немецких солдата, бежавшие к вершине холма, остановились, видя, что она уже захвачена русскими. Два советских танка били пулеметными очередями по разрозненным группам фашистов. Третий танк горел, дымно чадя. Тяжелые орудия немцев уже били издалека по своему участку, не щадя и своих, отрезанных от тылов.
Тупой удар по голове оглушил Радина, он пошатнулся, но сейчас же пришел в себя. «Осколок… Спас шлем. Не будь его, погиб бы».
Солдаты уже ворвались в блиндаж.
Держа в руке острый, приспособленный для рукопашной, тесак, Радин вбежал в землянку. Пожилой офицер с седеющими висками прижался к углу, что-то быстро и пронзительно выкрикивая и поднимая обе руки.
Он был бледен, квадратный подбородок дрожал. На нем был несколько иной, чем на немецких офицерах, мундир.
– Чего орешь, стерва, – цыкнул на него рыжебородый, – вся грудь в хрестах фашистских, а пузо, сволочь, отрастил какое…
– Не тронь его, – сказал Радин. – Это какая-то важная птица. За него нам в штабе спасибо скажут. – И уже по-немецки сказал ошалевшему немцу: – Идем в штаб. При малейшей попытке бежать или сопротивляться будешь убит.
– О, о, что вы, что вы, милостивый государь, я счастлив, что попал в руки культурного человека, – забормотал пленный.
В землянку вбежали другие солдаты.
– Ребята, бумаги, документы давай сюда, – закричал Радин, обшаривая карманы пленного. – Полевые сумки, книги, бумаги, – все давай сюда.
Солдаты выволокли коробку с консервами, бочонок с пивом, два ящика с вином и какими-то напитками.
– Товарищи, кто поведет пленного в штаб? – крикнул Радин.
– Давай я, – охотно согласился рыжебородый.
Радин быстро написал донесение в штаб, и солдат повел пленного. Радин собрал большую кипу бумаг, документов, немецких газет, кучу фотографий, несколько писем и стал укладывать все это в ручной саквояж. Из кучи бумаг выпала книга с яркой обложкой.
– Юде ин Русланд, – прочел Радин. Заглавие было напечатано большими черными буквами над огромной головой библейского еврея с пейсами, шестиконечной звездой на лбу и хищными глазами, устремленными в упор на читателя. Руки еврея были вытянуты вперед, а пальцы оканчивались хищными загнутыми когтями. Рот был осклаблен, и острые, большие клыки выдавались вперед.
Ниже стоял гриф: «Совершенно секретно. В количестве 600 экземпляров. Для лиц не ниже командиров дивизий и оберштурмбаннфюреров СС и СА».
– О-о… вот какой фрукт попался нам, – проговорил Радин и, побросав в чемодан все захваченные в офицерской землянке бумаги и документы, вышел из землянки. Навстречу двигались резервные роты.
Радин подошел к комбату и коротко доложил о найденном.
– Сейчас же отошли в штаб.
А ты какой роты? – спросил лейтенант.
– Пятой, второго батальона, – ответил Радин.
– Неси сам. Сам и сдашь командиру. Мы сменяем ваш батальон. – И неожиданно добродушно добавил: – Молодцы, ребята, хорошо поработали, теперь отдыхайте, а мы за вас с фрицами рассчитаемся.
Группами и поодиночке шли к подножью высотки солдаты второго батальона. Кто то отдыхал на траве, кто-то курил, другие торопились, желая скорее уйти.
Мощные разрывы пушек уходили все дальше и дальше, а немецкие орудия то ли уже не доставали до взятых русскими позиций, то ли перенесли огонь на наступающие советские части, но уже ни один снаряд не рвался и ни одна мина не падала на поле, где собирались подразделения второго батальона 93-го гвардейского полка.
Мимо провели группу пленных. Позади плелся здоровенный верзила-немец, припадая на раненную ступню. Прошли еще солдаты другой роты, Радин, перекинув через плечо автомат, понес саквояж.
Когда Радин снял шлем, голова у него закружилась, и он почувствовал тупую боль.
– Что с вами? – спросил начштаба, которому он передал саквояж с документами.
– Осколком ударило по шлему, – разглядывая заметную вмятину на каске, сказал Радин.
– Да… шишка чуть ли не с кулак, вся сизая. Идите в санбат, от таких штук хуже бывает, чем от ранения, – сказал начштаба. – А ты знаешь, гвардеец, кого ты там в блиндаже поймал?
– Никак нет, – ответил Радин.
– Крупного экономического, советника, что-то вроде главного профессора фашистской армии по экономике и выкачиванию продовольствия.
– А что он здесь, на передовой, делал? – удивился Радин.
Капитан засмеялся.
– А это он, говорит, поглядеть на фронт, как живут солдатики, да как они ведут себя, ознакомиться приехал. Врет, сволочь. Просто рискнул на одну ночь посетить позицию, чтоб ему Гитлер за это железный крест пожаловал. Он переводчику так и сказал. Я, говорит, штатский, человек не военный, случайно попавший сюда… Ну, случайно, не случайно, а в плен угодил. Вы, товарищ Радин, большое дело сделали. И документы, и пленный, и книга очень большой важности. Он ранен, товарищ подполковник, вернее, контужен. Вон, гляди, какая шишка выросла. Я его в санбат направляю, – сказал капитан вошедшему командиру полка.
– Правильно. Идите в санбат, а там будем выполнять приказ командующего фронтом. Помните, он после окончания операции просил явиться к нему, – напомнил подполковник.
– Есть идти в санбат, – ответил Радин, в душе радуясь короткому отдыху, горячей бане и чистому белью в санбате.
Медсанбат гвардейской дивизии был расположен в лесу, недалеко от второго эшелона штаба дивизии. Здесь были разбиты защитного цвета большие и малые палатки, вырыты хорошо оснащенные землянки-операционные и приспособлен неведомо как уцелевший домик лесника.
Чем ближе подходил Радин к медсанбату, тем явственней обозначались его видимые специфические приметы. Все чаще попадались группы Легко раненых, сидевших под деревьями или ковылявшим по дорогам, опираясь друг об друга или на палки.
– Нет, ты не шути, – качая головой, сказал старшина, сидевший под сосной, – контузия в голову – се-е-рьезная штука, можешь навовсе сумасшедшим стать, ей-ей, – «обрадовал» он Радина.
– А как Ветров? Прохор, ну тот штрафник, с которого срок недавно сняли? – спросил Радин.
– Прохор-то? Ничего, – ответил старшина, – коли не убит, так, должно, сильно ранен. Когда мы бежали в атаку, его миной подшибло.
– Что ж ты так спокойно говоришь об этом? – возмутился Радин.
– Эх, друг, ты месяц воюешь, а я из-под самого Бреста до Москвы отходил. Боев, наверное, сорок провел. В третий раз в медсанбат прихожу. Привык ко всему, да и не солдатское это дело расстраиваться, – докурив цигарку, старшина-философ добавил: – А дружок твой жив. Если б помер, мне как старшине роты известно б было.
Радин, попрощавшись со старшиной, направился к большой зеленой палатке.
– Три дня будете при санбате, ночевать в нашем пункте при втором эшелоне, а утром ко мне на осмотр, – сказал майор медслужбы Куренков, осмотрев внимательно большую багровую шишку на голове Радина.
– Товарищ доктор, голова меньше болит, завтра я, вероятно, смогу уже надеть шлем, – попробовал возразить Радин.
– Тут я, товарищ писатель, знаю больше вас, – строго сказал Куренков, знавший все о Радине и очень сочувствовавший ему. – Голова ваша ушиблена осколком. Это у нас именуется контузией черепа второй степени, с возможными последствиями в дальнейшем. Чтобы их не было, мы три дня будем наблюдать за вами, а уж потом решим, что делать дальше, – и, меняя строгий тон на добродушный, сказал: – Ночуйте сегодня у меня, во-он в той палатке. Все равно работы столько, что я, может, только под утро приду соснуть часок. Да не забудьте уходя получить от нас врачебное свидетельство о контузии в бою. Это вам, поверьте, пригодится в будущем.
– Товарищ майор, – просительно сказал Радин. – Здесь, кажется, мой друг лежит, рядовой Ветров, моей же роты. Как…
Куренков остановил его.
– Тяжел, минный осколок рассек ступню, другой прорвал икру на той же ноге. Ночью делали операцию. Жив, думаю, будет, а вот хромым останется, это факт. – И видя встревоженное лицо Радина, успокоил его: – Это для него счастье, если только останется хром. Вернется домой, через год привыкнет, будто всю жизнь хромой был. Завтра я скажу вам, можно ли будет повидать его.
Радин вышел из палатки и медленно пошел ко второму эшелону.
Ночевал он во втором эшелоне у политработника дивизионной газеты Рохлина, и, естественно, в разговоре коснулись и литературной темы.
– Были недавно у нас писатели из Москвы, – сказал Рохлин, – Протасов, Смоленский… Они справлялись о вас. Знают, что у вас все хорошо, о награде тоже знают.
– Какой награде? – спросил Радин.
– А я думал, вы уже знаете об этом, – удивился Рохлин. – «Отечественная II степени» и медаль, кажется, «За отвагу». Завтра вам навесят их. Поздравляю, Владимир Александрович, – сказал Рохлин, довольный, что хорошую новость первым сообщил он.
Радин молчал. Вот и долгожданная свобода, и даже орден, возвращение в прежнюю жизнь. Но радости не было. «А Соня? А наша загубленная жизнь?»
Рохлин, смотревший на подернутое грустью лицо Радина, тихо сказал:
– Я вас понимаю, Владимир Александрович, но вашему возвращению к жизни могут позавидовать тысячи других несчастных.
Слова Рохлина, этого девятнадцатилетнего юноши, внезапно постигшего всю боль и глубину переживаний Радина, как-то успокоили его, и он благодарно пожал ему руку.
Куренков осмотрел его и велел проделать несколько манипуляций.
– Боитесь, что когда-нибудь свихнусь в результате контузии? – приседая на корточки и вытягивая вперед руки, улыбнулся Радин.
– Бывает всякое, но вам это не грозит, – ответил Куренков.
– Значит, можно возвращаться в роту? – спросил Радин.
– Нет, нельзя. У нас есть приказ командования дивизии задержать вас в медсанбате, пока не приедет начподив Ефимов.
– А зачем?
– Не понимаете? Вы уже не бывший штрафник, и даже не рядовой 93-го полка. Вы писатель Радин, честно, хорошо повоевавший с фашистами, которого нам приказано беречь.
На следующий день Радина на пять минут допустили в палату, где лежали тяжело раненные, подлежащие эвакуации в тыл.
Ветрова он нашел сразу же, хотя большая палатка с прорезанными окнами по бокам была велика и заполнена ранеными. Они лежали на складных койках, носилках, топчанах и даже на полу, устланном соломой.
Стоны, хрипы, прерывистый крик заполняли палатку.
Прохор, бледный, с небритыми щеками и впавшими глазами, показался Радину тяжело больным, но стоило Ветрову заговорить, как это ощущение исчезло. Тот же спокойный, рассудительный Прохор был перед ним.
– Чего разглядываешь, дружок? Живой я и еще долго буду жить. Только вот ногу мне левую Гитлер чуть подкоротил. Да это ничего, доктора говорят, и ходить, и работать опять будешь. Ну, а как ты? Тоже зацепило? – указывая глазами на забинтованную голову друга, спросил он.
– Да это пустяк.
– Пустяк не пустяк, голова же не кочан, – рассудительно сказал Прохор.
Они молча смотрели друг на друга, потом Ветров тихо сказал:
– Сегодня награждать будут, и мне какую-то медальку дают.
– «За отвагу». Это, Прохор, хорошая медаль. За ратный труд, за воинскую доблесть дается. Кажется, и мне такую дали, – сказал Радин.
– Вот и хорошо, Лександрыч. Оба мы с тобой пострадали от злодеев, оба мы с тобой и воевать пошли, одной медалью и отмечены. Ты береги себя, это перво-наперво, а будем живы, ты уж беспременно приедешь ко мне, как в свой дом, как к своему брату. Пиши адрес… – и Прохор торжественным голосом произнес: – Кавказ, Ставропольский край, Апанасенковский район, почтовое отделение села Соломенка. Ветрову Прохору Ефимычу. Мне, значит…
Медсестра подошла к ним.
– Сейчас, сестрица. Вот еще раз скажем друг дружке до свиданья, до доброй встречи, – взволнованно сказал Прохор.
Радин наклонился, обнял его и, положив в карман адрес Ветрова, вышел.
– Вот, почитайте, про нас пишут, – протягивая свежий номер «Правды», не без удовольствия сказал Рохлин.
«От советского Информбюро – прочел Радин. – На Западном фронте, на Гжатском направлении в результате упорных боев наши части прорвали сильно укрепленную оборону противника: Взяты трофеи и пленные. Освобождено от немецко-фашистских захватчиков более двадцати населенных пунктов».
Всего две с половиной газетных строки. Всего скупых 30–35 слов, а как много крови, героизма, отваги и патриотизма потребовалось для того, чтобы они были напечатаны.
Церемония награждения состоялась.
Солдаты и командиры стояли вытянутой шеренгой. На правом фланге развевалось знамя 29-й гвардейской дивизии.
У стола, где лежали медали и грамоты, стоял комдив, гвардии полковник Гладышев, спокойный, неторопливый человек сумным и приветливым лицом.
Адъютант называл по списку фамилии награжденных.
– Служу Советскому Союзу! – то и дело оглашал лужайку четкий голос бойца.
– Гвардии рядовой Радин! – услышал Радин и, шагнув четким строевым шагом, стал возле комдива.
За проявленное мужество и отвагу в бою с немецко-фашистскими захватчиками, за доблесть в разведке гвардии рядовой Радин награждается орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За отвагу».
– Поздравляю вас! – крепко пожимая руку Радину, сказал полковник. – От всей души рад за вас, дорогой товарищ! Но это еще не все, – улыбнувшись, продолжал комдив. – Читайте приказ Военсовета фронта! – сказал он адъютанту.
– Приказ Военного Совета по Западному Фронту от 2 сентября 1942 года, – звонким, высоким голосом читал адъютант, – …присвоить воинское звание майора и откомандировать в распоряжение штаба фронта. Командующий фронтом генерал-полковник Плотников. Член Военного Совета фронта генерал-лейтенант Сергеев. Начальник штаба генерал-лейтенант Пузыревский.
Гладышев взял у адъютанта четыре матово-красных шпалы и осторожно прикрепил к петлицам гимнастерки Радина.
– Поздравляю, товарищ майор. Будем надеяться, что встретимся еще не раз. Россия велика, очистим ее от фашистов не скоро, – сказал комдив.
– Товарищ майор, зайдите потом ко мне, кое-что о Четверикове узнал, – поздравив Радина, сказал Ефимов.
Через час, когда солдаты и офицеры возвращались к своим полкам, Радин вошел в палатку начподива.
Он уже раз двадцать ходил вокруг, ожидая, когда вернется Ефимов.
– Входи, товарищ Радин, – беря его под руку, сказал комиссар. – Новости есть, но… – он покачал головой, – не из добрых. – Комиссар помолчал, вглядываясь в побледневшее лицо Радина. – Новость тяжелая. Погиб генерал. В самом начале войны на одной из застав был и генерал Четвериков. Заставы, посты проверял. Чувствовал старый пограничник близость войны. Налетели было фашисты на заставу, где в эту ночь находился генерал, налетели и обожглись. Две роты немцев пошли на заставу в 90 человек, через день немцы еще две роты с танками и авиацию бросили. Девять дней, ты подумай, девять дней били фашистов пограничники, и люди, и патроны иссякли, а не могли фашисты взять заставу. Уже их армия далеко под Минском была, а застава все сражалась. Там и погиб Четвериков. Только трое и спаслись, они и рассказали все. Генералу Четверикову посмертно присвоили Героя Советского Союза.
– А как его семья?
– Вот этого не знаю. Женщин и детей он отослал в тыл, значит, и его семья своевременно эвакуировалась. Ну вот, уходишь от нас, счастливого тебе пути в жизнь… – сказал начподив. – Много ты пережил, брат, много. Но не озлобляйся, люди не виноваты в этом, – он вздохнул, побарабанил пальцем о край столика. – Уходишь, так вот что, дорогой товарищ. Комдив наш, Гладышев, ты его знаешь, человек хороший, достойный. Он просил меня вот эти его новые полковничьи галифе и гимнастерку тебе подарить. Да ты не красней, не отнекивайся… Неужели не понимаешь, что это от сердца он… И от меня тоже на память сапоги офицерские, шевровые, возьми. Мы тут остаемся, а тебе, может, в Москву придется ехать. Ты вот сидел, а мы нет, а думаешь, мало хороших людей ни за что посажали? – Он оглянулся и тихо сказал: – Многих… и тоже безвинных, а до нас, видно, черед не дошел. Так-то, друг.
– Спасибо, Яков Иванович, спасибо за все. Вот такие люди, как вы, и помогли мне верить в правду и надеяться на лучшее. – Радин крепко обнял начподива.
Штаб 5-й армии находился в лесу у деревни Суконники, но прежде чем Радин попал туда, он потерял полдня. Наконец, часов около четырех, его принял сухощавый генерал-майор, начштаба армии. Землянка ничем не отличалась от ряда других, вырытых повсюду в лесах Подмосковья. Три дощатых ступени вниз, одно оконце, дверца тоже со стеклом, стол на одной ножке, врытой в землю, два табурета и широкие нары с белой, чистой постелью.
Генерал молча выслушал рапорт Радина, просмотрел его бумаги и коротко сказал:
– Ночуйте сегодня здесь, у кого-нибудь из командиров. Утром получите оформленные документы и – в штаб фронта. Адрес вам скажут.
Утром, получив бумаги, Радин на попутном грузовике отправился в село Борисово, где находился штаб фронта.
Орден и медаль, сверкающие на груди, помогли Радину в поисках штаба.
– Да. Такой приказ у нас есть, – как-то равнодушно сказал ему полковник из штаба. – Но сейчас я даже не знаю, что с вами и делать. Командующий-то теперь новый.
– А генерал-полковник Плотников?
– Его перевели на южный, уже неделю, как отбыл. Так что ж мне теперь с вами делать? – пожал плечами полковник. – Штаты все заполнены. Лучше б уж в дивизии остались.
Радин молчал.
– Вы кем были на гражданке? – полковник запнулся. – Ну, раньше, до всей этой истории?
– Писатель, кажется, был, член Союза писателей, – сказал Радин.
– Писатель! – почти радостно воскликнул подполковник. – Ну, тогда все в порядке. Есть указание писателей в ПУР отсылать, для работы во фронтовых и армейских газетах.
Он вызвал адъютанта и приказал:
– Подготовить гвардии майору Радину командировочные документы и отправить его сегодня же в Москву, в распоряжение отдела печати Политуправления РКК – Ну, как, рады? Вы москвич?
– Так точно, товарищ полковник, коренной. Правда, – Радин вздохнул, – пять лет не видел столицы.
«В Москву! В Москву! – бродя по разбитой танками и грузовиками дороге, думал Радин. – Пойду на свою квартиру. Разыщу тетю Грушу, обойду соседей. Ведь уцелел же кто-нибудь, наверное, расскажет о Соне, приехала она тогда или нет».
Чем ближе была столица, тем спокойнее было на душе у Радина.
Миновали Дорохово, Кубинку. По сторонам от шоссе вставали и исчезали рощицы, то одинокие, то группой стоящие дома. И в этих полугородского типа дачках, и в дорожных столбах, и в каменных строениях, окаймляющих Минское шоссе – во всем чувствовалась близость Москвы.
На Арбате он спрыгнул с машины на землю, родную, московскую землю, по которой не ходил вот уже пять с лишним лет.
Москва! Военная, суровая, но родная.
Вечер уже давно опустился над Москвой, но окна были затемнены, улицы погружались в темноту и быстро пустели. Иногда, спеша, проходили мимо запоздалые прохожие, проносился военный «студебеккер».
То ли от волнения, то ли из-за наступившей темноты, а может, потому, что он уже давно не был в Москве, Радин вместо своего переулка попал в другой, затем в какой-то тупичок.
Побродив немного и не найдя в темноте выхода, он повернул назад и, выйдя наконец к Арбату, был остановлен патрулем.
– Поздно ходите, а пропуска нет, товарищ майор. Придется переночевать в комендантской, – , вежливо сказал проверявший документы сержант.
Утром, попив чаю вместе с комендантским дежурным, он отправился на свою старую квартиру.
Теперь, при дневном свете, Радин быстро нашел свой дом. Вот он, старый, каменный, четырехэтажный. Вот и подъезд, и его окна. Они открыты, ветер чуть колеблет шторы. Кто теперь живет там? Тетя Груша, кажется, жила вот тут, на первом этаже.
За дверью что-то спросили, затем она полуотворилась, и Радин увидел молодую женщину, с любопытством переводящую взгляд с его лица на ордена.
– Вам кого, товарищ майор? – спросила она.
– Скажите, – быстро заговорил Радин, – живет ли здесь дворничиха тетя Груша… я не помню ее фамилии.
– Да, живет, я ее дочь.
– Шура? – припоминая ее имя, воскликнул Радин.
– Шу-ра. А вы кто будете! – как бы не доверяя себе, тихо проговорила женщина. – Вы…
– Я Радин, Радин, Шурочка, помните, на третьем этаже жил. Меня еще в тридцать седьмом году…
– Голубчик! – перебивая его, заплакала женщина. – Товарищ Радин! Живы, вернулися! Ох, мамка как будет рада!
– А где тетя Груша? Где она? – задыхаясь от волнения, спросил Радин.
– Здесь она, у соседки… Вы посидите здесь, я ее сейчас позову.
– Вы зовите ее, а я сейчас, только на свою бывшую квартиру сбегаю… Зовите ее сюда, Шура, – крикнул Радин и через две ступеньки побежал наверх.
Смятенный, возбужденный, он нащупал кнопку звонка в свою когда-то квартиру.
Дверь открылась. На пороге стоял невысокого роста капитан НКГБ, лет тридцати пяти, не больше. Он с удивлением смотрел на Радина, ожидая его слов.
– Вы к кому? – наконец спросил он.
Радин с нескрываемой злобой смотрел на него.
– Вы к кому, товарищ майор? – снова спросил капитан. – Да вы войдите, – и он, посторонившись, пропустил Радина. Из бывшего кабинета Радина вышла молодая женщина с ребенком в руках, недоуменно глядя на незнакомого человека.
– Я… – переводя дыхание и судорожно глотая слюну, сказал Радин, – я жил здесь когда-то… – он сделал паузу, – лет пять назад. Вот этот диван, кресло у стола…
– Вот как!.. – удивленно произнес капитан, – а я ведь даже толком не знаю, кто здесь жил. Мы, – обернулся он к жене, – мы ведь здесь, в этой квартире, недавно. Всего полтора года.
– С февраля сорокового, – уточнила женщина.
В эту минуту полуоткрытая дверь распахнулась и вбежала, задыхаясь от бега, тетя Груша.
– Товарищ Радин, миленький, живой, целый… Господи, а мы тебя уж и похоронить успели, – обнимая и тормоша Радина, заплакала дворничиха.
– Жив, тетя Груша. А как вы, как…
– …и полковник уже, и герой, и в орденах ходишь. А тут, сволочи разные, про вас такое плели, и шпиен, и бандит, и покушение готовил – тьфу, окаянные…
– Жив, жив, тетя Груша. Я вот зачем забежал. Где моя жена, что с нею тогда сталось?
– Пойдемте к нам, Владимир Александрович, я расскажу тебе о ней.
– Товарищ майор, вы уж извините, но, честное слово, мы здесь ни при чем. Вот вещи… пожалуйста, составьте опись, свидетели здесь найдутся. Вот и тетя Груша, и другие соседи. И я охотно верну их вам, их спишут с описи.
– Не надо, – устало махнул рукой Радин. – Какие там вещи. Зачем они мне? Я жену потерял, я жену ищу, а не вещи. До свидания, – и, сопровождаемый дворничихой, Радин медленно пошел по лестнице вниз.
– Увели вас, сволочи окаянные, а мы все, словно как во сне. Молчим, глядим вслед машине, ну, как на похоронах. Жильцы, Мироновы, что на вашей площадке живут, цельный день взаперти сидели. Может, с перепугу, может, еще почему, кто их знает, – рассказывала дворничиха.
– Да бог с ними, с жильцами. Вы, тетя Груша, о жене моей расскажите. Вы видели ее?
– Видела, видела, голубчик. Сама ее у подъезда встренула. Как все разошлись по квартерам, я все стою, жду ее. Знаю ведь, вот-вот должна приехать ваша дорогая супруга. Кабы знала ее в лицо, да знала, в каком она вагоне, сама б на вокзал поехала! – сокрушенно вздыхая, продолжала дворничиха. – Прошел час, что ли, как увели вас, гляжу, а на такси дамочка такая, собою кра-асивая, в хорошем пальте и чемоданчик один маленький, другой поболе. Выходит она, смотрит по сторонам, а глаза удивленные, беспокойство в них. Я к ней. Не вы ли, говорю, будете жена товарища Радина? Она взглянула на меня, побелела вся, глаза сразу круглые стали. А что с ним, говорит, и вся вперед подалась, вот-вот упадет.
Взяла я ее чемоданы и говорю: – Не волнуйтесь. Пойдемте ко мне, он сейчас придет. Не может быть, говорит, не может быть. Что-то случилось. – Нет, нет, говорю, не волнуйтесь, а у самой слезы закапали. Пришли ко мне. Поставила я чемоданы на пол, взяла ее за руки, а они холодные, как лед, прямо вся дрожит. Арестовали его, только что… час назад. – сказала я. Хотела, дорогой товарищ Радин, подготовить ее разными там словами да намеками, но не выдержала, обняла ее да как зареву. Я плачу, а она молчит, ни звука, ни слезинки. Меня даже оторопь взяла. Испугалась я. Милая, говорю, голубушка, не отчаивайся. Может, господь смилостивится, отпустят. Ничего, ни слова, молчит и все в одну точку смотрит, ни слезинки, только еще белее стала. Молчала она, молчала, потом как заплачет: «Я знала это, знала!» А чего «знала», я и не поняла. Вижу, залилась она слезами, легче ей, значит, стало, горе-то слезами отойдет. Сидим мы, плачем обе, а тут еще и Шурка, тоже ревет-заливается.
Потом рассказала я вашей дорогой все, как было. Как ждали вы ее, какволновались. Опустила она голову, слушает, молчит, а слезы такие тяжелые из глаз капают. Пробыла она у меня всего-то час.
– Куда она поехала отсюда? – дрожа от волнения, спросил Радин.
– Не знаю. Привела Шурка ей такси, обняла она меня и говорит: «Спасибо вам, тетя Груша. За себя, за мужа, за все спасибо».
– Адреса не оставила?
– Нет. Да и не до того ей тогда было. Говорит со мной, а сама все думает, думает о чем-то. Видно, любила она тебя крепко, на всю жизнь любила.
– И больше не слышали о ней?
– Нет, товарищ Радин, ничего. Видно, уехала она куда-то.
– А письмо, письмо же от нее получили, – сказала Шура.
– Письмо? – воскликнул Радин.
– Письмо, верно, было, как же я забыла про него, – развела руками тетя Груша. – Да, вроде как еще до войны пришло оно. Ты не обижайся на нас, товарищ Радин, но мы его уничтожили, как получили да прочли. Боялись мы. Ведь потом что тут про тебя говорили, не приведи господь. Будто – она пригнулась к уху Радина – на самого Сталина покушение готовил. Ну, мы со страху и сожгли письмо.
– Я не обижаюсь, понимаю все. А что было написано в письме и откуда оно было послано?
– Это уж пусть дочка скажет, она и помнит лучше.
– Письмо было из Ленинграда. Написано, наверное, в 1939 году, да, точно, когда еще финская война была. Письмо со штемпелем «Ленинград», но воинское, без марки. И адрес был на полевую почту. Спрашивала, нет ли каких о вас сведений, не вернулись ли вы. Просила сообщить ей.
– Значит, тогда она еще жива была и на свободе, – задумчиво проговорил Радин.
– Жива и служила в армии. Вы же мне говорили, что она врач, ну, ясно, ее и мобилизовали в армию.
Посидев еще немного, Радин встал.
– Ну, спасибо за новости, дорогие. Хоть что-то узнал о Соне.
– Оставайтесь у нас, товарищ Радин, – предложила Шура.
– Спасибо, но тут я проездом, с фронта на фронт. Буду жив – увидимся, а вот это – вынимая из мешка банку тушенки и полбуханки черного хлеба, сказал Радин – возьмите, пожалуйста.
– Да что ты, товарищ Радин. Будем мы у солдат, защитников наших, паек отбирать, – замахала руками дворничиха.
– Пустяки. У солдата еще есть, его в любом комендантском по аттестату накормят, – обнимая ее, сказал Радин. – До свиданья, дорогие.
– Герой! – глядя на орден и медаль, восхищенно сказала тетя Груша. – Они тебя шпиеном да бандюком обвинили, а ты за геройство смотри какие награды получил.
– Бывает, все бывает, тетя Груша.
Теперь надо было идти в ПУР РККА.
– Итак, Соня была жива, письмо было военное, с номером полевой почты.
Радин несколько раз останавливался, чуть ли не вслух рассуждая обо всем. Письмо! Значит, и спустя три года Соня была одна, продолжала думать о нем, искать его. Нет, она не вернулась к Четверикову, и страшная участь семей военнослужащих, попавших в начале войны в немецкие лапы, не коснулась Сони. Но где же, где она? Если жива, то, может, в осажденном Ленинграде работает в армии зубным врачом?
И эта шаткая версия вдохнула в Радина надежду и покой.
Начальник отдела печати, полковник Баев, худощавый человек, с острым, внимательным взглядом, встретил Радина с приветливой, чисто военной четкостью в словах и действиях.
– Я знаю о вашем прошлом, но его больше не существует. Вы гвардии майор, орденоносец, отличившийся в боях с неприятелем. Писатель. Сейчас военные писатели нужны в армейских и фронтовых частях. А куда б вы хотели?
– Если это возможно, то в любую, хотя бы дивизионную газету Ленинградского фронта, – ответил Радин.
– Туда нельзя. Во-первых. Ленинградская писательская организация до войны была очень значительна, и теперь писатели в армии и флоте защищающих город. Да и блокада.
– В таком случае куда угодно. Служить Родине можно на любом фронте.
– Правильно! – похвалил его Баев. – Я направляю вас в распоряжение Военного Совета Юго-Западного фронта, а там, если захотите, будете работать в любой армейской газете.
Спустя час гвардии майор Радин уже имел предписание ПУР РККА о немедленном отбытии из Москвы к месту своей новой службы.
– Когда прикажете ехать, сегодня или завтра? – спросил он полковника, втайне желая второго.
– Завтра вечером. Ведь вы москвич, и лишний день в столице не повредит делу победы, – пошутил Баев.
Радин ушел от него полный благодарности за простой, товарищеский, хоть и подчеркнуто официальный прием, К числу хороших людей, которым он в уме вел список, прибавился еще один – полковник Баев, ничем не напомнивший бывшему штрафнику о его тяжелом прошлом.
День прошел в скитаниях по улицам Москвы, в воспоминаниях. Шел ли он по Арбату, по улице Горького или, как он ее звал раньше, Тверской, – всюду было прошлое, его детство, юность.
Заглянул он и в Союз писателей по улице Воровского. Здесь было непривычно тихо. И мало знакомых.
«Как все быстро забывается в этом мире», – с горькой усмешкой подумал он. Словно никогда и не было никакой прежней жизни…
Радин поднялся по каменной лестнице и, еще раз проверив адрес, позвонил у двери. Открыла ему пожилая, полная женщина с утомленным лицом.
– Кого вам?
– Простите, быть может, я ошибся, но мне нужна семья инженера Притульева, – тихо сказал Радин.
Женщина испуганно глянула на него и быстра, взволнованно сказала:
– Я жена инженера Притульева… а кто вы? – и не давая ответить Радину, заговорила: – Вы что-нибудь знаете о нем? Вы пришли с какими-нибудь известиями?
– Нет, – тихо, опуская голову, сказал Радин, – к сожалению, я сам хотел узнать от вас об Александре Лукиче.
– Да кто вы? – после недолгой паузы спросила женщина.
– Я сидел в одной камере с вашим мужем, – проговорил Радин, – около двух месяцев на Лубянке. Потом был в Воркуте, затем в ссылке и полгода назад попал на фронт.
Женщина молчала, выжидательно глядя на него.
– Когда меня, после приговора отправили в Воркуту, я дал слово Александру Лукичу, что если буду жив и когда-нибудь вернусь в Москву, зайду к вам. Правду говоря, я, – Радин помолчал, подбирая помягче слова, – думал, что Александр Лукич уже дома…
– Нет, мы ничего не знаем о нем. Ни-че-го! – с отчаянием сказала Притульева. – Вы первый, кто принес весть о нем. Он жив?
– Не знаю. В тридцать седьмом, в декабре, когда меня увозили в Воркуту, он был жив. Дальше – не знаю, – печально сказал Радин. – Вы простите меня, я понимаю, что своим приходом разбередил ваши раны, но… – он горько усмехнулся, пожимая плечами, – я сам бывший узник; благодаря войне освободился от судимости. Простите меня, но не зайти я не мог. Я дал слово Александру Лукичу.








