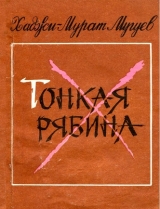
Текст книги "Тонкая рябина"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Понедельник и вторник прошли в хлопотах. Дворничиха, тетя Груша, вместе с дочкой навели блеск и чистоту во всей квартире Радина.
– Это хорошо, Владимир Александрович, что надумали жениться. Давно пора. Уж мы тут по двору не раз обсуждали насчет вас. А кто ж будет ваша невеста? Тоже по вашему делу, али как?
– Врач она, доктор зубной.
– Хорошее дело, – похвалила дворничиха. – А откуда приезжает?
– Из Ленинграда.
Поезд прибывал в половине первого. Другой был вечером, и Радина уже беспокоило, как бы Соня не взяла билет на вечерний поезд. Обед, торт и конфеты были заказаны еще вчера.
Вторник был долгим и томительным. Время ползло так медленно, что Радин стал раздражаться. Вечером принесли телеграмму. «Выезжаю поездом 10 вагон 11 место 4 Москве буду половине первого целую Соня».
– Буду в половине первого, – машинально повторил он. – Все хорошо, надо только как следует выспаться.
– И чего вы такой беспокойный? Ну, прямо как в кино, когда артисты встречи играют. И поезд придет вовремя, и голубушка, жена ваша, в здоровий приедет, и все хорошо устроится – протирая суконкой дверные ручки, говорила тетя Груша.
– Да я не волнуюсь, но ведь… все-таки дорога.
– Понятно, Владимир Александрович. Давайте-ка букет сюда. Я его в воду положу… До поезда еще много, а он у вас в руках повянет.
В дверь позвонили, и дворничиха, держа в руках букет роз, пошла открывать.
В переднюю разом, отстраняя тетю Грушу, вошли два человека в штатском, третий остался на площадке.
– Гражданин Радин? – шагнув к хозяину, удивленному такой бесцеремонностью, спросил один из вошедших.
– Да… а кто вы? – еще не понимая случившегося спросил Радин.
– НКВД. Вы арестованы. Вот ордер на арест, – протягивая какой-то документ, быстро произнес второй. И сейчас же, не давая ему прийти в себя, спросил: – Оружие есть? – и с профессиональной ловкостью обшарил карманы на его груди и брюках.
– Позвольте… какой арест…. За что? – проговорил ошеломленный Радин.
– Тихо! – предостерегающе скомандовал второй. – Стойте на месте. Вы кто будете, гражданка? – обратился он к растерявшейся тете Груше.
– Дворничиха, – глядя округлившимися от страха глазами, еле выговорила она.
– Будете понятой при обыске. Я вас спрашиваю, гражданин, оружие имеется?
– Какое оружие… Вы что, с ума сошли? – обретя дар речи, возмущенно закричал Радин.
– Тихо, я говорю, гражданин Радин… Ордер на арест я вам показал, а виноваты вы или нет, разберут там.
Обыск длился недолго, не больше получаса. Перевернув постель, вывернув чемодан, раскидав книги и белье, агенты забрали рукописи, письма и черновые записи Радина.
– Распишитесь, гражданка, тут, – сказал один из них тете Груше, все еще судорожно сжимавшей в руке букет пышных красных роз.
Дворничиха дрожащими руками вывела свою фамилию в указанном месте и жалостливо поглядела на бледного, поникшего Радина.
– К ним жена приезжает… Через час здесь будет, – прошептала дворничиха.
Агентов это касалось мало.
– Бывает! – небрежно кинул один из них. – Теперь, гражданка, мы запечатаем квартиру и вы никого сюда без нас не пускайте. Идите, гражданин, – обратился он к Радину.
– Да как же так? Как это можно, ведь я же не повинен ни в чем.
– Идите, гражданин, вперед и не разговаривайте. Обыск окончен.
Агенты опечатали сургучной печатью дверь и под испуганные, соболезнующие взгляды соседей свели Радика вниз к автомобилю. Спустя час он уже был в одиночной камере.
Восемь долгих дней и ночей он провел в узкой темной щели, именовавшейся одиночной камерой. Кто и для чего строил такую узкую, крохотную комнатенку-нору без окон и света? И зачем надо было сажать в нее человека, только заподозренного в чем-то? Это первое, что должно было прийти в голову каждому, кто в качестве туриста или любопытного мог бы когда-нибудь позже осматривать эти страшные одиночки. Но Радин думал о другом. Как там Соня? Что теперь будет с нею? Может, и ей грозит то же… Но почему, почему? Ведь она же еще не жена ему. Страх за Соню вытеснил все другие чувства.
А дни шли, и кроме безмолвного, как кирпич, надзирателя, то приносившего ему жалкую еду, то подолгу глядевшего в «глазок», никого и ничего не была.
Стены камеры давили, тишина угнетала, воздух был сырым и спертым.
«Как в могиле… – думал Радин. И опять в отчаянии повторял: – Соня… Соня… Только бы знать, что ее минула эта чаша».
Шли дни, а его не вызывали. «Точно забыли обо мне», – в ужасе думал Радин. Вскочив с пола, он кидался к окованной железом двери и долго стучал в нее кулаками, потом, отбив пальцы, – ногами, но никто не являлся. И только время от времени в «глазок» посматривал «немой» надзиратель. Отчаяние, страх и неожиданная жалость к себе охватывали Радина. Он бился головой стены, кричал, выкрикивал даже ужасные ругательства, но стены одиночки молчали.
Если бы не мысли о Соне, о ее судьбе и крохотная надежда на справедливость, Радин разбил бы себе голову о стены одиночки. Но жизнь всегда сильнее смерти. А любовь вселяла надежду.
«Ведь разберутся же они… Ведь я же ничего плохого не сделал… За что меня могут осудить? Конечно, разберутся», – думал Радин, и ему снова хотелось жить. Только на девятые сутки Радина под конвоем привели на допрос. Всего ожидал он – доноса, клеветы, неосторожно сказанного слова, политического анекдота… Но то, что ему сообщил следователь, лишило его дара речи.
– Вы шпион, – безапелляционно заявил следователь. – Расскажите без утайки, кто завербовал вас, за сколько и с кем вы встречались на границе, когда ездили в Бугач под видом командировки.
Спустя час его привели обратно в одиночку. Но теперь это был другой Радин, ясно осознавший, что ни о каком выходе на свободу не могло быть и речи.
Ни слова, ни доводы, ни логика, ни ссылки на документы и уже напечатанный в журнале очерк здесь не имели никакого значения.
Следователь не слушал его. Он требовал одного – признания вины и полного отчета в том, кто и как сделал Радина шпионом.
– Я такой же шпион, как и вы, – возмутился Радин. Но следователь только ухмыльнулся.
– Все так говорят, и все потом оказываются виновными, сознаются! – многозначительно, нарочито медленно сказал он. – А теперь обратно, в; одиночку. Подумайте сутки или двое. Вам же лучше будет. Ты слышал фамилию Купанов? – вдруг резко меняя тон и обращение, сказал следователь. – Так это я! Ты еще узнаешь меня, гад! Увести его!
Одно было хорошо во всем этом ужасе – следователь ни разу не спросил о Соне, ничего не говорил и о Четверикове. Эти люди не интересовали его. И эта еще не подтвержденная и слабая надежда немного утешила Радина.
– Буду ждать… надеяться и бороться, – твердо сказал он себе и впервые за эти девять суток лег спать без отчаяния и страха.
Еще два раза водили его к следователю. И спять следователь ни словом не обмолвился о Соне, хотя держался грубо, орал, стучал кулаком по столу и угрожал Радину.
– Я никогда не был шпионом. Я русский человек, советский, люблю свою Родину. Подыщите лучше что-нибудь другое, – спокойно сказал Радин, когда следователь очередной раз заговорил о шпионаже.
– Я тебе покажу советский… – выходя из себя, вскочил следователь. Но увидев, что Радин рывком схватил стул, отступил и лишь мрачно сказал: – Ты еще пожалеешь об этом, контра. – Он позвонил, и в комнату вошли трое здоровенных, одетых в штатское людей…
Он пришел в себя в одиночке. Полдня просидел: в забытьи. Болела голова, от боли сводило руки… И хотя страх перед все более неясным будущим тревожил его, он теперь был почти уверен, что Соня на свободе.
Может быть, вернулась обратно к мужу? Нет, Соня не сделает этого… Скорее всего, она в Ленинграде, у матери.
Странное дело, там, на свободе, когда он узнавал об арестах, холодок страха и беспокойства охватывал его. Было страшно и когда его привезли сюда. Но теперь, поняв свое положение, он больше не чувствовал страха.
На шестой раз его допрашивал другой следователь. Он тоже был сух, не был расположен верить словам Радина, но что-то другое, не похожее на Купанова, было в нем.
Потом уже, вернувшись в одиночку, Радин понял, что его отличало от предшественника. Он не кричал, не угрожал, задавал четкие вопросы и, получая ответы, не перебивал, а вслушивался в слова обвиняемого. В его допросе было видно желание не только обвинить, но и разобраться в пунктах обвинения. И судя по вопросам, по манере говорить, по интонации голоса, он был более культурным человеком.
Новый следователь тоже ни разу не упоминал Сони. Он тщательно расспрашивал Радина о причинах поездки на границу, справлялся о «Красной нови», в котором был напечатан очерк о поездке. Говоря о журнале, назвал фамилию редактора и двух-трех писателей, сотрудничавших в журнале.
Было видно, что этот человек внимательно относился к следствию, вникал в дело, и был следователем, а не спец по «шпионам».
Прошло еще два дня, и Радина перевели в общую камеру. Это было, по утверждению долго сидевших здесь заключенных, хорошим признаком.
– Следствие кончается. Скоро получишь срок – на работы, – сказал староста камеры.
Но проходили дни, исчезали некоторые из старых, прибывали новые, принося путаные, порою невероятные слухи «с воли», а Радина больше не вызывали на допрос. В камере он сдружился с некоторыми заключенными, а больше всех с москвичом, инженером Притульевым, пожилым, спокойным, уравновешенным человеком. Притульева арестовали второй раз. Первый раз – в 1930 году, когда он вернулся из заграничной командировки. Продержав три месяца, его отпустили. Он был нефтяником, крупным специалистом, его не раз повышали в должности.
– Теперь одиннадцатый месяц отсиживаю, – с горькой усмешкой сказал инженер.
– Может быть, и теперь так же отпустят.
Инженер покачал головой:
– Не те времена. Сейчас этого почти не бывает, а вот то, что у вас другой следователь Костин, это хорошо. Купанов – зверь, об этом знают все заключенные.
– А вы знаете Костина?
– Нет, но слышу тут от некоторых заключенных, что добросовестный и справедливый человек.
– Тебе повезло, новенький, – слушая их разговор, вставил староста камеры, бывший железнодорожный кассир. – Купанов подлюга, дал бы бог на воле с ним встретиться.
Прошла еще неделя. Радин уже свыкся с бытом камеры. Жизнь на виду была куда легче одиночки, тут ее скрашивало то, что возле него были, порядочные, честные люди.
Прошло еще несколько дней, и Радиным постепенно овладела апатия. Ни звука с воли, ни одного слова. Особенно тяжело было, когда кому-то приносили передачу. Радость, оживление, – этими скупыми весточками с воли жили заключенные, по каким-то только им понятным деталям они определяли благополучие родных. Эти весточки иногда вызывали и скорбь, но всегда заполняли их души.
Только Радин да еще старик-колхозник откуда-то из-под Костромы не получали ничего.
Видно, все уже кончено и с жизнью, и с Соней, – с отчаянием думал Радин, тщетно ожидая вызова на допрос.
Время шло, почти половина камеры уже получили «сроки». Но однажды, когда он уже потерял всякую надежду, вызвали и его.
– Все, что вы тут рассказывали нам, ничего не стоит. Все враги народа разыгрывают невинность… И вы тоже, но… – тут следователь сделал паузу, – но…
Радин молчал, с тупой покорностью смотрел на него. Теперь ему было все равно, что сделают с ним. Хуже того, что было, быть не могло.
– …мы проверили все-все! – поднимая брови, повторил следователь. – Много путаного и неясного было в ваших словах и делах. И самое главное, ваша поездка на границу.
«Самое светлое в моей жизни», – подумал Радин, почти не слушая рассуждения следователя.
– Но вот, – тут следователь вынул из папки какую-то бумагу. – Вот сообщение, которое проливает свет на ваше посещение границы, – держа в руке бумагу, он внимательно глянул на Радина – написано полковником Четвериковым, ответ на наш запрос о ваших действиях в пограничной полосе.
Безразличный, почти не вслушивающийся в его слова, Радин очнулся. Широко раскрыв глаза, он впился взглядом в следователя. Тот иронично усмехнулся.
– Теперь мы знаем, что заставило вас задержаться в Бугаче. – Он уже с любопытством смотрел на переродившееся лицо Радина. Что-то светлое, похожее на человеческое сострадание, показалось и в глазах следователя, так жалок и так счастлив был в эту минуту Радин.
Секунду следователь молча следил за ним, потом тихо сказал:
– Полковник Четвериков не чета другим. Он пишет о вас как о достойном человеке, ни в чем не запятнанном, ни в чем не заподозренном в течение всего срока пребывания в Бугаче.
Круги заходили перед глазами потрясенного, готового закричать, завыть от нахлынувших чувств Радина.
– Я даже прочел ваши книги, когда получил характеристику Четверикова, – глядя в окно, сказал следователь. – Пишете вы хорошо, а вот поступили с человеком плохо… скверно! – и, поворачиваясь к неподвижно сидевшему Радину, сказал:
– Следствие закончено, – и уже совсем тихо произнес: – Думаю, что напишете еще немало книг.
Он позвонил.
Радин все сидел в той же позе, все с тем же жалким, смятенным лицом.
Полночи просидел он на нарах. Ни спертый воздух, ни сонные вскрики, стоны или жалобные всхлипыванья не отвлекали его от дум.
Соня… Смерть, ссылка в Сибирь, на Колыму или Магадан, – все теперь было второстепенным и мелким. Великодушие и честность Четверикова заставили по-другому смотреть на испытания.
– Спи, Владимир… прикорни как-нибудь и попробуй уснуть, – чуть касаясь его руки, сказал Притульев.
– Не могу, – еле слышно прошептал Радин.
– Тебя били? – спросил инженер.
– Нет… Мне показали письмо человека, у которого я отбил… – он поправился: – увел жену.
– И что он? – широко открывая глаза, спросил Притульев.
– Он написал, что я… что я честный человек, не способный на… подлость. – И Радин коротко рассказал о событиях последних месяцев жизни на свободе.
В камере было душно и смрадно. Кто-то храпел, рядом на нарах лежал с открытыми, устремленными в потолок глазами старик, кто-то тихо плакал в углу.
– Теперь ждите срока, – выслушав его, сказал инженер. – Думаю, что он у вас будет недолгим. Не со всеми следователи ведут такие беседы и показывают присланные письма. Вам повезло, я сижу уже второй раз, опыт кое-какой имею. Думаю, что дадут вам лет восемь или даже пять… Если высылки, то это будет счастьем.
– Пять… высылки? – в испуге повторил Радин.
– Ну да. Когда ничего нет, – дают пять. Оправданий здесь не бывает. А теперь давайте спать. Утро вечера мудренее, а в тюрьме особенно.
Только к утру Радин забылся легким сном, на уже в шестом часу камеру, разбудил надзиратель.
За дверью раздавали «пайку». Старший по камере выкрикивал фамилии заключенных, передавая каждому жалкий паек: кусок сахара, четыреста граммов черного хлеба и кусочек селедки.
– Вас сегодня увезут отсюда, – наливая в кружку бурый чай из большого жестяного чайника, сказал инженер. – Если выйдете когда-нибудь на волю, разыщите, прошу вас, – отпив глоток, инженер замер. – Разыщите мою семью. Жена, сын и дочь живут… – он назвал московский адрес… – Не забудете?
– А вы? – вместо ответа спросил Радин.
– Вряд ли. Одиннадцать месяцев ареста, этапы, переброски, допросы… – он махнул рукой. – Мне, голубчик, пятьдесят девять. Так не забудете адреса?
Едва Радин допил свой чай, как в «глазок» кто-то грубо и непонятно крикнул: «Радин, собирайся с вещами!»
– Кого… кого? – заговорили заключенные.
– Какого-то Ряшина, – хмуро сказал сидевший ближе всех к двери парикмахер.
– Это вас, голубчик… – сказал инженер.
Дверь полуоткрылась.
– Ну, долго собираться будешь… – спросил надзиратель, глядя на Радина.
– Так это Радин, а вы спрашиваете Ряшина, – пряча кружку в свой мешок, сказал Притульев.
– Тебя не спрашивают, не разговаривать! – рявкнул надзиратель.
Радин взял свой сверток.
– До свидания, товарищи. Дай вам бог добра, – с трудом сказал он, прощаясь с примолкшими товарищами по камере. – А вам, дорогой Александр Лукич, спасибо.
Потом ему прочли приговор «тройки». Восемь лет изоляции. Из них три года в лагере на «исправительно-трудовых работах» и затем пять лет высылки, под надзор органов в отдаленные места Союза. С прошлым, как и с надеждами на свободу, было кончено.
Потом пошли этапы. Томительные дни и ночи в пересыльных тюрьмах, долгие стоянки тюремных вагонов на запасных путях, почти голодные дни, новые места и даже неожиданные встречи.
Так, на этапе, в пересыльной тюрьме под Сызранью, он на двадцатиминутной прогулке увидел во дворе тюрьмы Артемьева… Того самого Артемьева, который всего полгода назад выступал в Союзе писателей по поводу арестов, сравнивая их с очистительной бурей, пронесшейся над Москвой.
«Интересно, что думает он сейчас? Оправдывает ли аресты, как в тот вечер? Или понял кое-что?» – шагая вместе с другими, думал Радин, не сводя глаз с унылой, потерявшей прежнюю осанку, фигуры Артемьева.
За это время Радин насмотрелся так много человеческого горя, так много испытал и перевидел, а главное, передумал, что уже другими глазами смотрел на мир и на людей, населяющих его.
Но даже в самые горькие минуты он думал о Соне, и это было тем живительным родничком, что заставляло его жить. Этапы, пересылки, дни и ночи, ночи и дни. И, наконец, Воркута… Край вечной мерзлоты, где земля на три метра тверда, как кремень, где полярная ночь тянется месяцами, где в лесах стоит первозданная, мистическая тишина, где люди умирают тысячами в изнурительном, уничтожающем человека труде.
Но Радину повезло. Уже на третий день, по прибытии в лагерь, его вызвали в санчасть.
Он уже не удивлялся ничему, и все же дальнейшие события немало взволновали его.
– Садитесь, – указывая на табурет, сказал ему человек в белом халате. – Я главный врач лагерного лазарета Карсанов, тоже заключенный. Дело в том, что у меня есть возможность взять в лазарет несколько человек, имеющих какое-либо медицинское образование.
– Но я окончил военное училище и не занимался… – начал было Радин.
– Вот этого никому не говорите, – перебил его Карсанов. – У вас есть шанс спастись от гибели, и надо его использовать. Когда будут заполнять на вновь прибывших анкеты, скажите, что вы были студентом медфака. Мне тогда легче будет забрать вас сюда.
– Но ведь я ничего не смыслю в медицине.
– Первые два-три месяца вы будете числиться как санитар-инструктор, а дальше работайте с нами, наблюдайте, учитесь, через год станете заправским фельдшером. Повторяю, это единственная возможность уцелеть. Вы еще будете писать на свободе хорошие книги.
Радин удивленно глянул на него.
– Я знаком с вашими произведениями, почти все читал. И когда я просматривал списки заключенных, чтобы подобрать помощника, прочитал вашу фамилию. Зовут меня Иналук Исламович, так и называйте меня. Я – осетин по национальности.
Через два дня Радин уже работал санинструктором в лагерном лазарете. С утра и до восьми часов вечера он находился там, а ночь проводил в бараке вместе с остальными заключенными. Спустя месяц ему было разрешено во время дежурства не только ночевать в лазарете, но даже «передвигаться» по территории лагеря.
Много хороших и честных людей встретил Радин в лагере. Были, конечно, и дрянные, но честных и благородных было куда больше. Они и помогали Радину в самые трудные для него часы жизни, научили верить в будущее.
Через неделю, когда Радин старательно осваивал работу санитара, его вызвали к начальнику лагеря.
Карсанов, хорошо знавший, что просто так заключенных не вызывают, предупредил его:
– Настаивайте на том, что вы студент-медик. Вероятно, кто-то донес. С этим человеком будьте осторожны и по возможности почтительны, он самодур. Главное, не забудьте – вы студент-медик.
Конвоир провел Радина через лабиринт проходов и поворотов, затем молча ткнул в плечо, указывая пальцем на левую сторону дома, отстоящего далёко от служебных помещений лагеря.
– Стой тут, – коротко приказал он и осторожно просунул голову за дверь, вполголоса доложил:
– Привел… Разрешите впустить.
– Давай сюда, – послышался голос через приоткрытую дверь.
– Иди вперед! – приказал конвоир.
Радин вошел. В первой комнате, нарядной и хорошо обставленной, не было никого, дверь во вторую была приоткрыта. Был виден стол, мебель, пахло свежесваренным кофе, еще чем-то вкусным, уже почти забытым Радиным.
– Это ты и есть Радин? – поворачиваясь на круглом вертящемся стуле, спросил полный, лысеющий человек лет сорока.
– Радин, гражданин начальник.
– Т-а-а-к… И откуда знаешь, что я начальник?
– Конвоир вызвал к вам.
– Смышленый, раскумекал, – оглядывая заключенного, сказал начальник. – Точно, я и есть начальник, Иван Васильевич Темляков, а еще, как меня называют, Иван Грозный. Слышал?
– Никаю нет. Я ведь только прибыл…
– И уже жулик, сукин сын, обманом начал лагерную жизнь… Ну, говори, кто тебя подучил в лекари податься, – вставая и медленно подходя к Радину, спросил «Иван Грозный».
– Никто. Я действительно студент-медик…
– Врешь, мерзавец! Я таких, как ты, за версту чую, недаром пять лет со всякой сволочью вожусь. А ты иди! – поворачиваясь к конвоиру, приказал он.
– Слушаюсь! – исчезая в дверях, выкрикнул тот.
– Так никто, значит. А на воле, на гражданке, ты тоже лекарем был?
– Не был… Книги писал, литературой занимался.
– Так чего ж ты, гад собачий, себя за студента выдаешь?
– Не выдаю, а так оно и есть… Я писатель, но и медицину люблю. В вечернем обучался…
– Врешь, – остановил его начальник. – Меня браток, не надуешь, – и он завертел перед самым носом Радина указательным пальцем.
– Я говорю правду, гражданин начальник.
– Кто тебя научил врать, я тебя спрашиваю? Ты что, думаешь, я такой уж неотесаный Митюха, что не понимаю, что писать книги и людей лечить невозможно, – вдруг закричал «Иван Грозный». – Ну, что молчишь, гад? Нечего ответить? Я, брат, на три аршина сквозь землю вижу, меня не обманешь…
– Я не обманываю, только должен вам напомнить, что Чехов был врачом и писал одновременно книги. Доктор Вересаев тоже был отличным врачом…
– Врешь ты все, – чуть опешив, сказал начальник лагеря.
– Говорю правду, проверьте, пожалуйста. А Нарком здравоохранения, товарищ Семашко, тоже оставил после себя ряд литературных произведений – новеллы, мемуары…
– Са-машко? – в раздумьи переспросил «Грозный».
Начальник лагеря был озадачен. Он потер переносицу и уже спокойнее спросил:
– Значит, ты тоже хочешь, как Чехов?
Несмотря на сложность ситуации, Радин еле сдержал улыбку.
– Если б я писал, как Чехов, конечно, медицину оставил бы, но… – он развел руками, – куда мне до Чехова…
– О, вот это я люблю, – вдруг преображаясь, сказал начальник. – Что скромный, – пояснил он. – Кто скромный, тот еще не потерянный для нас человек, может еще выправиться и со временем опять пользу людям принести… Ты, видать, из таких.
Он сел снова за сто л, глотнул кофе и через плечо крикнул куда-то в третью комнату:
– Маша! Иди сюда, подогрей кофе, да вот на своего писаку полюбуйся. Это жена моя, – с неожиданно доброй улыбкой сказал он, – она твои книги читала, говорит – талантливый, хороший писатель.
Я вот потому тебя и вызвал, думал, ты хвастун, зазнайка какой, а ты ничего, скромный.
В комнату вошла молодая, лет тридцати женщина с простым приветливым, лицом.
– Познакомьтесь, вот он, твой Радин, – чуть насмешливо, но мягко сказал начальник лагеря.
– Здравствуйте, – подавая руку смутившемуся от неожиданности Радину, сказала она. – Я Мария Ивановна, жена Ивана Васильевича. Вы не придавайте значения его брани, это… – она махнула рукой, – по положению.
– Но, но, Маша, не порть его, а то из-за твоих слов как бы в карцер не угодил.
Радин неподвижно стоял, ожидая чего угодно, – и доброго, и дурного.
– Так вот что, я вызвал тебя для проверки, но раз ты и медик, и писатель – твое счастье. Убедил ты меня. Валяй, будь и тем, и другим, только вот что… Скажи ему сама, Маша, – обратился он к жене.
– Дело в том, что у меня здесь большая библиотека, тысяча с чем-то томов…
– Она любительница книг, все время читает да деньги на них тратит, – не без самодовольства сказал начальник.
– …а порядка нет; их бы надо тематически объединить, переписать и уложить на полках по алфавиту и темам…
– Во, во… по темам, – поддакнул муж.
– Времени у меня, да и знаний для этого нет, вот если б вы, товарищ писатель, согласились привести библиотеку в порядок…
– Согласились… – недовольно повторил «Иван Грозный». – С завтрашнего утра за дело, и все! Понятно? – обернувшись к Радину, строго сказал он.
– Понятно. Я с радостью возьмусь за это.
– Молчи, тебя не спрашивают, с радостью или как… Делай дело, и все, понятно? – и не дожидаясь ответа, он продолжал: – Ну, а раз ты еще и медик, так мешать тебе в этом не буду. Сделаем так: с десяти до четырех работай здесь, укладывай книги; наводи порядок, а с шести и до десяти – в околодке, лечи, а то и калечь арестантов, – засмеялся начальник. – Я отдам сейчас приказ, и с утра приступай к делу.
– Слушаюсь! – радостно выкрикнул Радин.
Он ждал, что его сейчас же уведут обратно, но Мария Ивановна отвела в угол мужа и что-то тихо сказала ему.
– Не положено, Маша, знаешь ведь, как обернуться может, – стал отговаривать жену начальник, но она настаивала на своем и он, махнув рукой, сказал: – Ну ладно, разве вас переговорить…
– Вот что, писатель, Маша – душевный человек, ей бы не в лагере начальницей быть, а в детской больнице няней… Я вот сейчас допью кофе, и уйду, ты тоже попей, небось, давно настоящего не пил, а Маша о-о, какая мастерица кофе варить… Выпей, а через пятнадцать минут я зайду и отправлю тебя обратно в околодок. Только ежели жалеешь себя и хочешь добра и себе и нам – ни-че-го про кофе, про разные там булки-мулки, ни-ко-му не говори, почему, сам знаешь….
– Спасибо… да я не хочу кофе…
– А я тебя не спрашиваю, хочешь или нет, пей, ешь, да помни, что я тебе сказал, – уходя, повторил начальник лагеря.
– Вы ешьте, прошу вас, – придвигая к Радину тарелку с пирожками и булочками, сказала Мария Ивановна, – позвольте, я налью вам еще стакан, – предложила она, когда спеша и обжигаясь, Радин быстро выхлебал свой кофе.
– Благодарю, я больше… – начал было он.
– Пейте, товарищ Радин, и не спешите. Иван Васильевич совсем не такой грозный и страшный человек, каким ему хочется казаться, – она вздохнула. – Вам с молоком?
– Если можно, черный и без сахара, – растерянно ответил Радин.
– Пожалуйста, я сама люблю черный да горячий крепкий кофе. Пожалуйста, – придвигая к нему стакан и пирожки, ответила она. – Нравы здесь такие… Но прошу вас, в дальнейшем не перечьте ему ни в чем. Он любит иногда вести беседы на всякие темы… Лучше молчите или соглашайтесь с ним.
Спустя несколько минут пришел и сам Темляков.
– Готов? – казенным голосом спросил он.
– Так точно! – вытягиваясь перед начальством, – ответил Радин.
– Иди в околодок, приказ о тебе дан, завтра к десяти приступай к работе. Увести его! – обернувшись к конвоиру, сказал он.
Шагая по лагерному двору, Радин так пожалел себя, что будь он один, непременно разрыдался бы от тоски и унижения.
Доктор молча взглянул на него, но ничего не спросил. В околодке было много больных и посторонних лиц из служебного персонала.
Позже, в обеденный перерыв, Радин вполголоса рассказал о причине вызова к начальнику, о кофе он умолчал, только сказал, что жена начальника лагеря показалась ему доброй и интеллигентной женщиной.
– Кажется, да. О ней всё отзываются хорошо, но, дорогой мой, вы писатель, значит, психолог… Будьте осторожны, не доверяйте здесь никому: первые впечатления часто обманчивы. Что касается «Грозного», то он не только самодур, он вообще психически не совсем нормальный человек. Безнаказанность, полное бесправие заключенных, абсолютная власть над ними разрушает и более сильную психику, чем у него. Она дала вам полезный совет, больше молчите, не высказывайтесь без необходимости и не перечьте ему. Как все неполноценные люди, он считает себя, особенно здесь, самым умным, самым советским, самым непогрешимым. Этот человек может неожиданно и погубить и спасти вас.
Так началась лагерная жизнь Радина. Иногда его предупреждали, чтобы он не являлся на работу в библиотеку. Это значило, что из Гулага в лагерь наезжало какое-то высшее начальство и останавливалось у «Ивана Грозного». Уже за несколько дней до этого скреблись и чистились полы, нары, входные двери, уборные, все ходили подтянутые, с сосредоточенными лицами, наиболее строптивые, в ком не было уверено начальство, отправлялись на дальние работы или в карцер. В такие дни Радин с утра до вечера работал в больнице, иногда доктор Карсанов давал ему возможность вести самостоятельный осмотр больных. Два других врача, тоже из заключенных, охотно помогали ему.
Однажды, когда он дописывал уже второй экземпляр каталога, книг, к нему вошел сам «Грозный». Начальник был без кителя, в белой рубахе с расстегнутым воротником и благодушно настроенный.
– Работай, работай… пиши, а я посижу возле, побалакаю с тобой… – он засмеялся, – день рождения у меня.
– Поздравляю вас, гражданин начальник, – сказал Радин.
– Чего поздравлять-то. Сорок второй пойдет, годы бегут… – Начальник улыбнулся. – Да-а… скоро и в старики запишут. А ты на военном в каком звании был?
– Старший лейтенант.
– Эх, промашку дал, зачем уходил в запас?
– Писать хотел, гражданин начальник.
– Ну и дурак. Был бы теперь майором, и на воле, а вот книги и довели тебя сюда.
Радин молчал.
– А человек ты неплохой, вот уже сколько ты здесь?
– Семь месяцев, гражданин начальник.
– Семь… – задумался «Грозный». – Семь… Наблюдаю я за тобой, работящий, не шпана, слово держишь, к людям уважение имеешь, и они к тебе тоже. Я, брат, слежу за тобой, доволен. А знаешь, что я для тебя вчера сделал? – вдруг спросил он.
– Не могу знать, – насторожился Радин.
– А вот знай. Тебя думали в другой лагерь перевести, а я – ни в какую! Нужный, говорю, он здесь человек, дельный, скромный и среди заключенных авторитетный. Нам бы, говорю, еще дать следует, а не отбирать. Ну, наверху послушались. Оставляем, говорят, дай о нем аттестацию. А знаешь, что это значит?
– Нет, – тихо сказал Радин.
– А значит это следующее: будут у тебя две или там три хороших аттестации, так тебе, когда срок придет, не дадут надбавки и за хорошее поведение на поселение куда или в легкую ссылку, понятно?
– Не… совсем…
– Эх ты, фоня-афоня, а еще писатель! Это значит, ежели плох и доверия к тебе нет, то хоть просиди ты сто лет в лагерях, а вместо выхода тебе прибавку лет на пять-десять припишут, понятно? Ну, а если есть хорошие аттестации, то кончил срок, – поезжай на поселение. Во как! Так я о тебе такое написал, что дай бог ближнему, какой ты хороший.
– Спасибо, гражданин начальник, – у Радина отлегло на душе.








