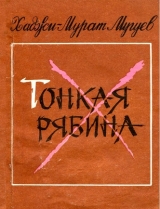
Текст книги "Тонкая рябина"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
– Как вы попали сюда? – наконец спросила она.
– Не знаю… Не знаю. Поверьте, я и не подозревал, что вы здесь, – с трудом выговорил он. – Я никогда вообще не бывал здесь.
Он смотрел в ее глаза и видел, что она не слышит, не понимает его слов. Лицо ее было даже чуть сурово и удивительно красиво в эту минуту.
– Я люблю вас, – сказал Радин. Безнадежность, боль и тоска охватили его, и он в отчаянии повторил: – Я люблю вас…
Радин видел, как ее лицо светлело. По нему словно пробежали солнечные лучи. Они молча стояли друг против друга, и какая-то стена, их разделявшая, отходила в сторону, рассыпалась.
– Я, кажется, тоже… – скорее вздохнула, чем проговорила Софья Аркадьевна, – тоже люблю вас. С того момента, как вы здесь, я не переставая думаю о вас…
– Родная моя… – растроганно сказал Радин и взял ее за руку.
– Мне теперь часто хочется остаться одной, вот я и пришла сюда. А вы, вы-то зачем пришли сюда?
– А я искал вас… Я не мог не видеть вас, – и он рассказал ей, как почти бегом бежал до ее дома, как капитан Мусяков посоветовал ему пойти сюда.
– Но он ничего не знал. Он просто хотел, чтобы я побродил по лесу.
– Спасибо ему, – сказала Софья Аркадьевна и засмеялась. – А теперь идите в город. Не думайте, что боюсь сплетен. Это, конечно, не нужно, но сейчас не в этом дело… Я хочу остаться одна.
Он пожал протянутую ему руку и молча ношел обратно.
Он не находил себе места. Ходил по номеру взад и вперед, присаживался на стул или кровать, потом вскакивал и подходил к окну, словно надеясь кого-то там увидеть. И все спрашивал себя: как быть дальше?
«Почитаю что-нибудь», – зажигая настольную лампу, наконец решил он. Сумрак надвигающегося вечера уже заползал в комнату. За окнами сгустилась предвечерняя мгла, кое-где зажглись огни. Радин брал с собой в поездки несколько непрочитанных книг. Не глядя, он сунул руку в чемодан, и, нащупав книгу, вынул ее: Ларошфуко, «Максимы».
«В любви, как на войне, каждый воюет за себя», – прочел он, раскрыв наугад книгу. Ему стало стыдно. Нет, полковник Четвериков не заслужил такого жестокого удара. И все же, что делать?
Срок командировки заканчивался. Намаявшись изрядно, измучившись от внутренней борьбы, он решил поговорить с Софьей Аркадьевной.
Радин позвонил в санчасть, попросил Софью Аркадьевну.
– Послезавтра я уезжаю. Я хочу еще раз встретиться с вами и поговорить. Это очень серьезный, – он перевел дыхание, – очень серьезный разговор, – стараясь говорить спокойно, он невольно выдавал внутреннее напряжение.
Она ответила не сразу, словно еще и еще раз взвешивая слова, которые ей предстояло произнести.
Значит, завтра, в обеденный перерыв. У Радина стало легче на душе.
Свидание было коротким и не таким, как представлялось Радину.
– Я верю вам, – сказала она. – Но нам необходимо расстаться. Уезжайте. Только не думайте, что вы разбиваете наше с Григорием Васильевичем счастье. Нет. Для себя я все решила, ваш приезд, может, только ускорил ход событий. – Она подошла к нему так близко, что он почувствовал на своем лице ее дыхание. – Но я люблю вас, мне будет трудно, очень трудно.
Она молча смотрела на него с материнской нежностью, так, как женщины глядят на дорогого, еще такого беспомощного ребенка.
– Ты приедешь ко мне… Ты будешь моей женой, – твердо сказал он.
– Приходите, мы будем ждать вас вечером… а относительно всего остального, – она развела руками, – время покажет.
Она ушла, а Радин еще долго бродил по лесу. Заплутавшись, он только к вечеру вернулся к себе в номер.
На его звонок открыла Софья Аркадьевна.
– Входите, Владимир Александрович, мы ждем вас, – сказала она.
Заглянув в комнату, Радин спросил:
– А где Григорий Васильевич?
– Да его срочно на 41-й километр вызвали, это участок капитана Семина. Но он скоро вернется.
Радин сел у стола, не в силах больше сказать ни слова. Оба молчали. Было так тихо, что слышалось тиканье настольных часов и бульканье воды на кухне.
Он взял ее руку и поцеловал. Софья Аркадьевна, не отнимая руки, долгим взглядом смотрела на него.
– Почему вы так смотрите на меня? – тихо спросил Радин.
Она не ответила, только высвободила руку.
– Вы знаете, что я сюда больше не приеду. Но уехать вот так, ничего толком не выяснив, я не могу.
Лицо Софьи Аркадьевны было бледно. Большие глаза с мольбой смотрели на него.
– Не мучайте меня. Я и без того… мне и так трудно. Это все так непросто.
– Но вдвоем нам легче найти выход из положения. Мы же взрослые люди.
Но она, словно не слыша его горячей речи продолжала:
– Мне тяжело здесь. Конечно, люди тут славные, простые, очень добрые. Но этого, оказывается, мало. Счастье еще и в том, когда жена и муж дополняют друг друга, составляя единое целое, когда они едины в интересах, в чувствах, да и во всем. Одним словом, когда они необходимы друг другу. А без этого – одиноко… Это самое ужасное, что только может придумать жизнь.
Радин вспомнил ночь на заставе, добродушного полковника с его наивными расспросами об «Анне Карениной», и почувствовал острую жалость к этим хорошим, но таким разным, бог знает, зачем соединенным людям.
– Вы не любите мужа? – спросил он.
– Не люблю. Я привязана к нему, благодарна ему за его заботу, любовь ко мне. Но любить – нет, не люблю, – подняв глаза на Радина, медленно и четко сказала она.
– Зачем же вы выходили за него замуж? – удивленно сказал он.
– Милый вы и наивный человек, хотя и писатель. Ну скажите, назовите вы мне хоть одну женщину, которая не хотела бы быть счастливой. Он мне понравился простотой, скромностью. Мне было приятно, что в меня влюбился человек, которого так уважают и ценят за мужество, даже героизм. Он робел передо мной, был застенчив. И даже это нравилось мне. Я была студенткой последнего курса, а он подполковником, боевым командиром, и вдруг – робеет передо мной. Вот и вся история.
Зазвонил телефон.
– Слушаю… Как, ты не приедешь? Утром? Почему? А Владимир Александрович сидит и дожидается тебя… Сейчас я передам ему трубку.
– Алло… Я слушаю вас, Григорий Васильевич.
– Мой дорогой писатель, Владимир Александрович. Не сердитесь на меня, – дела, – донесся откуда-то голос полковника. – Надеюсь, еще свидимся… Приезжайте снова, будем рады, – говорил Четвериков.
– Спасибо.
– Всего вам доброго, успехов, здоровья.
– И вам тоже, Григорий Васильевич. Спасибо за помощь и гостеприимство.
Он опустил голову и закусил губу, так неловко почувствовал себя в этой ситуации.
– Не вините себя ни в чем. Я понимаю вас, – Софья Аркадьевна подошла к нему. – Вам надо идти, Владимир Александрович. Уже пора.
– Но ведь вы не хотите, чтобы я уходил, – медленно сказал он.
– А я и не скрываю этого. Мне дороги часы и минуты, проведенные с вами.
– Моя добрая, моя любимая…
– Не надо. Было бы смешно превращать наши отношения в пошлый гарнизонный флирт. Ни я, ни вы не подходим для этого, – голос ее был спокоен, почти невозмутим, но Радин ясно увидел в ее глазах слезы.
Было уже поздно, когда Радин уходил от Четвериковых. Звезды сверкали в черном куполе неба. Луна только-только поднималась из-за леса и ее серебристо-серое сияние лишь слегка освещало холмы. Из раскрытых окон низких домов слышались голоса, смех. Все было обычным, но ему казалось, что весь мир перевернулся, что жизнь потекла по какому-то другому руслу, и что он не в силах что-либо изменить.
Когда Радин вернулся в Москву, он уже спокойнее вспоминал Софью Аркадьевну.
«Не напишет она мне. Уехал столичный гость, уехала вместе с ним и внезапная любовь», – огорченно думал он, проверяя утреннюю почту. А в сердце теплилась надежда, что она помнит о нем, хочет видеть его. Он с головой уходил в работу, но каждая деталь, описанная в очерке, возвращала Радина к ней. Какая-то могучая, неведомая сила тянула его обратно в места, где жила Соня. Московское лето было еще в разгаре, но близость осени уже чувствовалась во всем, – и в мягком, но уже прохладном воздухе, не успевающем прогреться за день уходящим солнцем, и в золотой паутинке на скверах и улицах. Словом, была середина августа. Со дня приезда Радина в Москву прошло больше месяца, а писем от Софьи Аркадьевны не было. Они приходили от читателей из Сибири, и с Дальнего Востока, и с Кавказа, но того, которого так ждал Радин, – не было.
И опять горькие сомнения тревожили его, и ему даже хотелось забыть об этой встрече, но он не мог, только мучился, страдал, злился на себя и на весь белый свет.
Наконец очерк был окончен и Радин облегченно вздохнул, когда сдал его в журнал. Но уже к вечеру знакомая тоска охватила Радина.
– Надо ехать… надо непременно ехать туда, – ворочаясь с боку на бок и вконец измучившись, решил он.
Телефонный звонок прозвенел отрывисто и гулко.
– Товарищ Радин, вам письмо, из Карело-Финской, – весело говорил девичий голос. – Алё, алё, вы слышите меня, товарищ Радин? Вам переслать его?
– Нет. Я сам приеду за ним, – выходя из оцепенения, закричал Радин.
Он быстро переоделся, кое-как затянул галстук, схватил шляпу и, перескакивая через ступеньку как мальчишка, выбежал на улицу.
Никогда не было это здание таким радушным, как сегодня. И солнце, и пожелтевшая зелень сквера Союза писателей, и стоявшая посреди садика скульптура мудреца, ушедшего в свои мысли, – все было радостно и ярко.
– Это ее почерк… Милая, милая, – повторял он, перечитывая письмо, никак не мог сосредоточиться и плохо понимал смысл написанного.
«Помните ли вы еще меня? Не забыли ли в суете работы и московской жизни? Если даже и забыли, все равно я благословляю тот день, когда вы приехали в наш город…»
В конце письма, уже другими чернилами, была сделана приписка:
«9-го сентября еду к маме в Ленинград. Телефон А-4-11-82».
«Девятого сентября! А сегодня третье число. Еще целых пять дней».
После обеда он пошел в Секретариат, переговорил с управделами.
– Бумаги мы вам заготовим к пятому. Вам на сколько дней нужна поездка?
– На десять, – ответил Радин.
А седьмого ночью он уже садился в поезд.
Остановился он в «Гранд-отеле», тихой, спокойной гостинице, в номере, который он всегда заказывал заранее.
Адреса Софьи Аркадьевны он не знал, но телефон ее родных запомнил так крепко, что, проснувшись среди ночи, мог сразу же назвать его.
Завтра она будет здесь. Еще никогда он не испытывал такого глубокого и тревожного чувства любви. Ведь, казалось, все было хорошо. Соня, он это знал, любила его и письмо написала… Почему же у него так тревожно на душе?
Вечером он пошел в театр. Но ни музыка, ни публика не отвлекли его от невеселых раздумий.
«Я, наверное, сойду с ума. И чего я себя мучаю? Завтра уже все определится», – выходя из театра, думал он. Вокруг проходили люди, веселые голоса заполняли Невский. И никому не было дела до его душевного состояния, да и вряд ли он производил такое уж жалкое впечатление – сухощавый, подтянутый мужчина в расцвете сил, идет себе, прогуливается. От этих мыслей ему стало смешно и он зашагал уже бодрее.
– Дорогой мой, я так рада, что мы опять вместе… – голос Софьи Аркадьевны слегка дрожал.
Радин нежно погладил ее по волосам и бережно, так, как целуют ребенка, поцеловал в лоб.
– Соня, я тоже счастлив. Но… у тебя муж. Ты решишься на развод?
– Наверное, – в каком-то задумчивом оцепенении ответила она.
– Знаешь, Соня… Давай мы сделаем это теперь, поедем вместе в Бугач, и я скажу ему, что мы любим друг друга. Это будет честнее, чем таить от него наши отношения. И ты будешь моей женой.
– Пойдем в город, – она поменяла тему. – Я так соскучилась по родному Ленинграду.
Через минуту, молодые, счастливые, они сбегали по лестнице в город. Им нравилось все: и пожилой швейцар, распахнувший дверь, и залитая солнцем улица Гоголя, и дома, и вообще вся жизнь шумного города – все было частицей их счастья. Стальной гранит набережной, неторопливые воды спокойной Невы, адмиралтейская игла, мост и катера навевали неторопливые, размеренные мысли.
Радин гладил пальцы женщины, молча смотревшей на тихие воды Невы, на громаду домов, теснившихся на том берегу.
– Как странно. Всюду движение, люди, жизнь, а мне кажется, что мы одни, что все остальные только фон… – сказал Радин.
Свежий ветерок чуть трепал ее волосы. Влажный запах реки, подернутой дымкой тумана, и горячее солнце разморили их. Они молча сидели у самых вод могучей Невы, и, казалось, только река была свидетелем их первой спокойной встречи.
– Давай покатаемся на лодке, – предложил Радин.
Они сошли к лодочной станции. Он первый спрыгнул в лодку и, качнувшись, чуть не искупался в мутноватой воде. Софья Аркадьевна прямо присела от смеха.
– Эх вы, горе-капитан… Так мы ко дну пойдем.
– Зато вместе!
Речной пароходик обогнал их. С борта речного трамвая что-то весело кричали люди, кто-то приветственно махнул рукой.
– Володя, у меня к вам просьба…
Она так нежно, так тихо произнесла его имя, что он почувствовал, как забилось его сердце.
– Говори, родная, я все сделаю, что ты скажешь, – бросая весла и беря ее руку, сказал он. Лодка слегка качалась на воде, и ее медленно относило к берегу.
– Я хочу эти два дня побыть одна, остаться наедине со своими мыслями. Я буду думать о вас, мой дорогой… Уезжайте завтра, я прошу вас.
– Хорошо, уеду сегодня ночью.
– Володя, если вас моя просьба обижает… – тихо добавила Софья Аркадьевна.
– Нет, нет, Соня. Я понимаю тебя, я еще больше люблю тебя.
Она прижалась к его плечу и долго молчала, глотая слезы. Радин, положив руку на весло, другой ласково и нежно гладил ее шелковистые волосы.
– Ты права, девочка, ты права. Надо все продумать, чтобы потом ни о чем не жалеть.
– Ах, Володя, ты еще лучше, чем я думала. Я знаю, что уйду, и очень скоро, от Григория Васильевича. Я это решила. Теперь в Москве подумай сам, как быть дальше, будем ли мы вместе или… как иначе, – в голосе ее слышались неуверенные нотки.
– Конечно, вместе. Ты переедешь в Москву, и мы будем жить вместе. До конца наших дней! – торжественно-шутливо закончил он.
– …до конца наших дней! – улыбаясь, повторила она.
– Это так далеко, так далеко, что мы можем спокойно жить хотя бы первые двадцать лет, – сказал Радин.
Его очерк был напечатан в сентябрьском номере «Красной нови».
– Интересный материал. Что, если бы вы дали нам еще один-два очерка в таком же плане? – поделился своими мыслями с ним редактор.
– Может, опять махнуть в… Бугач, – осторожно предложил Радин.
– В Бугач? – удивился редактор. – Ну, я думаю, там тема если и не исчерпана, то в главном освещена – это определенно. Нет, я бы хотел очерк, к примеру, о Кубани. Там колхозы крепкие, и люди интересные, да и мало ли что вы увидите там. Как вы на это смотрите?
– Нет, туда я не смогу поехать. До весны, по крайней мере. Занят.
Попрощавшись с редактором, недоуменно уставившимся на него, он направился в Союз писателей, чтобы встретиться со сценаристом, писавшим киносценарий по его повести, в назначенный час сценарист не явился, и, прождав его еще около часа, Радин пошел обедать в ресторан.
За одним из столиков он увидел знакомого малоформиста, веселого болтуна, первым знающего все городские новости.
– Садись ко мне, – предложил малоформист.
Радин заказал обед и стал разглядывать сидевших за столиком людей. Почти все были писатели. Были и актеры, и несколько незнакомых людей.
– Володя, опять пошли аресты, – придвигаясь поближе к нему, сказал приятель. – Вчера ночью забрали… – он назвал двух литераторов, – а сегодня утром и Невского.
Услышав фамилию сценариста, которого он с утра ожидал в Союзе, Радин вздрогнул.
– Как… арестовали?
– Да ты не кричи… Тут, может, наседка какая сидит… Ну, да, арестовали, – торопливо жуя, говорил малоформист. – А ты удивляешься? В театрах уже вторую неделю людей забирают.
– За что ж могли арестовать… Даже нелепо слышать это, – забыв о еде и уставившись на соседа, сказал Радин.
– «За что, за что»! Ерунду говоришь, брат. ГПУ знает, за что. Да. Даром никого не возьмут. Значит, болтал где-нибудь, вот за то и взяли. Да ты-то чего расстроился? Что он тебе, брат или сват? Наше дело маленькое – пообедаем, домой пойдем, ночью поспим, утром попишем. Вот так надо жить, не соваться куда не следует, писать да помалкивать! Верно я говорю, Володя? – доедая второе, сказал он и подозвал официантку:
– Шурочка, большой бокал цимлянского и малость фруктов.
Он пил, ел, болтал без умолку, перебрасываясь словами с сидящими за соседними столиками писателями. Потом, с аппетитом проглотив виноград и грушу, расплатился и назидательно-великодушно сказал все еще сидевшему в оцепенении Радину:
– Так-то, друг Володя. Надо беречь себя и не рыпаться, в чужие истории не влезать… Ну, до завтра.
Он похлопал по плечу Радина и неторопливо удалился.
«Опять аресты!» – идя домой, думал Радин.
Ему было неприятно вспоминать совсем недавно прокатившиеся по Москве аресты, связанные то со смертью Максима Горького, то с какими-то совершенно нелепыми обвинениями ряда весьма видных лиц. И хотя его самого обходили стороной периодически проносившиеся по стране аресты, было оскорбительно слышать о том, что опять в советской стране наплодилось много изменников, шпионов, враждебно настроенных людей.
«Зачем все это? Кому нужно без конца лихорадить страну? Ведь каждому понятно, что не могут быть изменниками люди, сидевшие в царских тюрьмах, герои, победившие Антанту, Деникина и Колчака, рабочие и крестьяне, освободившиеся от помещиков и капиталистов».
Весь вечер Радин бродил по городу, не находя успокоения, кляня себя за то, что отпустил Соню в Бугач одну, хотя в душе сознавал, что так лучше и для Сони, да и для полковника.
На Тверском бульваре он встретил выходившего из Дома Герцена молодого, талантливого, начинавшего входить в моду поэта.
– Едем в Малеевку, – с ходу предложил тот. – Там сейчас есть несколько свободных комнат. Поживем там с недельку-другую, отдохнем от Москвы, потом махнем на Кавказ. Идет?
Поэт был весел, жизнерадостен и так восторжен, что Радину стало даже завидно.
– Вам, Сережа, бывает когда-нибудь грустно? – спросил он.
– Конечно, когда прихожу в кассу издательства за гонораром, а там плакат: «Сегодня выдачи нет». А вообще чего мне грустить? Человек я молодой, холостой, меня печатают, живу в советской стране, а родись я где-нибудь в Америке или Вене, разве ж я был бы поэтом…
– Спасибо, Сережа, за приглашение, но я сейчас не могу ехать в Малеевку.
– Отчего? Нет денег? Пожалуйста, я только вчера получил процент за книжку стихов, одолжу с удовольствием.
– Нет, нет, Сережа. Деньги есть, не в этом дело. Я – он медлил, – женюсь… собираюсь жениться.
– Же-нить-ся? – с удивлением переспросил Сережа. – Вот-те на. А зачем вам это?
– Полюбил. Пора пришла. Словом – женюсь, – уже недовольный своей откровенностью, тем не менее сказал Радин.
Очевидно, поняв серьезность момента, поэт сказал:
– Ну, если хороший человек и настоящая любовь, то, конечно, конечно, это надо. Обязательно.
Он крепко пожал руку Радину и побежал вниз к Никитским воротам.
Ночь была лунной. Влажный ветерок, изредка пробегавший по комнате через открытое настежь окно, не освежал, а томил еще сильнее. Похоже, надвигается гроза, решил Радин, стоя у окна и вглядываясь в ночную Москву.
Нагревшаяся за день земля и каменные строения города, железо и асфальт, отдавали свое тепло ночи. Запах бензина от пробегавших где-то поблизости автомобилей, шум еще не угомонившейся Москвы усугублял тревожное ожидание приближающейся грозы. Далеко на западе прогремел гром, мелькнула неясная молния, и в комнату ворвался порывистый ветер. Это был вестник ливня, надвигавшегося на истомленную дневным зноем, пылью и сутолокой Москву. Опять, уже ближе, прогромыхал гром. Зашумели, задвигались деревья под окном. Взметнулась занавеска и новый, еще более сильный порыв ветра прошел по комнате.
Блеснула молния, почти рядом сверкнула вторая, удары грома, словно орудийные залпы, прокатились в темном, нависшем небе и крупные, частые капли со звоном забарабанили по крышам и асфальту. Начался ливень, быстрый, могучий, в шуме которого потонул гул ночной, затихавшей Москвы.
Радин стоял у окна, вдыхая омытый ливнем свежий, бодрящий воздух. Брызги дождя попадали ему на лицо, руки, шею, намок ворот пижамы, но он не отходил от окна. А гром уже откатывал, проносясь над окраинами столицы.
Радин все стоял у окна и думал, думал о себе, о Соне, о их любви.
– Хорошо! – проговорил он. Освеженный, полный счастья и радостных предчувствий, пошел спать.
Утром он получил телеграмму:
«Сегодня уезжаю домой все будет хорошо целую Соня».
– Все будет хорошо… – машинально повторил Радин.
Целый день его не покидало хорошее настроение, и только в ресторане Дома писателей оно было несколько омрачено. Когда он сел за столик, Костин, знакомый переводчик, разглядывая меню, вдруг тихо шепнул:
– Володя, сегодня ночью забрали еще троих писателей, черт знает, что такое! Каждый день берут и берут… Вчера, когда гроза бушевала, я всю ночь не спал, все казалось, будто ко мне стучатся…
– А кого арестовали?
– Савохина, Санина и какого-то Костера.
Савохин – это был тот самый поэт, который предлагал ему махнуть в Малеевку.
– А кто такой Костер?
– Малоформист, говорят, какой-то.
– Знаю. Он вчера вот за этим столом обедал со мной, – сказал Радин.
– За этим? – встревоженно спросил Костин. – Ну его к черту, давай пересядем за другой, – но видя, что Радин о чем-то задумался, тихо сказал: – Столы, конечно, тут не помогут. Если они надумают забрать, и под столом найдут.
«Даром, брат, сейчас никого не забирают. А раз взяли, значит, за дело», – вспомнил Радин. Молча доели обед, потом, пожав друг другу руки, они разошлись.
Да что же это такое? Савохин, молодой, честный, совершенно советский человек… Какие могут быть у него счеты с советской властью?
И хотя он почти убедил себя в том, что арест этих писателей – недоразумение, все же тяжелое чувство горечи и недоумения не покинуло его.
На другой день, когда на писательском общем собрании докладчик, один из недавних руководителей РАППа, Артемьев, клеймил позором «отщепенцев и предателей, продавшихся международной буржуазии и фашизму», Радин еле сдерживался. А докладчик воодушевленно обещал, что «такие элементы» справедливо будет карать рука пролетарского возмездия.
– Это необходимо, это законно… – шагая взад и вперед по трибуне, возбужденно кричал он. – Как буря, как гроза, которая вчера пронеслась над Москвой и очистила воздух, сделала его чистым и ясным, так и карательные мероприятия нашего славного НКВД очищают от микробов капитализма и шпионов международного капитала наше общество, наш советский народ.
«Хватил, однако, – с негодованием подумал Радин. – Мерзавец!»
Расходились писатели тихо, без обычных кулуарных разговоров, не задерживаясь у выхода, как обычно. Подавленность, неуверенность, беспокойство прочитывалось на лицах, только Артемьев и окружавшие его три-четыре бойких человека продолжали оживленную беседу.
У площади Восстания, на повороте, Радина догнала поэтесса, уже немолодая женщина, Пастухова, переводчица Гейне. Они молча шли рядом, ничего не говоря, ни о чем не спрашивая друг друга. Так они и дошли до остановки.
– Всего доброго, я на троллейбус, – сказала Пастухова и неожиданно, не выдержав, дрогнувшим голосом произнесла: – Какие времена настали. Ну, дай вам бог всего хорошего… – и быстро отвернулась, но Радин заметил, как у нее мелко затряслись плечи.
Утром Радин получил срочную телеграмму:
«Послезавтра утренним поездом буду в Ленинграде есть новости встречай Соня».
Ночью он выехал в Ленинград.
Он встретил ее на вокзале. Если б кто-нибудь со стороны наблюдал за ними, то удивился бы, видя встревоженного, с беспокойными глазами, нервно ходившего по перрону в ожидании поезда мужчину и вышедшую к нему из вагона спокойную, со вкусом одетую молодую женщину с приветливым лицом.
Радин бросился к ней, взял ее чемодан я торопливо спросил:
– Ну, что? Все хорошо?
Она мягко улыбнулась и поцеловала его.
– Нет, пока еще нет. Завтра я возвращаюсь обратно. Мне надо уладить вопросы по работе, иначе меня не отпустят. Я хочу сразу, в тот же день, как объявлю мужу об уходе, уехать из Бугача.
Вечером они встретились у Исаакия.
– Ну как? Уладила все? – спросил Радин.
– Да, я и не ожидала, что так быстро все будет. Оказывается, на место врача-дантиста в нашем ведомстве имеется по два-три кандидата.
– Прекрасно. Ну и что дальше? – весело и лукаво спросил Радин.
– А дальше Софья Аркадьевна приезжает в Москву…
– …и становится женой великого писателя Радина…
Он притянул ее к себе.
– Знаешь, Соня, у меня на душе как-то неспокойно.
И он рассказал ей об арестах в Москве.
Соня внимательно выслушала его.
– Да, я знаю это. У нас в отряде тоже неспокойно.
Они сидели в старом, полузаброшенном парке Александро-Невской лавры, под сенью разросшихся лип, в тени еще густых кустов сирени.
– Григория Васильевича переводят на запад, с повышением, куда-то в район польской границы. Получил орден Красной Звезды. Кажется, в конце года ему присвоят звание генерала. Может, это как-то поддержит его, когда, меня не будет рядом. Он ведь, как и большинство военных, служака. Новые места, орден, генеральское звание – этим они живут. Он найдет себе жену, с которой будет счастливей, чем со мной, – с грустной улыбкой закончила Софья Аркадьевна.
– Не будешь упрекать меня, что я помешал тебе стать генеральшей? – пошутил Радин.
– Конечно, буду. Ведь я всю жизнь мечтала стать генеральшей.
– А станешь женой обыкновенного, ничем не примечательного писателя, – с деланной печалью сказал Радин.
– Что делать? Такова, видно, судьба, – со скорбным лицом в тон ответила она ему и посмотрела на часы.
– Я хочу уехать ночным поездом, сегодня.
Радин молчал, но по его лицу было видно, что он что-то хочет сказать.
– Говори, Володя, – сказала Софья Аркадьевна.
– Соня, дорогая, не уезжай… Останься сегодня со мной, поедешь завтра, – он смутился и почти шепотом закончил: – останься со мной…
– Нет, Володя, нет, дорогой, не могу. Я бы с радостью осталась, но… Может быть, это и несовременно и сентиментально, но я хочу быть до конца честной с мужем. Я буду свободна только после развода.
Радин ничего больше не сказал, хотя все в нем протестовало против такого несколько странного и непонятного принципа.
Письмо было написано неровным, чуть косым почерком.
«Итак, все решилось. Я, хоть и решила все твердо, но не знала, как сказать. В душе было все: стыд, смятение и даже страх…
– Гриша, я через день-два уезжаю.
– В Ленинград? – чуть оторвавшись от газеты, спросил он.
– Я уезжаю совсем, – вдруг произнесла я, и мне сразу стало легко.
– Как… совсем? – отложив газету и удивленно глядя на меня, спросил муж.
– Совсем, это значит навсегда. Мы разойдемся, – сказала я, глядя в его глаза. Он поднял брови, растерянно уставился на меня и вдруг рассмеялся.
– Шутница ты, Соня.
– Вот документ о моем уходе из санчасти, вот справка об освобождении от работы и назначении на мое место другого врача. – Я выложила на стол все бумаги. Муж сидел неподвижно, было видно, что он еще не понял ничего или не поверил мне.
– Это что… серьезно? – вдруг каким-то чужим, незнакомым мне голосом спросил он. И мне стало жаль его. Я молча кивнула головой.
– Это как же… ты что, смеешься надо мной? – сказал он, подходя ко мне.
– Нет, Гриша. Это все серьезно, все продумано, пережито, и другого решения не будет.
И тут он, боевой, мужественный человек, хладнокровием и решительностью которого восхищаются его друзья, как-то обмяк и срывающимся голосом произнес:
– А как я, Соня, ты подумала обо мне?
Он был так несчастен, и в то же время неприятно резок в эту минуту, что я, набираясь твердости, сказала:
– Поздно об этом говорить. Все кончено, а ты, Гриша, найдешь в пять раз лучше, чем я.
– Глупости! – закричал он, – вычитала в книгах разную ерунду. Никуда я тебя не пущу, никаких мне других жен не надо. Тоже мне, Анна… – он чуть запнулся. – Каренина нашлась.
– Нет, по-старому не будет. Я не Каренина, и ты не петербургский чиновник, пойми ты, Гриша; и давай скорее прекратим эту ненужную сцену.
– Сцену! – повторил он. – Жена ни с того ни с сего бросает мужа и еще сценой называет его возмущение. Да ты окажи толком, почему уходить задумала?.. Или, – тут он пытливо и пристально взглянул на меня, – или кто другой завелся.
– Не „завелся“, а люблю другого.
Я ожидала от мужа резких слов, выкриков, требования назвать имя разлучника, но было совсем другое.
– Ты это серьезно говоришь, Соня…?
Я кивнула.
– Смотри, не попади в беду, родная. Если верно, что полюбила другого, тут уж словами да уговорами не поможешь.
Он почему-то вышел в соседнюю комнату, но сейчас же вернулся.
– Соня, скажи… ты мне… изменяла?
Я только взглянула на него, ничего не сказала.
– Извини. Я и сам знаю, что нет.
Потом он ушел в штаб. Вернулся поздно. Сел за стол и закурил, первый раз за последние несколько лет. Коротко спросил:
– Кто он?
И хотя я все время ждала этого вопроса, мне стало неловко.
– Кравцов или… – он назвал тебя. – Я уверен, что это Радин. Не такая ты женщина, чтобы польститься на красивую физиономию Кравцова. Он дурак и бабник. А не ошибаешься ли? Может, показалась тебе это от нашей скукоты гарнизонной?
Как тяжело было слушать его слова, такие неожиданные и странные. Если б он обругал меня, ударил, было б легче.
Тяжело, Гриша, не спрашивай, – вырвалось у меня.
– И мне тяжело, Соня. Но я хочу, чтобы ты полюбила хорошего человека.
– Он хороший.
– Да, видать, крепко любишь. Меня так не любили, – медленно сказал он. – А не обманет он тебя? Ведь писатели, вроде актеров, вертопрахи.
Он снова было потянулся за папиросой, но затем резким движением смял коробку, переломил ее надвое и выбросил в окно.
– Чего это я разнюнился?
Он подошел ко мне, долго смотрел на меня, в я чувствовала себя маленькой, слабой, но не виноватой. Нет, Володя, я ни в чем не виновата.
– Когда думаешь ехать? – спросил муж.
– Как можно скорее. Так будет лучше для нас обоих.
– Легче будет тебе одной… Я-то останусь у разбитого корыта. Езжай, Соня, раз ты так решила. Одно только хочу тебе сказать – я буду ждать… Плохо тебе будет, увидишь, что ошиблась или он тебя разлюбит, все бывает на свете, – возвращайся. Ты для меня всегда будешь родной и любимой».
Вот так. Кто бы мог подумать, что в этом простоватом служаке столько такта и любви? Какой же я к черту инженер человеческих душ, думал Радин, если за неокладными, несколько примитивными беседами Четверикова не разглядел великодушного и благородного человека, каких не так уж и много.
«Через два дня я уезжаю в Ленинград, а 11-го, в среду, дневным поездом буду у тебя».
– Так, значит, в среду. Сегодня понедельник. Надо скорее привести квартиру в порядок, купить цветы… много цветов…








