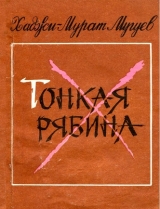
Текст книги "Тонкая рябина"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
– Велико дело зубы рвать да пломбы ставить, она б вот как мы с детьми на кухне повозилась, вот это была бы работа.
– А у них нет детей? – спросил писатель.
– Откуда! Ей двадцать шесть, а ему, старому… – хозяйка поглядела на мужа и добавила – и все пятьдесят. Ну она на полковника польстилась, а вот чего он в ней завидного нашел, не понимаю, – пожала плечами хозяйка.
– Ну, это ты уж того… – вставил капитан:
– Бог с ней, с вашей полковницей, давайте лучше поговорим о жизни на границе, – желая переменить тему, сказал Радин.
Застава № 7/6 или, как ее именовали в отряде, хозяйство Кулябки, представляла собой двухэтажный добротный деревянный дом с прочным, каменным основанием.
На первом этаже расположилась вся официальная часть заставы. Здесь жил и старшина-сверхсрочник с женой и трехлетним сыном, тут был и цейхгауз, человек одиннадцать пограничников. Наверху жили два младших командира, фельдшер и прачка, имелась и свободная комната с кроватью, столом и диваном – «гостиночная», комната для приезжавших из городка и отряда.
Тут устроился и Радин. Недалеко от большого дома стоял уютный, небольшой, добротно и любовно построенный домик с завалинкой.
Это был дом командира заставы, серьезного, молчаливого и подтянутого капитана Кулябки.
В тени огромных сосен стояло еще три домика. В стороне, ближе к речке, были навес и конюшня.
Караульный пограничник прохаживался возле деревянного гриба. Слышались голоса женщин, стиравших белье у речки.
«Тишь, покой, благодать!» – шагая под соснами и вдыхая густой хвойный аромат, подумал Радин. Что-то первозданное было в спокойном шуме сосен, в этом обилии стволов, ветвей, сквозь которые едва пробивались солнечные лучи. Суровая и величественная красота стояла вокруг. Толстые, высоченные, кирпично-ржавого цвета стволы сосен уходили далеко ввысь. Они стояли, теснясь друг возле друга, и под ними, как бы выбегая и резвясь, шумели кудрявые небольшие сосенки; они росли густо, плечом к плечу, не заботясь о свете, не боясь, что их сожмут и задавят огромные, хмурые великаны. Где-то стучал дятел, других птиц не видно было, и могучий лес жил своей величественной, сосредоточенно-хмурой жизнью. Не переставая шумели кроны сосен где-то высоко-высоко, белки перескакивали с ветки на ветку, иногда падала сухая ветка или, змеясь, пробегал по стволам причудливый солнечный блик.
«Боже, как хорошо», – прикрыл веки Радин. Да, хорошо, но жить так, как живут эти люди, изо дня в день, из месяца в месяц… к зимой, и осенью, и летом… Нет, жить здесь постоянно, всегда, он бы не смог.
– Любуетесь нашей природой? – услышал он за собой голос Кулябки. – Могучая красота. Знаете, товарищ писатель, я до военной службы и не подозревал, до чего красива у нас природа. Ведь я горожанин, из Ростова, все детство и молодость провел там, на Дону, а когда взяли на военную службу и попал сюда, в пограничники, затосковал: привык к Дону, к степным просторам, к городу, думал, жизни мне не будет, все окончания действительной ждал, а прошло всего три года, и я влюбился в этот край, в его природу, вообще в север… Окончил командирские курсы, и вот уже шестнадцать лет здесь. Мне и запад, и турецкую границу предлагали, – не хочу, никуда отсюда не поеду, и помирать тут буду, – засмеялся капитан.
Они шли рядышком, углубляясь все дальше в такой же суровый, насупленный и угрюмый лес.
Капитан водил его по местам, напоминавшим Радину книги, читанные им в детстве. Майн Рид, Купер, Эмар и многие другие авторы припомнились ему.
Лес располагал к фантазии и затуманенным воспоминаниям детства.
«Не хватает еще избушки на курьих ножках и бабы-яги с клюкой», – подумал Радин.
– А вот тут избушка… не видите? – прерывая ход его мыслей, спросил капитан и засмеялся. – Здорово, значит, мы замаскировали ее… да вот она… вон – не туда, влево, влево глядите. Не видите? Ну, так идемте к ней, – и он, чуть опередив гостя, пошел между стволами. За ним, все еще ничего не видя, послушно побрел Радин.
– Вот она, избушка наша, вроде как центр, средоточие для постов, расположенных впереди. А ну, товарищ Брещев, принимай гостя, – негромко сказал капитан, и только тут Радин увидел замаскированную ветвями и хвоей землянку, вход которой был закрыт густо и широко раскидавшей свои ветки елью.
– Здорово, я бы прошел мимо, даже если б знал, что здесь землянка.
Их встретил приветливо улыбавшийся пограничник. В землянке, в углу, лежали две овчарки. Они спокойно смотрели на гостя, не делая никакого движения.
На столе было три полевых телефона, у стены – ручной пулемет.
– А где Рагозин?
– Пошел по постам, товарищ капитан.
– Как на «Звездочке»?
– Спокойно. Ничего не замечено, происшествий нет.
– Посты?
– Утром обошел, сейчас прошлись. Тоже все в порядке, нарушений и происшествий нет, – спокойно и четко докладывал старшина.
– Чем угостишь гостя? – улыбнулся капитан.
– Чай, консервы, варенье домашнее – жинка на дежурство дала. Вкусное, вам понравится, товарищ писатель, – сказал Брещев.
– А откуда вы знаете, что писатель? – удивился Радин.
– Какой же он был бы пограничник, если б не знал, что на заставе появился гость. Мы, пограничники, всегда обязаны знать о прибытии гостей как званых, так и незваных, – прихвастнул капитан.
– Точно! – подтвердил Брещев, разливая по кружкам горячий чай.
– А варенье у вас действительно вкусное. Передайте это вашей жене, – отхлебывая чай, сказал Радин.
– А тут все местное, голубика, костяника, морошка да брусника. Она все вместе варит. Я думал, нельзя так, а она смеется – я, говорит, сызмальства в деревне так варила.
– И действительно, хорошо! – еще раз похвалил гость.
Потом он слушал, как по телефону переговаривались с постами капитан и старшина. Вернувшийся вскоре Рагозин обстоятельно и толково рассказал об участке и людях, находившихся на постах. Радину, бывшему военному, окончившему артиллерийское училище и годичные арткурсы, эта обстановка была совершенно незнакома.
Тут была своя специфика.
В полдень, сопровождаемые Рагозиным, взявшим с собой на поводке одну из овчарок, они прошли по лесу домой уже другим, более коротким, но и более трудным путем. Они шли по круто взбегавшим, покрытым камнем и травой, холмам. Ноги цеплялись за перевитые, поднявшиеся наружу переплетенные корни деревьев. А вокруг все стоял и шумел, хмурился и кивал кронами сосен бесконечный лес. Перешагивая через узкие ручейки, шли мимо буро-зеленых скал, на которых неведомо как, неведомо чем питаясь, росли и сосны, и лишайник, и мох. Иногда зеленая, нарядная елочка, склонившись со скалы, повисала над обрывом. Ветер раскачивал ее, она вздрагивала всем своим зеленым телом и снова выпрямлялась, снова возвышалась над скалой до нового порыва ветра.
– На этом берегу – граница, на том – чужая земля, – показал капитан.
Они стояли среди нагромождений камня, а под ними бежала небольшая речушка, окаймленная с двух сторон порослью мелких, чуть-чуть поднимавшихся над землей, прямо игрушечных, елочек.
– На сто метров кругом и у нас, и у них вырублен лес. А эта черная полоса, видите, это вспахано специально, чтобы в случае перехода нарушителя остался след.
Радин с интересом и вниманием глядел вперед.
– Возьмите бинокль, – предложил капитан. – А там тоже где-нибудь за теми скалами или кустами сейчас стоят люди и разглядывают нашу сторону.
– А почему полоса распахана только с нашей стороны? – спросил Радин, продолжая разглядывать в бинокль противоположную сторону.
Кулябко улыбнулся.
– Потому что забрасывают нарушителей только с одной стороны.
Вокруг была тишина, и лишь иногда оживал лес. Это верховой ветер проносился бором, и тогда верхушки сосен примыкали друг к другу, слегка раскачивались, словно шепчась о чем-то. Затем снова наступала тишина, и опять густой, пряный, сладостный запах хвои и сырой, недавно омытой дождями земли, окутывал всех.
– Хорошо тут. И уходить не хочется, – мечтательно сказал Радин.
– А вы поживите подольше. В город всегда успеете, а таких мест, как наши, прямо скажу, даже здесь немного, – сказал Кулябко.
По ту сторону границы было тихо. Громады камней, стройные высокие сосны, зеленый ландшафт, кое-где пересеченный острозубыми скалами, а над всем этим голубело и переходило в синь бескрайнее небо, по которому проплывали маленькие, разрозненные облачка.
«А верно, хорошо бы пожить тут месяц-другой», – мелькнула шальная мысль, и Радин с неудовольствием вспомнил, что через десять дней ему надо возвращаться в Москву.
– А вон и их дозорный объявился, – тихо сказал Рагозин, тронув за рукав Радина. – Во-он, влево глядите, туда, где водопад… Видите, на корточках сидит за валуном, прячется.
Но как ни напрягал Радин зрение, так ничего и не заметил в скоплении камня, хаосе скал, густо заплетенных ельником, кустарником и порослем смолистой сосны.
– Это ничего. Мы тоже поначалу, пока не привыкли, никого и ничего не примечали, потом уже, спустя месяца два, научились все видеть, – деликатно сказал Рагозин.
– Ну, пойдемте. На границе, как видите, все спокойно, кроме белок, зайца да вот этого дозорного, что попался нам на глаза, никого нет.
Они повернули назад и пошли к заставе среди безмолвия леса, по еле приметной тропе, которая то и дело терялась среди кустарника и толстых стволов сосен.
Вскоре Рагозин попрощался с ними и пошел обратно на свой сектор участка.
– Добрый хлопец, – кивая головой в сторону ушедшего, сказал Кулябко.
Так, беседуя, они вернулись на заставу.
Приняв рапорт от дежурного, поговорив по телефону с начальниками секторов и отдав нужные распоряжения, капитан, взглянув на часы, сказал:
– Эге… скоро и обед. Прошу вас, товарищ писатель, ко мне. Моя жинка по случаю вашего приезда уточку зарезала и пирог с клюквой да голубицей испекла, – нельзя обижать хозяйку.
– С большим удовольствием, – ответил Радин, и они пошли к дому начальника заставы.
– В самый раз пришли, а я уж Лену хотела за вами посылать, – сказала жена Кулябко, встречая у порога подходивших мужчин. Русоголовая с веселыми глазами Лена, девочка лет шести, дочь Кулябко, с любопытством разглядывала гостя.
– Здравствуйте, Леночка, – протягивая ей руку, сказал Радин.
Девочка вдруг сконфузилась, застыдилась и стремглав бросилась в дом.
– Стесняется, – засмеялся капитан.
Дело, однако, было не совсем так. Леночка снова показалась в дверях. Она держала в руках чистое полотенце, мыло, зубную щетку.
– Вот вам, мойтесь, – важно сказала она.
– Щетку не надо, дурочка, – засмеялась мать. – Она вас ждала, и мыло и рушничок приготовила.
Леночка сама полила из кувшина гостю и отцу, молча, с достоинством, подала им полотенце, а остаток воды вылила на клумбу под окном.
За столом Леночка ухитрилась сесть прямо напротив гостя и с восхищенным любопытством немигающими глазами глядела на него.
– Хорошая у вас помощница, – сказал Радин хозяйке.
– А как же! Шестой годок уже пошел, – ответила хозяйка, разливая по тарелкам борщ. Он был горячий, густой и такой ароматный, что Радин вдруг почувствовал острый голод.
– А перед первым не грех и по сто грамм, – наполняя стаканчики, сказал Кулябко.
За окном был бор, невдалеке застава, коновязи и конюшня. Слышались голоса пограничников, где-то не вовремя прокукарекал петух, и опять тревожно зашумел лес.
– А вы что же, писать про границу будете? – спросил капитан.
– Да, но главным образом о вас, о людях границы, – ответил Радин, – о ваших боевых буднях.
– Да что про нас писать-то, – удивился Кулябко. – Работаем по уставу, служим Советскому Союзу, вот и все.
– Вот это именно и опишем.
Они с удовольствием съели по тарелке борща, а затем примялись за жареную утку с картофелем.
– А в отряде вы долго жили? – спросила жена капитана.
– В каком отряде? – не понял Радин.
– Ну там, в городке, где наш штаб находится, у нас это просто называется в отряде, – пояснила она.
– Я был там дважды. Пожил в городке недолго. А что? – вопросительно глянул на хозяйку писатель.
– Да так, вроде и ничего, – засмеялась хозяйка. – Я это, к примеру, потому, как вам там люди понравились?
– Понравились, хорошие люди, – снова принимаясь за еду, сказал Радин.
– А кто поболе, и кто помене? – изливая гостю квас, продолжала хозяйка. – Квасок у нас добрый, на изюме да ржаном хлебе сделанный. Пейте на здоровье.
– Ишь, следователь какой нашелся. Это она, я знаю, к чему спрашивает, – недовольно протянул капитал.
– Ну и что? Я и не скрываю… Очень даже хочу знать, как товарищу из Москвы, он и писатель, и человек, разных людей видевший, как ему наша полковница…
– Какая полковница? Это жена Четверикова? – спросил Радин.
– Она самая, – подтвердила хозяйка.
– Не дает она покоя нашим жинкам, – поморщился Кулябко.
– А ты не мешай, Егор, не встревай в разговор, – перебила мужа хозяйка.
Радин отложил вилку в сторону, помолчал, подумал и не спеша сказал:
– Она очень красивая. Я видел ее всего один раз, и сказать больше ничего не могу. А почему она так интересует вас?
– Вы ешьте, дорогой товарищ. Не любят наши жены ее, вот и вся причина, а что она особняком держится, так это верно, да и тут тоже греха великого нет. Всем разве угодишь, – примирительно сказал капитан.
– А почему ее «ведьмой» называют? По-моему, таких красавиц-ведьм даже в сказках не бывало.
– Потому и ведьма, что своей красотой наших мужиков обворожила, – уже спокойнее ответила капитанша и уж совсем мирно добавила: – А вот чего нет, того нет – наша ведьма женщина порядочная насчет там фиглей-миглей или разных кавалеров. Хоть и не очень жалуем мы ее за гордость, а вот ни одного дурного слова про нее никто не может сказать.
– Ну, слава богу, есть хоть что-то хорошее в ней, – засмеялся Кулябко.
После обеда капитан спросил:
– Ну что, теперь отдохнете или, может, пойдем поглядим, как люди живут?
– Днем я не сплю. Молод еще, видимо. Пойдемте лучше к бойцам, – ответил Радин, и они пошли к дому, где располагались пограничники.
Обход жилых помещений ничего нового писателю не дал – все было знакомым, все было почти таким, как и в те недавние годы, когда он служил в армии. Те же козлы для винтовок, та же чистота и убранство коек, белые подушки с аккуратно повернутыми серыми байковыми одеялами. И тот же казарменно-армейский запах солдатского общежития, и только люди, сами пограничники, несколько отличались от красноармейцев. В основном это были разведчики и следопыты, отлично обученные для жизни и службы на границе, воины, разбиравшиеся не только в политике и уставах, но по малейшему, еле приметному признаку, по чуть примятой траве или зазубринке на стволе умевшие определить, где прошел враг.
– Вы откуда родом, товарищ Смирнов? – спросил Радин одного из пограничников.
– Из Моздока. Может, слышали, есть такой городок на Кавказе…
– «В Моздок – я больше не ездок», – пошутил кто-то из пограничников.
– Э, нет. Как только окончу действительную, сейчас же обратно к себе поеду, – горячо сказал Смирнов.
– А чем занимались на гражданке? – спросил писатель.
– В колхозе работал трактористом, а потом и комбайнером.
Пограничники в свою очередь засыпали писателя вопросами, расспрашивая его о Москве, и о театрах, литературе.
Вечером к Радину зашел Кулябко. Побеседовали, поговорили о том, о сем, и неожиданно капитан, покраснев, сказал:
– А то, что говорила жена моя об этой самой, полковнице, вы уж никому не говорите. Сами знаете, что из этого выйти может.
– Да что вы! Я уж и забыл это, – успокоил его Радин.
– Ох, бабы, бабы! – сокрушенно покачал головой капитан.
Ночью, когда Радин, приведя в порядок свои записи, лег в постель, он все же вспомнил разговор с женой Кулябко.
«За что они не терпят ее?» – подумал он, засыпая.
Спал он как убитый, и только утром узнал, что ночью была тревога. На одном из секторов участка была нарушена сигнализационная сеть. До утра, пока он спал, пограничники прочесывали этот участок, но ни врага, ни даже следов не обнаружили. И только когда рассвело, дозор, обходивший край вспаханной полосы, ясно увидел волчьи следы на земле. Тщательно исследовав их, пройдя метров около семисот, бойцы наткнулись на логово зверя, куда привели следы самого «нарушителя».
– Это что… Здесь подобные вещи случаются редко, а вот на южных границах, особенно с Ираном, там ночью три-четыре раза заставы поднимаются в ружье. Кабаны, там их огромные стада, бродят по камышам. Мне бывалые пограничники рассказывали, что там и тигры, и волки, и барсы за кабанами ходят. Ну и, конечно, рвут почем зря сигнальные сети, а на заставах то и дело тревоги. Сурьезная у нас работа, ничего не скажешь, – засмеялся капитан, рассказывая утром Радину о ночном происшествии. Потом, понизив голос, как страшную тайну, вдруг сообщил:
– Сейчас такое представление будет…
– Какое представление? – удивился Радин.
– Ну, это я так его в шутку назвал, дело вот в чем. А тут санитарка одна, Сусейкина, проворовалась. Украла со склада санчасти барахла разного, простыни там, полотенца, еще что-то. Дело пустяшное, однако будет открытый общественный суд над ней. Если хотите, можете полюбоваться на этих баб. Тоже вроде материала для будущей книги, – пошутил он.
– А что, очень интересно. Познакомлюсь с работой женсовета, – сказал Радин.
– Да, там весь президиум увидите, и Кусикову, это главная в совете, и Матюхину, и других.
Спустя несколько минут Радин уже был в клубе отряда, где должен был произойти суд над санитаркой Сусейкиной.
«И чего они посадили меня в президиум?» – тоскливо подумал Радин, слушая однообразные выступления женщин.
Правда, речь третьей выступающей привлекла его внимание. Она говорила громко, стараясь выкрикнуть как можно сильнее фразы, вроде: «Мы должны быть бдительными… Каленым железом выжигать…» Самая же суть выступления сводилась к тому, что санитарка Сусейкина чуть ли не враг народа и что ее преступление может нанести неисправимый ущерб народному хозяйству, поэтому ее надо судить строго и беспощадно.
– Каленым железом надо выжигать подобных паразитов, еще кое-где сосущих народную кровь, – энергичным взмахом руки закончила свою обвинительную речь выступавшая.
Крупная, с белым лицом и резкой жестикуляцией, она произвела впечатление на зал.
– Правильно, Самарова! Судить таких надо! – послышались из зала голоса.
– Кто это? – спросил Радин соседку.
– А это наша бой-баба, учредитель женсовета Зина Самарова, жена командира заставы. Может, знаете капитана Левкина, так это его жинка. Хоть и разные фамилии, однако ребенок у них есть, – засмеялась Кусикова. – Сейчас она на курсах медсестер занимается. А что, понравилась? Женщина она молодая, кровь с молоком, и характер у нее не злой, только строгая, – снова засмеялась она.
Говорили они тихо, но Самарова, видимо, догадалась, что разговор идет о ней, и пересела поближе к ним.
– Хорошо говорила Зина. Прямо прокурорская речуга, – сказала Кусикова.
– А то, ежели их миловать, так от воров жизни не будет, – ответила Самарова и победно посмотрела Радину прямо в глаза.
Взгляд ее был прямой, глаза смотрели в упор, вызывающе и смело.
– А вы писатель, гость из Ленинграда? – усаживаясь почти рядом, спросила Самарова.
– Из Москвы… – с улыбкой ответил Радин.
– О-о! Это еще лучше. Я, знаете, еще ни разу не была в Москве. А уж как хочется, как хочется, – негромко сказала Самарова.
– А ты, Зина, отпросись у мужа, возьми у него двухнедельный отпуск и поезжай с товарищем в Москву. Он тебе там все покажет, – засмеялась Кусикова.
– А что? И поеду. Насчет мужа – это дело второстепенное. Главное, чтобы товарищ, – она кивнула на Радина, – согласился.
В ее словах, манере разглядывать собеседника было что-то неприятное, и Радин отвернулся.
– А все же это не дело, дорогие товарищи, – вставая с места, говорила одна из женщин, – нельзя так, просто нехорошо… – и, обращаясь к председательствующему, сказала. – Товарищ Ильин, а ну, дай-ка и мне сказать слово.
– Отчего ж… Иди, Марья Ивановна, говори свое слово, – ответил Ильин, парторг.
– Кто это? – наклонясь к нему, спросил Радин.
– Моя жена… – засмеялся капитан. – Сейчас она расчешет Самарову.
Марья Ивановна уже поднялась на трибуну и громко заговорила:
– Это что ж такое, товарищи? Навалились скопом на Сусейкину и давай давить… Так, что ли?
Она обвела взглядом зал.
– А я вот не согласна! Дело, конечно, плохое она сделала. Воровать нельзя, не годится…
В зале шумно засмеялись.
– Правильно, Марья Ивановна, не годится…
– Да вор вору рознь. Какая она воровка, когда у нее даже смены белья нет, что на ней – то и все… Постирает – сменить нечем. А ты, Зинаида, – обернулась она к Самаровой, – коришь ее всякими словами, а об ее житье-бытье и не подумала! Промахнулись мы все, а теперь вот поддержать надо. Все! – сходя с трибуны, под аплодисменты закончила Мария Ивановна.
– Вот и адвокат есть… Может, кто еще сказать хочет?
– Пора кончать, затянули собрание, – как бы подводя итог всему проделанному, сказал капитан Вострецов.
– Подождите минутку. Дайте сказать мне, пока не вынесли решение, – раздался в глубине зала голос.
Радин сразу узнал уже знакомый голос, а Самарова, презрительно скосив глаза, чуть слышно сказала:
– Ага, вот и тоненькая рябина, царевна-несмеяна выступить хочет…
К трибуне подходила Четверикова. Она шла быстро, уверенно, со спокойным лицом и лишь чуть тревожными глазами.
– Красивая, – тихо сказал Ильин, восхищенно глядя на женщину.
– Ага, вроде гадюки, – еле слышно, со злобой сказала Самарова и, широко улыбнувшись, дружески закивала головой поднявшейся на трибуну Четвериковой.
В зале стало тихо. Все выжидательно смотрели на жену начальника.
– Товарищи, – негромко, но ясно, отчетливо прозвучал голос Четвериковой, – я с самого начала внимательно слушала выступавших здесь людей и ничего не могу сказать против. Все, что они тут говорили – верно, все, в чем обвиняли Сусейкину – правда. Так в чем же дело? Все как будто бы ясно, и преступницу надо осудить. Но я говорю «как будто бы» и говорю это не случайно. – Она изящным жестом поправила разметавшуюся прядь волос. – А ведь дело обстоит иначе. Никакого «дела» и не было бы, если б мы, и в первую очередь это относится ко мне, и к вам, женщины, жены политработников и командиров, никакого преступления не было, если бы мы по-человечески отнеслись к Сусейкиной. Права Марья Ивановна Ильина, что упрекнула всех нас в равнодушии. Мы много говорим о том, что самое дорогое – человек, что мы, советские люди, отличаемся любовью к обществу и высокой гражданской моралью. Кричим об этом, а вот произошел подобный случай, и мы сразу же забываем и нашу заповедь, и нашу мораль. Вот вы, – она повернулась к президиуму и глаза ее впервые встретились с глазами писателя. Она быстро перевела взгляд на Самарову и повторила: – вот вы, товарищ Самарова, говорили, что надо наказать и осудить Сусейкину.
– Говорила и буду говорить, – вызывающе и очень громко сказала Самарова.
– А вы бы до того, как прийти сюда, пошли бы вместе с двумя-тремя товарищами и не формально, а по существу разобрались бы: почему Сусейкина украла эти жалкие две простыни и солдатскую рубашку?
– Пропить, вот и все! – с усмешкой выкрикнула Самарова.
– А вот, оказывается, и не «все»: Дело, товарищи, – уже обращаясь к залу, сказала Четверикова, – дело в более сложном и стыдном для нас, для всех нас. Ведь вот она, эта женщина, жила среди нас и никто – ни я, ни вы не поинтересовались, как она живет, одинокая, без мужа, без семьи… Интересовался кто-либо ею? Никто, ни один человек. А следовало бы.
– Правильно говорит доктор. Ну, попади кто из нас в такую же беду, когда у тебя ни белья, ни жилья, ни денег… – сокрушенно сказала сидевшая в первом ряду женщина, жена одного из командиров.
– Товарищ Четверикова правильно подошла к вопросу, – поднимаясь с места, сказал Ильин. – Возле нас находился одинокий человек, без денег, без поддержки. А мы, что мы сделали, чем помогли товарищу в беде?
– Мы, оказывается, виноваты!
– Вот, товарищи, здесь находится гость из Москвы, известный писатель товарищ Радин. Писателей называют инженерами человеческих душ. Пусть он тоже выступит и скажет свое мнение по этому поводу… Попросим товарища высказаться… а? – поворачиваясь к Радину, произнес парторг.
В зале зааплодировали.
– Честно говоря, я не думал, что стану свидетелем столь неприятного разговора, и тем более, что сам буду принимать в нем участие. Граница, мужество, романтика – и вдруг такое. Так что вы меня простите, товарищи, если я буду очень краток. Мне не понравилось выступление товарища Самаровой, это я вам скажу откровенно. Нельзя одинаково жестко судить настоящего преступника и бедную, заблудшую душу… А где же наша советская дружба, наша социалистическая мораль? Конечно, воровство, даже мелкое – вещь отвратительная. Но когда у человека нет лишней простыни – тут, товарищи, есть, над чем задуматься. Больше мне нечего сказать.
– Правильно! Верно!
Радин сел на место, а тронутые его словами люди зашумели.
Прозвенел колокольчик. Все стихли.
– Товарищи, теперь, когда нам уже все Ясно надо заканчивать собрание, – сказал Ильин. – Есть предложение – объявить общественное порицание товарищу Сусейкиной за ее необдуманный поступок, признать ее заслуживающей снисхождения и ограничиться предупреждением и одновременно помочь ей стать на ноги, морально и материально, поддержать ее всем коллективом. Кто за это?
Когда Радин выходил на улицу, он неожиданно столкнулся с Четвериковой.
– Спасибо вам, Владимир Александрович, – просто, как будто продолжая начатый разговор, сказала она.
Радин был рад этой встрече, ее словам, ее доброму взгляду и тому, что эта милая женщина шла с ним рядом.
– Вы куда идете сейчас? – спросила Софья Аркадьевна.
– Никуда. Просто никуда или, как говорится, куда глаза глядят, – улыбаясь, сказал Радин.
– Тогда проводите меня до дому. Вы знаете, где мы живем?
– Где-то там, – неопределенно указав рукой, сказал Радин.
– Вот и нет, – рассмеялась Четверикова, – совсем в другой стороне. Сейчас мы свернем налево, а там, за площадью, и наш дом. Знаете, что, Владимир Александрович, – вдруг приостановилась она, – знаете, что сегодня у меня день не рабочий, и Григорий Васильевич, муж мой, тоже вернется рано, – приходите к нам обедать часов в пять, нет, даже раньше, в четыре тридцать, хорошо?
– Да удобно ли будет?
– Григорий Васильевич уже несколько раз говорил, что хочет пригласить вас, но я, – она засмеялась, – сама пропускала это мимо ушей.
– Почему? – спросил Радин.
– Да потому что… не знаю, почему, – вдруг по-детски развела она руками.
Он удивленно взглянул на нее и рассмеялся.
– Григорий Васильевич мне рассказывал, что вы хотите писать о границе книгу, очерки о солдатах, их жизни и службе.
– Да, вот я уже побывал на ряде застав. Там, наряду с охраной границы, караульной службой, идет попутно и своя жизнь. Есть семьи, есть чудесные дети, – вспоминая Леночку, улыбнулся он.
– Вы любите детей? – вдруг сказала она.
– Очень! – ответил Радин.
– Я тоже, – с какой-то затаенной грустью произнесла Четверикова.
Они пошли по пыльной, с узким тротуарчиком улице, вдоль которой тянулись сплошь одноэтажные дома. Две женщины на коромыслах несли воду. Свинья с десятком поросят важно разлеглась в луже у водоема. Петух, куры, зелень, выбивавшаяся из-под булыжника, палисадники домов с крашеными воротами и цветными ставнями, – все это было глубоко патриархально и незнакомо Радину.
– Здесь у вас все так интересно и необычно, Порой даже не веришь своим глазам, – останавливаясь возле дома, построенного теремком, с петухом на крыше и флюгером на воротах, сказал он.
– Потому что вы из столицы, – тихо сказала Четверикова. – И мне первое время нравилось все это, – не глядя на теремок, сказала она. – Домик построил местный художник Творогов. Он умер, а теремок остался. А я знала, что вы защитите эту бедную женщину, – вдруг резко повернула разговор Софья Аркадьевна.
– Почему? Спасибо, Софья Аркадьевна, – мягко сказал он, – но великодушие проявили вы я только поддержал вас.
Она ничего не ответила и лишь благодарно взглянула на него.
– А вот и наш дом, – указывая рукой на небольшой, нарядный, одноэтажный домик, сказала она.
Вокруг дома был сад, вернее, садик. На узкой, посыпанной толченным кирпичом дорожке белели две скамейки, под деревом стоял вкопанный в землю круглый стол, а чуть поодаль висел гамак.
Софья Аркадьевна перехватила взгляд Радина.
– Эти мелочи возбуждают недовольство кое-кого.
Они остановились у калитки.
– Итак, Владимир Александрович, мы ждем вас. Я не прощаюсь.
«Удивительная женщина», – думал о ней Радин, возвращаясь обратно.
До назначенного часа было еще далеко. Надо было как-то убить время, и Радин пошел бродить по городку.
«Может, пойти в кино?» – в раздумье остановился он возле афиши, наклеенной на дощатый забор. Раздумав, он пошел дальше по главной улице городка.
Проспект Сталина, – так помпезно называлась эта серая, типично провинциальная улица в захолустном, военном городке.
«Дань времени», – подумал Радин, шагая по этому, ничем не отличавшемуся от других улиц, «проспекту». Те же низенькие дома, серая мостовая с выщербленным булыжником, и лишь козы вместо свиней теперь попадались ему навстречу.
Длиннорогие, с трясущимися бородками, с бубенчиками или веревками на шеях, они щипали траву, окаймлявшую пустыри и палисадники.
«Сельская идиллия», – усмехнулся он.
Радин уже начинал жалеть Софью Аркадьевну, надолго осевшую в этом скучном городке.
– Бугач! – проговорил он, вспоминая, как долго искал на военной карте этот ничем не примечательный городок.
«И какая она все же милая женщина», – вдруг ни с того, ни с сего подумал он.
«Парикмахерская», – прочел Радин, останавливаясь возле стеклянных дверей, над которыми красовались огромные буквы и был выведен некий субъект с чудовищно разросшейся шевелюрой и лихо закрученными кверху усами.
– Забавно. Ну, где еще встретишь такую архаическую, времен НЭПа, вывеску.
И он решительно шагнул внутрь.
– Постричь, побрить, помыть голову? – делая нечто вроде поклона, спросил его парикмахер, тощий и костлявый мужчина лет пятидесяти.
– Побрейте и подравняйте на висках и затылке, – садясь в кресло, сказал Радин.
– Приезжий будете? – ловко и увлеченно намыливая ему щеки, поинтересовался парикмахер.
– Да, ученый буддист из Москвы, – очень серьезно и важно ответил ему Радин.
«Забавный город», – подумал он и снова вспомнил Софью Аркадьевну.
– О, да вы, товарищ писатель, точны, как часы. Прямо военная точность, – выходя навстречу гостю, сказал полковник.
– Семь лет службы в армии, – и вот вам результат, – пожимая руку полковнику, пошутил Радин.
– Ну, это особенно приятно, свой, значит, военная косточка, – обрадовался Четвериков. – А где служили, в пехоте?








