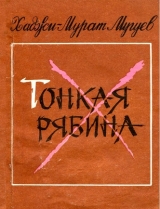
Текст книги "Тонкая рябина"
Автор книги: Хаджи-Мурат Мугуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Это тебе спасибо, что честно работаешь, да еще Марье Ивановне, что указала на тебя в свое время. У тебя срок – три года?
– Так точно, три.
– Ну, здесь уже семь, да в заключении четыре, то да се, около года будет. Держись так и дале, писатель, в свое время уйдешь отсюда.
Он закурил, потом, видимо, обуреваемый потребностью беседы, спросил:
– Ну, как, народ боится меня, кажется?
– Не знаю, гражданин начальник. Я этого не слышал…
– Слышал… Недаром «Иваном Грозным» зовут. А я не грозный, я справедливый. Другой здесь черт знает что с вами бы сделал, а я по справедливости и правде… Заслужил чего – получай! Кому карцер, кому еще что, – по заслугам, а хорош, честно работаешь, даже паек и тот могу увеличить. Так я говорю?
– Так, гражданин начальник.
– То-то!.. Вот меня, я слышал, всякие там дураки да контрики осуждают, зачем я две недели назад стариков в шахты послал… слышал ты это?
– Слышал.
– Ну, а коли слышал, так знай, что я их спас, а не губить послал, как кто-то слух пустил. А этой шпане и невдомек, отчего я стариков в шахту направил. А как ты думаешь, почему?
– Не знаю, гражданин начальник.
– А потому, что я человек добрый и умный, вот почему. Приказ пришел послать на подмогу в шахту семнадцать человек, а кого, на какой срок, не сказано. Что я делаю? Исполнять приказ надо, а у меня наверху план горит. Знаешь ведь, у нас тоже нормы, тоже обязаны их выполнять. Пошли я семнадцать человек здоровых и молодых в шахту, что от этого будет? А будет вот что, – там они, может, и помогут, а наверху, в лагере, план вчистую, как есть, будет сорван. А что мне важнее? Конечно, здесь. Вот я подумал и решил: стариков у нас, таких, от кого как от козла молока, человек сорок найдется. Пошлю-ка семнадцать старых контриков под землю, пусть побудут в шахте, может, чем и помогут… Так и сделал, послал семнадцать хрычей и доложил… столько-то заключенных спущены в шахту на авральную работу, а семнадцать здоровых здесь свое дело без заминки выполнят. Ну, что я имею? План выполнен, приказ тоже, а стариков через две недели обратно поднял. Раз не сказано, на какой срок, я их по доброте своей на две недели спустил в шахту. Ну, видел, как? А всякая сволочь недовольна… На смерть, говорят, послал старых, а их всего-то шестеро и померли.
– Восемь, – тихо поправил Радин.
– Что-о?! Ах ты, сволочь, сука продажная, лягавый! – вскакивая с места и ударив по столу кулаком, закричал Темляков. – Следишь за мной, подлюга, для доноса собираешь… убью, стерва!.. – в ярости бросаясь на Радина, завопил он.
– Да что вы, гражданин начальник, что вы говорите… о каком доносе, да и зачем я следить буду… – отшатываясь к полкам, сказал Радин. – Ведь я же в околодке работаю, для вас каждый вечер списки больных и умерших готовим… я веду эти списки и наутро сам отнес вам, это ж моя обязанность…
Начальник стоял, тупо глядя на него, потом проговорил:
– Ну не шестеро… а какая разница. Главное, выполнил план и остальных вернул на поверхность. А ты что за них печалишься?
Он несколько секунд злобно глядел на Радина, потом отвернулся и, отходя, сказал:
– Черт тебя разберет, правду говоришь или крутишь…
– Правду, гражданин начальник, да и зачем мне лгать, или как вы сказали, крутить, к чему? Разве мог я даже мечтать о таком моем положении в лагере, когда шел этапом сюда? – он развел руками. – Можете думать обо мне как угодно, но негодяем и неблагодарным подлецом я никогда не был и не буду…
Темляков подошел к нему.
– Вот за то я тебя и отличаю, бывший лейтенант, – он похлопал Радина по плечу, – хоть и заключенный, а совести и спасиба не потерял. Я, брат, за тобой все время слежу… и знаешь, что в мою голову приходит? – Он оглянулся, посмотрел за дверь, прикрыл ее поплотнее и, пригнув к губам голову Радина, зашептал: – И у нас, в органах, бывают ошибки… Случается, не часто, но… бывают. Я это давно заметил. Ну ты, браток, в такой процент ошибок и попал… но ничего, отсидишь срок, все наладится, опять человеком станешь. А лагерь даже на пользу пойдет. Только ты забудь, – голос его неожиданно окреп, – что я тебе сейчас сказал, забудь, и точка, ровно ничего такого и не было, понятно?
– Будьте спокойны, гражданин начальник, не было и быть не могло, – сказал Радин.
– Умница, – похвалил его «Иван Грозный». – А что там шесть или восемь стариков отдали концы… – он махнул рукой, – какая разница… Зато другие живы и на поверхности снова… Да, – вспомнил он, – ты же еще с конвоем?
– Так точно!
– Сегодня отдам приказ расконвоировать тебя, будешь по территории ходить свободно, а после и вокруг лагеря, к поселку и деревне, как фершал, – он поправился: – как медработник ходить по вызовам будешь. Небось, не сбежишь? – довольный своей шуткой хохотнул Темляков.
– Благодарю вас, гражданин начальник. Этого я даже в мечтах не имел…
– А я имел. Я ведь добрый. Ты не верь вся кой сволочи, что я – зверюга или лагерный хам. Кому верю, тому добро делаю, не боюсь, что наверху узнают. Кто что заслужил, то и должен получать. Правильно я говорю, писатель? – снова похлопав по плечу Радина, спросил «Иван Грозный».
– Конечно.
– А тут и Марья Ивановна за тебя горой, и доктор этот из армянов, что ли, как его…
– Карсанов. Он осетин.
– Да, он хвалит тебя не нахвалится. Вот я тебе в свой день рождения подарок и принес… Помни меня и тогда, когда на свободе будешь.
– Всегда буду помнить, гражданин начальник.
– Я ведь и семью люблю. У меня Маша – вторая, первая жена четыре года как умерла. Под Вологдой дочка, ей десять лет, в деревне у бабки живет. Марья Ивановна ее как свою любит, может, даже поболе меня. Каждое лето с собой на курорт то в Крым, то в Сочи, а то еще куда берет, по два-три месяца с нею в городе или деревне живет, так ее дочка, Анютка, мамой называет. Вот она какая душа, Марья Ивановна, ласковая да добрая. Я ей предлагал – возьмем Анютку сюда, пусть вместе с нами живет, и тебе веселей, и ей лучше будет. Так знаешь, что она сказала, а? – Он снова оглянулся на дверь и зашептал на ухо Радину: – Избави, говорит, бог, сюда… чтобы ребенок на море слез и ужасов насмотрелся… Неужели ты, говорит, не понимаешь, что ты, взрослый, или с ума от всего сойдешь, или ожесточишься сердцем и перестанешь быть человеком. Видал, как? – засмеялся Темляков. – Она, брат, с сердцем, только закалки деловой нет. Добрая, но… баба, – махнул рукой «Иван Грозный». Секунды две он благодушно улыбался, затем насторожился и строго сказал:
– Ты это тоже забудь, и про Марью Ивановну, и про Анютку, и про все… ровно ничего и не было… Понятно?
– Ничего и не было, гражданин начальник. Я даже не пойму, о чем вы говорите, – спокойно ответил Радин.
– Ох и хитер, сукин сын, писатель! Умница, молодец… А теперь работай, а я пойду по территории.
Хорошо быть расконвоированным, идти по территории, куда тебе вздумается, заходить в любое отделение лагеря не как ведомый часовым узник, а как почти свободный медработник. Радин первые дни не мог поверить своему счастью. А спустя неделю «Иван Грозный» приказал включить его в число нескольких работников больницы, коим было разрешено в случае вызова и необходимости выходить за пределы лагеря для оказания медицинской помощи жителям соседних поселков – Березняки, Мурино и рабочей слободки имени Октябрьской Революции.
Наконец и работа по приведению в порядок библиотеки подошла к концу.
– Разрешите доложить, гражданин начальник, – как-то утром сказал он Темлякову.
– Ну, докладай! – обтирая губы салфеткой, разрешил тот.
– Заканчиваю библиотеку. Все сделано, и по тематике, и по алфавиту, и по классификации.
– Чего тебе не терпится? Плохо здесь, что ли? – недовольно перебил его начальник.
Мария Ивановна, перестав есть, тоже смотрела на Радина.
– Никак нет, гражданин начальник. Когда я здесь, для меня это самые светлые минуты за последние годы…
– Так чего рвешься, куда спешишь? Все равно на волю рано, еще годик-полтора тебе причитается, – засмеялся «Иван Грозный».
– Просто неловко как будто, – Радин замялся.
– Ну, ну… – подбодрил его хозяин.
– Ну, вроде обманываю вас, пытаюсь затянуть работу…
– Ух, какой честный и дурак! – обрезал Темляков. – Ты думаешь, я не вижу, что дело к концу идет, а?
Радин молчал, Мария Ивановна улыбнулась.
– Вижу… А я вот хочу, чтобы ты еще в чистоте да тепле побыл, кофе да чай попил, понятно тебе? Ты хоть и заключенный, а человек честный, и мне это нравится, с тобой когда и поговорить охота, потому что ты образованный, лейтенантом был, книги писал… Чего это я тебя в барак обратно; пущу?
– Вы, может быть, больше хотите медициной заняться? – пришла ему на помощь Мария Ивановна.
– Очень хотел бы.
– И без тебя помощников смерти хватает. Ишь, какой профессор нашелся, – равнодушно сказал «Иван Грозный». – Ну ладно, приходи сюда, теперь два раза в неделю, и продолжай возню с книгами, а в лазарете работай с утра и до вечера, как все.
– Покорнейше благодарю, гражданин начальник, – обрадовался Радин.
– Ну, а за твою честность, писатель, скажи, чего б хотел… Я человек добрый, справедливый, ежели хорошему человеку надо помочь – помогу.
Радин молча глядел на благодушное, совсем не похожее на обычно хмурое, насупленное лицо начальника лагеря.
– Ну, говори.
– Письмо жене хотел бы послать, – тихо сказал он, – отсюда нельзя, а она уже два года, как в полном неведении…
– Нельзя! Чего нельзя, того и не проси, сам знаешь – запрещено, без права переписки… Ну и жди своего срока, – вставая, оборвал разговор Темляков.
Радин вздохнул.
– Нельзя! – категорическим тоном повторил «Иван Грозный».
– Можно, – остановила его Мария Ивановна. – Через три дня я еду с нашей дочкой в Кисловодск. Завтра поеду за ней в Вологду, в деревню. Напишите письмо и передайте мне, а я его отошлю из деревни или с Кавказа.
– Марья, не дури! Раз нельзя, значит, нельзя!
– А ты ничего не знаешь, не видел, да и письмо будет послано далеко отсюда… А вы, товарищ Радин, не пишите ничего лишнего.
– Только что жив и что через полтора года буду свободен, – поспешно сказал Радин.
– Маремьяна старица за весь мир печалица, – хмуро произнес Темляков. – Только помни, ничего ни я, ни Марья Ивановна не знаем, не ведаем… и ни слова, где ты, что с тобой, какая жизнь… понятно? – сердито буркнул он и вышел из комнаты.
Радин тут же, в библиотеке, написал короткое письмо.
«Милая Соня, я жив, здоров, нахожусь в сносных условиях и, если все сложится благополучно, через полтора года встретимся вновь. Мысли о тебе дают силы жить, и в то же время неведение так мучительно, – где ты, как живешь?. Это первое письмо, если смогу, напишу еще. Мое счастье, что есть на свете добрые люди. Жди, крепись, надейся. Люблю и всегда буду любить».
Он дважды прочел написанное и задумался. Куда писать?
В комнату вошла Мария Ивановна. Радин молча подал ей письмо, она прочла его, дала ему конверт и удалилась.
«Куда же… куда?» – лихорадочно соображал Радин. Надо было спешить. Своенравный, неустойчивый характер начальника лагеря был хорошо известен ему. Нужно было успеть передать Марии Ивановне письмо до прихода ее мужа. Радин вздохнул и решительно вывел: «Ленинград, Кронверкская ул…». Он что-то смутно вспоминал, что улица эта переименована, но нового названия, конечно, не знал. Может, найдут… «На деревню дедушке», – горько усмехнулся он.
Мария Ивановна прочла адрес, покачала головой и заклеила конверт.
– Сам понимаю, что все это почти нелепо, – трустно сказал Радин и быстро, сбивчиво, боясь появления Темлякова, рассказал Марье Ивановне о Соне.
Спустя сутки она уехала из лагеря за Анютой в село, откуда они выехали в Кисловодск.
Больше никогда Радин ее не видел и ничего не слышал об этой доброй, по сути, спасшей ему жизнь, женщине.
Через несколько дней позвонили из поселка, срочно просили врача, и Карсанов послал Радина. Это был его первый свободный выход за пределы лагеря. Держа в руках чемоданчик с инструментами, он вышел за ворота, за обнесенные колючей проволокой стены и изгороди лагеря и поспешил к поселку, идя между высоких сосен, мимо кудрявых елей, вдыхая чистый, густой запах бора. Как он был знаком ему, как он полюбился Радину с тех пор, когда еще в Бугаче бродил по пограничным заставам и когда так неожиданно встретил в густом сосновом лесу Соню, наблюдавшую за игрой белок.
Поселок был километрах в четырех от лагеря. Он свернул с проезжей дороги на тропинку, проложенную сотнями ног.
Вдали показался поселок. Слева от дороги был родник и криница с холодной прозрачной водой, откуда женщины поселка брали воду. Сбоку в скалу был вставлен стальной широкий желоб, из которого, пенясь, била струя воды, вливаясь в большой оцинкованный деревенский сруб. Радин с жадностью припал к желобу, долго, с наслаждением пил холодную прозрачную воду. Никогда в его жизни не было ничего вкуснее этой живительной, ледяной воды. Он обмыл лицо к поспешил дальше.
Прощупав пульс больной, Радин измерил давление. Пришел и доктор Стебельков, одобривший действия Радина. Повозившись с больной около часа, дали ей снотворное, оставили нужные лекарства и ушли.
Возле криницы Радин снял с головы шапку и, хотя не делал этого уже много лет, неожиданна даже для себя самого, перекрестился. Доктор Стебельков удивленно уставился на него, но ничего не сказал.
Прошло еще несколько дней. Радин с душевным трепетом думал о том, что его письмо, возможно, уже в Ленинграде. Он и верил, и не верил этому, очень хотел и не надеялся на такое чудо.
Утром, когда он вместе с врачами вел обычную работу по лазарету, его окликнул кто-то из охраны.
– Радин, к начальнику, жи-ва!..
Странно, зачем он мог понадобиться начальнику? Все было как обычно – так же работали заключенные, трудились на своих местах, на вышках медленно прохаживались часовые.
– Вот что, Радин, – встречая его в дверях, сказал Темляков, – дело есть такое… – Впервые за все это время он назвал его по фамилии. – … дело такое, писатель. Ты ничего не слыхал? – поднимая на него глаза, вдруг спросил начальник.
– Ничего, – тут только Радин заметил воспаленные глаза начальника, его осунувшееся лицо, беспокойный взгляд. – Ничего.
– Да-а… Дело такое, – в раздумье, медленно проговорил Темляков – меня вызывают в… – он назвал крупный краевой город, – зачем, не знаю. Может, на новое место или для инструкции… – потом, оборвав свою речь, задумался. – Там у вас ничего не говорят насчет нового Наркома вместо Николай Иваныча, а-а? – он пытливо и настороженно вгляделся в лицо Радина.
– Ничего, – в третий раз односложно ответил Радин.
– Т-а-а-к! Ничего… – повторил «Иван Грозный». – Так вот какое дело… ежели я не вернусь, а без меня приедет Марья Ивановна за вещами… ну, на другое место переезжать… ты, – он остановился, смолк, долго смотрел на Радина, видимо, даже не замечая его, потом махнул рукой и резко сказал: – А, все это ни черта не стоит. Уходи… да поживей! – злобно выкрикнул он.
Ошеломленный Радин выскочил из особняка начальника.
«Что-то произошло», – сообразил он.
А на территории буквально за минуту все переменилось. Заключенные стояли кучками, о чем-то перешептывались. Конвойные, как бы не замечая этого, угрюмо стояли, и только часовые, как заведенные, ходили взад и вперед на сторожевых вышках.
– Дело в том, что Ежов пал, на его месте кто-то новый… Многих лагерных начальников поснимали, вероятно, очередь дошла и до нашего «Ивана Грозного», – сказал Карсанов, когда. Радин рассказал ему о странном поведении начальника лагеря.
В полдень приехал новый начальник лагеря. А утром, чуть свет, «Иван Грозный» выбыл из лагеря, даже не повидавшись со своими помощниками.
Новый был худ, высок, одет в офицерскую форму ОГПУ с тремя шпалами на воротнике. Он пока не вмешивался в жизнь лагеря, не менял установившегося порядка, старался быть справедливым, но вожжей, однако, не отпускал.
О «Иване Грозном» в лагере забыли уже через неделю, словно никогда и не было этого человека, державшего в своих руках судьбы заключенных…
Радин в последний раз вошел в лазарет, где он провел последние годы. Провел без права переписки, без какого-либо голоса с воли, не знал, где его друзья, что с Соней и как сложилась ее жизнь. И эта кара, ужасная, чудовищная по своему изуверству, была для него одной из самых тяжелых за эти годы. Сотни и сотни раз он думал о Соне, ни на секунду не отделяя ее жизнь от своей. Но где она, жива ли? Быть может, вернулась к мужу.
И снова – этапы, проверки, ожидания у дверей разных начальств, вынужденные разъезды и, наконец, поднадзорная жизнь в Киргизии, в небольшом ауле Чолпан-Ата, на берегу Иссык-Куля.
А шел уже октябрь 1941 года, четвертый месяц страшной, охватившей всю страну, войны, а он только недавно обрел постоянное место жительства и штатное место фельдшера на конном заводе Чолпан-Аты.
Газеты, радио, узун-кулак – все ежедневно приносило новости в аул, и новости эти были плохи. К Москве подходил враг. Ленинград в блокаде. На западе, севере и юге шли беспрерывные бои.
Из Чолпан-Ата, из Сафоновки и из близлежащих аулов уходили на войну люди. Вокруг все было охвачено войной, хотя была она далеко, за тысячи километров.
Радин ждал месяц, еще десять дней. Его не призывали, словно забыли о нем, словно он был не русский, а чужой, вовсе не советский человек.
Тогда он поехал в районный центр, поселок Рыбачье, где и явился к военкому.
Выслушав его, военком сказал:
– Я вам верю, но поверят ли они, – он сделал рукой неопределенный жест, – и потом, вы, наверно, не знаете, что если вам и разрешат, то только в штрафную роту…
И глядя с сочувствием на ошеломленного Радина, пояснил:
– Ведь у вас еще большой срок высылки.
– Неужели и теперь, когда Родине нужен каждый человек, каждый военный, эти подлые законы должны висеть надо мной?
Военком, словно не слыша его слов, сказал:
– Подайте заявление о призыве в действующую армию. Напишите все о себе. Но штрафной все равно не избежать. Такова установка. Но помните, что первое же отличие, как и первая кровь, снимает все. И ссылку, и тюрьму, и судимость.
Писать пришлось не три и не сто раз, а четыре, пока, наконец, из Фрунзе не пришел ответ.
«Ссыльного Радина Владимира Александровича призвать на военную службу, включить рядовым в штрафную роту, входящую в состав формирующейся в Оше стрелковой дивизии».
Так же упорно, как просился на фронт, он писал письма, адресуя их то в пограничный городок Бугач, хотя из газет знал, что вся эта полоса уже давно захвачена белофиннскими и немецкими войсками, то в Ленинград, в адресный стол, но ответа не получал.
Вскоре он понял, что письма не доходят до его адресатов. Писал он и в Москву, с просьбой разыскать и уведомить его о Софье Аркадьевне Четвериковой-Красновой. Но молчала и Москва. Радин продолжал писать то в Политотдел погранвойск, ища Четверикова, то в Иаркомздрав.
Как раз в эти дни и получил он приказ о зачислении его в штрафную роту.
Через два месяца полк выступил на ускоренное обучение в район Саратова, а спустя еще три месяца отправлен на Западный фронт.
По пути поезд остановился в районе Раменского, под Москвой.
Как близка и как недоступна была столица, особенно им, штрафникам, которых даже в баню повели по счету.
Радин шагал в колонне по четыре. Низенькие, такие знакомые, такие родные его сердцу подмосковные дома.
Через час их поезд, обходя по окружной дороге Москву, пошел на Запад.
Так он и не попал в эти июньские дни 1942 года в свою Москву так и не подышал ее воздухом, так ничего не узнал он о дорогом ему человеке.
Поезд не спеша бежал к Можайску. Стучали колеса, подрагивали вагоны. Солдаты спали, лишь изредка кто-то слезал с нар, и снова постукивали колеса неосвещенных вагонов.
Радин лежал на нарах и невидящими глазами смотрел в потолок.
Поезд бежал в ночи, делая то длительные, то короткие остановки, а Радин все лежал, подперев руками голову и думал о своей несчастной любви, о своей так неудачно сложившейся жизни.
На заре поезд остановился на станции Можайск, и солдаты, позевывая и потягиваясь, стали выходить из вагонов.
«Первая – стано-вись! Вторая рота…! Четвертый взвод, к дороге!» – неслись зычные команды старшин.
Радин разыскал свой взвод и пристроился к своему звену. Некоторых штрафников он уже знал по роте, других же видел впервые. Дело в том, что некоторые из тех, кто еще в Саратове был на обучении вместе с ним, исчезли. Куда они делись, дезертировали или их снова взяли, Радин не знал, да и не интересовался этим.
– На первый-второй – рассчитайсь! – проходя мимо шеренги построившейся роты, скомандовал старшина.
Спустя час полк на грузовых машинах совершил марш на 151-й километр от столицы, где в лесах, по обе стороны Минского шоссе, стояла стрелковая дивизия, на пополнение которой и прибыл их полк.
Полки дивизии стояли в боевых порядках, занимая оборону справа от шоссе. Слева находились части 40-й стрелковой, а на правом фланге краснознаменная 32-я соседствовала с полками 356-й бригады, сформированной из рабочих и добровольцев Москвы.
Кое-где расстояние между противниками было не больше 800 метров, но в иных местах достигало километра, и даже двух. Вокруг были густые подмосковные леса, отсюда начинались и гжатские, местами переходившие в низкорослый кустарник. И чуть ли не каждый метр их был населен людьми, каждая поляна, просека были заминированы. Задрав к вершинам деревьев огромные стволы, стояли тяжелые и большой мощности орудия, изрыгавшие по квадратам леса и по Минскому шоссе многопудовые снаряды. И русские, и немцы днем и ночью бомбили лес, щелкали выстрелы снайперов.
Это была линия фронта под Гжатском лета 1942 года, И сюда, в подразделение 93-го стрелкового полка, попал в качестве штрафника Радин.
Майор из Политотдела провел беседу с ними. Работник дивизионной газеты, младший политрук Рохлин прочел им ряд статей из газеты. Потом начальник Политотдела, старший батальонный комиссар Ефимов, рассказал прибывшему пополнению историю дивизии, о ее славных боевых делах в гражданскую войну.
– Наша 32-я стрелковая дивизия родилась в Саратове еще в 1918 году. Прошла славный боевой путь. Била Колчака, громила Деникина, уничтожала банды на Юге и в Поволжье и, наконец, была направлена на Дальний Восток. И здесь наша 32-я с честью пронесла свои знамена в боях с самураями и бандами Маньчжоу-Го. Вы слышали, конечно, о боях на Хасане?
– Знаем… как же… – раздались голоса.
– Это она брала штурмом Безымянную. Войну с фашистами мы начали под Москвой, куда нас перебросили с Дальнего Востока. В октябре 41-го мы двое суток силами одной нашей дивизии защищали все Бородинское поле от 4-го немецкого мотомехкорпуса. Двое суток мы били фашистов и не дали корпусу ринуться к Москве. За этот и последующие бои дивизия представлена к присвоению ей Гвардейского звания. Пока еще мы не гвардейцы, но завтра можем стать ими. И вам выпадает большая честь не только снять с себя имя штрафников, но и стать гвардейцами.
– Слов говорить не будем, а покажем делом, – негромко сказал сосед Радина, худощавый человек лет сорока.
И все дружно закивали, что-то вразброд отвечая комиссару.
– А это у вас орден за Хасан? – почтительно глядя на Ефимова, спросил кто-то.
– «Красное Знамя» – за штыковый бой у Хасана, а «Звезда», – за отражение нападения японско-маньчжурских банд на заставу. Еще в 1935 году. Я ведь раньше пограничником был.
– А вы, товарищ старший батальонный комиссар, не знали случайно полковника Четверикова? – с надеждой спросил Радин.
– А как же. Кто из пограничников не знал этого лихого командира. Грозой был для всех маньчжоу-го и самурайских прохвостов. А ты его знаешь? – спросил Ефимов.
– Знал, но потерял из виду, – уклончиво ответил Радин.
– Он куда-то не то сюда, не то на Север перевелся, – продолжал комиссар, – а как уж там дальше, не знаю. Если жив буду – встретимся. Вся Россия на фронте… еще повидаемся. Твоя фамилия как? – поинтересовался Ефимов.
– Радин, товарищ старший батальонный комиссар.
– В армии служил?
– Так точно, командовал полубатареей тяжелых гаубиц.
Ефимов пристально всмотрелся в Радина и коротко сказал:
– Вам, командиру и знакомому полковника Четверикова, надо первым подать пример товарищам. Разойдись! – скомандовал он и пошел к своей землянке.
Глядя на большую, аккуратно сложенную, заготовленную еще в мирное для москвичей время поленницу, Радин думал: «Где теперь эти люди, которые заготавливали ее? Вероятно, так же сидят в окопах или землянках, как и мы».
– Чего задумался, браток? Тут думай не думай – война! – покуривая толстенную козью ножку, сказал сидевший возле красноармеец. – И все-таки хо-ро-шо. И воздух чистый, и еда три раза в день, да и свобода, – широко раскидывая руки, радостно сказал он. – А что смерть возле бродит, так нас убьют, а за нами еще мильен стоит, а за ним другой идет, а хочь немец всех под себя подмял, так какая ему с того польза. Подмял всех, а боится, опасается. Это им Гитлер наобещал: в неделю покончим с русскими… Вот фриц глупый и поверил.
– Разве он глупый? – уже весело переспросил Радин.
– Кто, фриц-то? А как же. Ежели б умный был, разве б его Гитлер захомутовал? Ясное дело – дурачье, – убежденно сказал собеседник.
– А ты, оказывается, философ, – засмеялся Радин.
– За это и получил семь лет, и штрафником сделался, – подтвердил солдат.
– А как?
– А так. Я кузнецом был у себя в колхозе. Слышу, того посадили, этого забрали, тому пятнадцать припаяли, и все шпиены, и все – враги народа. Я как-то и посумлевался. Да что, говорю, такое делается. Неужто мы хуже других нациев, что через одного другой шпиен. Не верю я в такое дело… Если и есть где шпиен, так его, может, среди ста тысяч один найдется. Сегодня сказал, а вечером меня забрали. Сидел по разным местам пять месяцев. Объявили – три года отсидки и четыре ссылки. Да сидел в тюрьме недолго, спасибо, сюда направили.
– А ты не боишься про это рассказывать? – спросил Радин.
– А чего бояться? Мы вдвоем, да разве вот эти поленья свидетели… А затем, друг, ты тоже штрафной, тоже о жизни мечтаешь, – небось, нахватал горя. Так разве мне тебя бояться надо?
Так началась дружба между двумя штрафниками – писателем Владимиром Радиным и солдатом Прохором Ветровым.
Второй батальон 93-го полка около полуночи сменил роты 3-го батальона.
Прошло уже пять дней, как штрафники попали в дивизию, но боевого крещения еще не было.
Радин как наблюдатель уже дважды занимая вырытые у шоссе противотанковые щели. Но дела не было, а постоянная сухая трескотня автоматов, щелканье одиночных выстрелов стали столь привычными, что даже новички перестали обращать на них внимание.
Утро было ясное и такое светлое, что хотелось лечь на спину, заложить руки за голову и долго и бездумно смотреть в лазоревое, голубовато-зеленое, без единого облачка, небо.
Все в природе было мирным – и лес, и щебетание птиц, и пчелы, перелетавшие с цветка на цветок. Не были мирными только люди.
Равномерно бухали орудия и сухо постукивал на левом фланге пулемет. Постучит и замолкнет, снова протарахтев, смолкает.
– Пристреливается или просто бьет по одиночным, – определил Прохор.
Слева за кюветом стояли два замаскированных противотанковых орудия, возле которых на корточках сидел молодой лейтенант, вполголоса разговаривавший с сержантом-артиллеристом. Больше, казалось, не было никого, но на самом деле позади Радина и постов лес ожил бы в пять минут, если б возникла тревога.
Прошло еще полчаса. И вдруг, из глубины обороны немцев, со стороны КП полка, низко, идя почти по верхушкам сосен, вынырнул «Фокке-Вульф» и, осыпая пулеметными очередями расположение КП, резко свернул к шоссе.
Шел он быстро, на бреющем полете, и так неожиданно нахально, что лишь отдельные одиночные выстрелы раздались из леса.
Как в это ясное утро проник он сюда, шел ли откуда-то с фланга – было непонятно. Наглость немца ошеломила всех.
– Гляди, фашист! – крикнул Прохор, хватая автомат. Оба артиллериста успели лишь поднять головы, как над ними уже легла и промчалась тень самолета.
По шоссе защелкали пули, ветви, сбитые ими, медленно падали на землю. Фашист, видимо, обнаруживший наши противотанковые пушки, резко взметнулся вверх и, развернувшись, опять понесся к этому месту.
Радин схватил тяжелое противотанковое ружье и тщательно прицелился в нос «Фокке-Вульфа».
«Бить с упреждением… стрелять, учитывая скорость самолета», – вспомнил он наставления командира, еще под Саратовым обучавшего стрелков.
Прохор, стоя во весь рост, дал длинную очередь по самолету.
«Раз, два, три», – отсчитал в уме Радин и нажал на спуск.
Из самолета посыпались мелкие, вероятно, 25-килограммовые бомбы. Они почти накрыли одно из наших орудий, взметнув пыль и комья земли. Блеск огня ослепил Радина, успевшего выпустить еще один патрон в «Фокке».
– Горит, стерва, горит, – вдруг закричал Прохор. Дым и пламя выбивались из-под крыла самолета. Еще не веря такому успеху, Радин недоверчиво сказал:
– Обманывает – немцы это любят…
– Куда там, обманывает, падает… кругом пламя… – хлопая себя по бедрам, в восторге закричал Прохор.
Самолет, падая, перевернулся, и, оставляя темный хвост дыма, свалился невдалеке. Раздался взрыв, за ним еще один, взметнулось пламя, и все стихло.
– Неужто это мы его? – С удивлением спросил Прохор.
– Может быть, мы, а может, другие, – подумав, ответил Радин.
– Да мы это его сшибли, – стал убеждать его Прохор. – Вот, еще войны не видали, а уж отличились.
– Молодцы, товарищи, – подходя к ним, сказал лейтенант, – мы с наводчиком еле в щель успели заскочить. И откуда он только взялся.
– Откуда взялся, не знаю, а вот что к чертям пошел, это факт, – сказал другой артиллерист. Хорошо вы его, ребята, смахнули. Кому-то из вас орден Отечественной носить придется.
А по шоссе, туда, где упал и взорвался фашистский самолет, уже бежали люди. Между деревьями мелькали фигуры солдат. Из тыла появились и командир отделения, и политрук роты.
– Молодцы, товарищи. Сшибли хищника. Он, подлец, на шоссе двух бойцов ранил и КП обстрелял. Так кто ж из вас отличился? – разглядывая обоих штрафников, спросил политрук.
И только тут оба солдата, и Радин, и Ветров: вспомнили о том, что кто-то из них совершил подвиг и что это в какой-то мере решит его судьбу.
Радин растерянно посмотрел на Прохора.
– Ну, так кто же? Вам, товарищи, понятно, что дает отличившемуся этот подвиг.
– Стреляли оба… одновременно, – спокойно ответил Радин. – Думаю, что сбил его он, – и Радин показал рукой на Прохора.
– Нет, браток, это не годится. Били оба, это точно. Но я так думаю, что сбил все же ты, из противотанкового повалил немца, – сказал Прохор.
– Вы не просто герои, но хорошие, честные товарищи. Эксперты разберут, чем сшибли фрица, а вам, товарищи, спасибо за подвиг. Начальству будет доложено о вас, – пообещал политрук.








