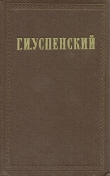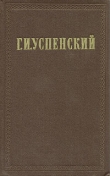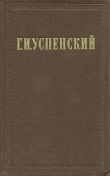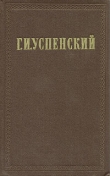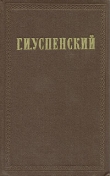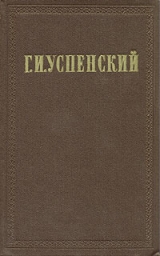
Текст книги "Том 5. Крестьянин и крестьянский труд"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
X. Результаты и заключение
Таковы были возмущающие душу впечатления, принесенные мне газетами и исходившие от «не мужицкой» части русского общества. Но неумолимые газетные листки принесли недобрые вести и из народа… Что эти вести суть прямой результат того образа действий по отношению к народу образованных людей, на изображении которого я останавливался в предшествовавшей главе, – в этом не было, конечно, никакого сомнения; но результаты все-таки не теряли своего безобразия, несмотря даже и на смягчающие и объясняющие их обстоятельства. Укажу на те из этих безобразных явлений, которые непосредственно вытекают из действительности. Известно, что во время голода на обсеменение полей и на прокормление в течение зимы крестьянам выдаются заимообразные пособия. При этом, как удостоверяют корреспонденции из голодных губерний, происходят такие вещи: «крестьянские общества во время неурожая медлят своими заявлениями, опасаясь круговой поруки… Более зажиточные крестьяне, полагая, что в случае нового неурожая они вынуждены будут платить за бедняков, часто противодействуют приговору о круговой поруке или же если и дают на него свое согласие, то под условием тоже получить ссуду и на свою долю, хотя бы им было это вовсе не нужно».Бывало также, что при дележе ссуды на долю бедняков доставались такие небольшие деньги или количества хлеба, что они не видели в них надежной помощи, спускали без толка на какую-нибудь несущественную нужду или в кабак. В «Новом времени» писали из слободы Покровской (Самарской губернии, Новоузенского уезда), что, отказавшись от казенной субсидии, крестьяне решили закупить хлеб на мирские суммы (богатая слобода), но разделили его не между нуждающимися, а между всеми поголовно, и притом по душам.Такого рода известий появляется весьма много в газетах, и мы уверены, что они являлись бы отовсюду,если бы этасторона общественных порядков современной деревни должным образом интересовала и деревню и общество. Явления эти поистине можно считать безобразными явлениями. Судите сами: в деревню привозят хлеб или деньги, рассчитанные по количеству недостаточныхсемей. Предположим, что в деревне двадцать дворов, из которых недостаточных, то есть таких, которым именно и нужно пособие,пять. И вот мир, не желая отвечать,не может дать им этой ссуды, а начинает ее делить, основываясь на том: «ежели мне придется отвечать, так пущай же и я получу на свою часть». Начинается дележ, и притом по душам,то есть у богатого мужика пять душ – ему «больше всех» из нищенской муки; у среднего три – ему на три. А вот человек без души – так ему, разумеется, ничего и не останется. Даже нет того мерила, по которому он может получить хлеб. Единственное мерило, это отвечать!А он, например Еремей, чего ему отвечать? и чем? Он просто голодный – ну, а это не резон для таких серьезнейших мирских дел. Премудрость этих дел и венчается достойным образом: «Хлеб оказывается у тех мирян, которым он не нужен,а кому он нужен,у того его нет или оказывается столько, что лучше всего отнести его в кабак».
Но вы, пожалуйста, не заключайте из вышесказанного, что мы с Иваном Ермолаевичем какие-нибудь звери. Слава тебе господи, кажется, что бога мы помним, знаем, что значит грех – не маленькие. Совесть тоже у нас есть. Нельзя без этого. И пожалуйста не думайте, что все хромоногие солдаты и их мальчишки перемрут с голоду, а мы будем настолько жестоки, что равнодушно и хладнокровно отнесемся к этому зрелищу. Иван Ермолаевич, надо понять это, не могиначе поступить, не мог сделать как-нибудь иначе это дело, которое вас возмущает. Ведь в самом деле, разве мало за что Иван Ермолаевич отвечает?А тут приходится отвечать за хромоногого солдата, который пред этим двадцать раз надул того же Ивана Ермолаевича. Хромоногий солдат даже овчинника надул, доброго, сердечного человека. Посовестится ли он теперь? Очевидно, что он по своей природе возьмет хлеб, съест его, а Ивану Ермолаевичу придется за него расплачиваться. Вот почему Иван Ермолаевич и берет хлеб, который ему не нужен. Но вместе с тем он и не злодей, он помнит бога, совесть и грех. Хлеб он точно взял, сколько ему пришлось по разделу, и привез домой, свалил его в амбар и ждет той минуты, когда лично ему ненужный хлеб он должен будет отдать нуждающемуся едоку.
Наутро лай собак свидетельствует, что едок приближается к жилищу Ивана Ермолаевича.
Идет это ничто,нуль, и ведет за руку дробь– мальчишку, и несет подмышкой целое– поросенка.
Это есть хромоногий солдат.
– Здорово! – говорит Иван Ермолаевич.
– Здравствуй, Иван Ермолаевич.
Солдат устанавливает деревяшку на настоящее место. Молчание.
– Что, погода как? – спрашивает Иван Ермолаевич.
– Кура! Не приведи бог… Чуть было не завяз в снегу-то…
Опять молчание.
– Вот что я тебе хотел, Иван Ермолаевич… Не возьмешь ли ты у меня мальчонку?
– Зачем?
– Да что, братец ты мой, ведь зарез мне!
– Кто же тебя зарезал?
– Кто! Чать сам знаю… Чать уж так… Ничего не поделаешь… В этом-то главная причина, есть нечего! Вот, например, какое дело…
Молчание.
– А кто, – спрашивает не без глубокого негодования Иван Ермолаевич, – кто меня по весне с мальчонкой-то посадил?
– Постой! Погоди ты… послушай ты моих слов, что я тебе скажу… О весне…
– Что о весне? О весне я слушал твои слова, верил, а ты как со мной поступил?
– Как я с тобой поступил-то?
– Д-да! Как ты со мной оборудовал?
– Как? Я-то? Ты о весне, что ли? Так еж-жели ты хочешь по совести, по чести – знать, так я тебе скажу… Изволь, я тебе скажу, коли ты ежели хочешь этого, чтобы знать, изволь, вот какова есть моя утроба, видишь вот! Какова есть самая моя утроба, так расшиб-би меня нечистая и разорви мои черевы, ежели я тебя… И т. д.
. . . . . . . . . . . . . . .
Иван Ермолаевич не зверь, он взял мальчишку и дал хлеба… Но на следующую весну, даже ранее весны, именно в тот самый момент, когда солдату опять стало нечего есть, он «обманом» увел мальчишку домой, перепродал его другому, и другого надул так же, как и Ивана Ермолаевича… Сердит Иван Ермолаевич на народ.
– Строгости нет! Избаловался народ, ослаб, никому поверить на грош нельзя…
А солдат тоже не весел:
– Так я тебе, толстомордому, и дался… Ишь ты! За мою же муку да норовит слопать моего мальчишку! Ловок! Ловки вы, грабители, толстобрюхие… Оттягали хлеб-то, мироеды анафемские… Вам бы только самим, а бедному человеку – шиш! Пог-годи, любезные… Я вас произведу…
Во втором из приведенных случаев дележа дело выходит еще выразительнее.
Там покупают хлеб сами, на мирской счет, и делят по душам. Большей частью хлеб покупают тут же, на месте, у своих достаточных односельчан. Получив за хлеб деньги, достаточные односельчане, при дележе по душам, получат назад и самый хлеб, едва ли не весь сполна. Таким образом, Иван Ермолаевич, получив за хлеб деньги, потом получив и самый хлеб, раздает его (не зверь же он какой в самом деле?) хромоногим бездушным существам и в обеспечение (ведь ему отвечать-то, хотя он и получил уже деньги) получает труд как самих существ, так и ребят, приемлет, кроме того, поросят и гусей.
Есть за что, как видите, и хромому погрозиться. Не без основания и он говорит:
– Погоди, ребята, я вас произведу-у!
Заключение, к которому привели меня размышления, внушенные газетными фактами, были следующие: «Нет, – думал я, – Иван Ермолаевич не виновен… Ни в чем, ни в чем не виновен. Верный своим взглядам, основанным на непреложных для него началах, он несет их сквозь толпу явлений жизни, не им созданных; он всячески отстаивает их, и не его вина, если на пути этого шествия ему приходится драться, да еще с своим братом… общинником. Нет, он в этом не виновен! Но я, русский образованный человек, я виновен самым решительным образом; я виновен тем, что до сих пор, двадцать пять лет, не нашел в себе решимости по совести признать, что Иван Ермолаевич уж не крепостной, не раб, и что я, бывший барин, теперь завишу от него, хотя бы только потому, что его – миллионы, что теперь даже из желания нажиться я должендействовать так, чтобы удовлетворять насущным потребностям Ивана Ермолаевича. Я должен строить дорогу преимущественно в видах Ивана Ермолаевича, если хочу не быть его разорителем, я долженустраивать промышленное предприятие не иначе, как в видах, главным образом, миллионной массы, если, во-первых, не хочу разориться, а во-вторых, если стыжусь разорить. Но именно этого-то последнего я и не стыдился и даже не стыжусь, пожалуй, и теперь. Напротив, я умышленно старался его затмить, расстроить, не давать ему ни науки, ни земли, ни малейшего облегчения в труде. Я так знакомил его с цивилизацией, что он только кряхтел от нее. За всю эту неискренность Иван Ермолаевия и наказывает меня тем, что начатое мною расстройство его быта практикует и в деревне, собственными руками разрушает то, на чем, если бы только я мог решительностать на сторону устроения, а не разрушения, действительно можно бы создать крупноеобщинное хозяйство, в котором бы не было людей, не имеющих права на хлеб, и в котором нашел бы место работника (за деньги, не беспокойтесь!) и образованный человек. Но так как я был труслив, своекорыстен и нерешителен, то Иван Ермолаевич и накажет меня тем, что покроет землю уже не кротким, а сердитым нищенством и внесет в общество вместо утаиваемой мною цивилизации те взгляды на человеческие отношения, которые мы с ним применяли к пастуху».
Власть земли *
I. Иван Босых
Морозный зимний день в полном блеске. Час одиннадцатый в исходе. В незамерзший кусочек полузаметенного снегом окна вижу я, как на широкий двор, примыкающий к тому деревенскому дому, в котором я живу, вошел крестьянин Иван Петров, по прозванию «Босых».
Вижу я, как ленивою, почти болезненною поступью подошел он к куче кое-как наваленных в углу двора поленьев, которые Иван взялся расколоть на дрова, как он, вместо того чтобы приняться за работу, принялся обеими руками крепко-накрепко царапать свою голову, держа подмышкою шапку, как потом, нахлобучив эту самую шапку на голову, потолкал кучу поленьев ногой, обутой в рваный валяный сапог, и как, опять-таки вместо того чтобы взяться за топор, стал разминать плечи, стараясь достать кулаком до средины спины… Вижу я все это и знаю, что Иван находится в самом мучительном состоянии, – знаю, что он болен «со вчерашнего», что он вчера крепко выпил, что если сегодня он и появился около дров, то уже поздний час прихода на работу, когда люди собираются обедать, означает только желание выпросить рубль серебра на опохмелье. И точно, поколотив кулаком поясницу и между лопатками, он полез в карман серого подпоясанного армяка за махоркой и потом, растирая ее на ладони, уныло поплелся в кухню. Здесь, как мне также уж достоверно известно, он долгое время будет курить, а чтобы завести общий разговор, сообщит, что «вчерась» у него вытащили в кабаке деньги, и, возбудив этим общее сочувствие, долго будет разговаривать о своем расстройстве, о том, как он жил на «вокзале», о том, как он поправился; сообщит множество сведений о том, как лечить такую-то и такую болезнь, как ловить барсуков, как прививать яблони, и в конце концов, не имея сил долее сопротивляться мучительному недугу похмелья, скажет: «нет, видно, ноне я не человек», – и пойдет ко мне просить рубль серебра, говоря, что у него внутри жжет и дерет, ест и сосет и что, очувствовавшись, он придет завтра до свету и все переделает с одного маху. И это также давно мне известно: знаю я, что, очнувшись, Иван Петров делается совсем другим человеком и что в такие – к несчастию, редкие – минуты нет в деревне такого другого мужика, который был бы так, как Иван, «зол» на работу, то есть так к ней пристрастен и так ею оживлен.
Иван Петров принадлежит к тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, как Россия, классу деревенских людей – классу, народившемуся в последние двадцать лет, – который волей-неволей приходится назвать «деревенским пролетариатом».
Этот новорожденный пролетариат решительно мог бы не существовать на нашей земле, если бы миллионы мероприятий, направленных в сторону народа, дорожили народным миросозерцанием, по малой мере в таких же размерах, как и его платежной силой. Для того, чтобы махнуть рукой на землю и предпочесть своему дому дом питейный, вполне достаточно хотя бы только той нелепицы в крестьянских «правах», вследствие которой крестьянин, сегодня бывший присяжным, судьей и великодушно оправдавший несчастного человека, давший ему жизнь словами «нет, не виновен», на другой же день после свободного проявления такого большого «права» может быть выпорот в волостном правлении до кровиза то, что, встретившись под хмельком со старшиной, нанес ему оскорбление словами: «ах ты, курносый заяц!»
Чтобы молча и безропотно вращаться только между такими полюсами крестьянских «правов», и то надо отказаться от всякой нравственности, от всякой духовной жизни, от всякой возможности жить по своему разуму. Но этот пример только капля в море того коренногорасстройства, которое размывает самые коренные основы народного миросозерцания, вырабатывает человека «без перспективы» и «без завтрашнего дня», стремится сделать работника и раба из человека, который по самому существу своей природы не можетсуществовать иначе, как с сознанием, что он «сам хозяин».
Посмотрите вот на этого Ивана Петрова, по прозванию Босых: он человек сильной породы, он легок, ловок и умел в работе, жена его умная, сильная и ловкая работница, когда-то красавица; земли он может иметь сколько понадобится; но кроме «хозяйства» он еще и плотник, весьма хороший для деревни, и сапожник; да и просто как поденщик – колоть ли дрова, прессовать ли сено и проч. – он мог бы, получая не менее семидесяти копеек в сутки на хозяйских харчах, существовать безбедно, а он вот бросил хозяйство, бьет жену, жена ходит жаловаться, плачет; дети его, трое ребят, по целым дням шляются в грязных лохмотьях по деревне без всякого призора, и неизвестно, кормит ли их кто-нибудь. Изба его, в ряду тех новых «крестьянских» изб, в которых вы видите кисейные занавески, венскую мебель и часы под колпаком, представляет собою верх безобразия: она вся почти развалилась; вместо стекол – тряпки и какие-то лохмотья; а по постройке избы и служб вы видите, что дом был «богатый»; сараи протянулись сажен на тридцать; столбы везде дубовые, аршина по два в обхвате… А сам хозяин? Спросите о нем у авторитетных деревенских людей, все отзовутся о нем самым неодобрительным образом: он три раза продал одно и то же сено трем разным лицам, а деньги пропил; он набрал «под телушку» в трех лавках и не отдал нигде – телушку продал на сторону, а деньги по обыкновению пропил. Его секли в волости несколько раз – к за грубость перед начальством, и за недоимки, и по жалобе жены, которую он после этого суда жестоко избил в поле, возвращаясь домой. «Не давайте ему денег, ни боже мой, не давайте вперед!» – советует вам экономный деревенский житель. «Ни на волос не верьте!» – говорит другой житель, уже обманутый Иваном. А между тем когда Иван «очувствуется» на неделю, на две, что это за славный, добрый, умный человек! Сколько у него юмора, наблюдательности, нежности, великодушия, насмешки над самим собой, сколько юношеской душевной свежести! Что же валит его пьяным, с опухшим лицом, ничком в мокрую, грязную канаву, без сапог, без одежи и заставляет целые ночи подставлять свою широкую спину под дождь и ветер? Вся деревня помнит его родителей, все говорят, что когда-то «Босых» были первые хозяева, что Иван и жена жили прежде дружно, работали «за первый сорт»; все согласны, что очнись он, ему цены не будет, что у него «золотые руки»; а он точно умышленно махнул на все рукой, обманывает, буянит и, как нищий, шляется в поденщиках, да и то только для того, чтобы выработанное пропить в кабаке.
II. Рассказ Ивана Босых
Теперь пьянство Ивана превратилось уже в болезнь, а эту болезнь, угнетающую не одного Ивана, а целые массы таких же, как и он, непостижимых в Русской земле деревенских пролетариев, сам народ охарактеризовал словом «ослаб». Физически Иван, как и сотни ему подобных «ослабших» мужиков, не только здоров и силен, но прямо могуч: стало быть, слабость его имела не физические, а какие-то другие источники. Вот о причинах этой-то «слабости», «ослабления» и бывали у нас с Иваном весьма частые разговоры, долгое время не приводившие ни к каким благоприятным результатам, а иногда прямо сбивавшие с толку, особливо такого человека, который привык и приучился объяснять народное расстройство почти исключительно материальными несчастиями, бедностью, налогами и т. д. Приведу для примера один из таких разговоров.
– Скажи, пожалуйста, Иван, отчего ты пьянствуешь? – спрашиваю я Ивана в одну из тех ясных и светлых минут, когда он приходит в себя, раскаивается в своих безобразиях и сам раздумывает о своей горькой доле.
Иван вздыхает глубоким вздохом и с сокрушением произносит почти шопотом:
– Так избаловался, так избаловался… и не знаю даже, что и думать… И лучше не говорить!.. Одумаешься, станешь думать – не глядел бы на свет, перед богом вам говорю!
– Да отчего же это, скажи, пожалуйста?
– Отчего?.. Да все оттого, что… воля!Вот отчего… своевольство!
Так как ответ этот ставит меня в недоумение и я решительно не могу понять, почему «воля» может губить человека, то Иван, чтобы рассеять мое недоумение и объясниться обстоятельнее, прибавляет:
– От жизни от свободной, вот отчего!
– Что же это значит? – спрашиваю я в полном недоумении.
– А то значит, как жил я на вокзале, получал я тридцать пять целковых в месяц, народу имел под начальством десять человек, доходу мне каждый божий день с вагону уж беспременно рубль серебра, а сочтите-ка, сколько в зиму-то вагонов отправим?.. Ну вот тут-то я, значит, и забаловал…
Слово «забаловал» до такой степени не подходит к сорокалетнему мужественному бородатому мужику, что не понимаешь даже, как он может в объяснение своего поведения употреблять такие выражения, приличные только разве малому ребенку. Но Иван не находит другого точного выражения.
– Вот и стал баловаться… При покойнике тятеньке, бывало, капли в рот не брал. Убьет, если узнает, на смерть уколотит своими руками… Да и после тятеньки, когда уж оженился, своим хозяйством стал жить, и то дозволял себе – когда угостят, да на праздниках, да иной раз со скуки – стаканчик. Все опасался и покуда чего было – берегся… Ну, а уж тут, на вокзале, как стала мне воля, стало мне, значит, раздолье, стал я – одним словом, коротко сказать – барин, тут-то я и пошел… Жрешь, бывало, целые сутки, а все до верху нехватает… Я как сейчас помню, с чего начал: у дорожного мастера Ивана Родионовича именины были на Ивана Постного. Ну он мне и налил виноградного стакан – «портвин» прозывается… Я как двинул его – понравилось. Я и давай… А там и коньяк, лимонад. Вот с этих самых пор и завел себе язву. А отчего? – Все от воли!.. Все от непривычки, от легкой жизни… Вот отчего!.. Бывало, денег полны карманы набью… Ну, и стал через это самое вроде последней свиньи…
Таким образом оказывается, что «воля, свобода, легкое житье, обилие денег», то есть все то, что необходимо человеку для того, чтоб устроиться, причиняет ему, напротив, крайнее расстройство до того, что он делается «вроде последней свиньи».
– Отчего же ты деньги-то на хозяйство не тратил, а на пьянство? – спрашиваю я.
– То-то и есть, не привычны мы… Какое тут хозяйство, когда совсем стало жить свободно?.. Делай что хочешь – никто не попрепятствует… Тут, одним словом, можно вконец избаловаться…
Так как Иван видит, что объяснения его ничего не объясняют и что я все-таки не мог взять в толк, отчего хорошая жизнь превращает человека в свинью, то он старается пояснить мне свою мысль примером, к чему в разговоре вообще довольно часто прибегают крестьяне. Привожу этот пример, зная, что он едва ли что уяснит читателю.
– Потому что, – говорит он, – природа наша мужицкая не та… Природа-то у нас, сударь, трудовая… Я скажу вам примером. Был у нас тут по суседству барин, господин Подсолнухов, хозяйствовал… Вот хозяйствовал, хозяйствовал, видит он, что доходу ему нету, задумал он молочным делом заняться. Наша скотина ему не по нраву пришлась – коровенки наши точно – худы, шаршавы, – дай, думает, заграничную корову выпишу. Выписал. Идет телеграмма, едет корова из-за границы, немец ученый провожает… Видим, ведут чуть не на цепях – эдакая верзила, сажень вверх да полторы вдоль. Урядник даже шапку снял… Что рога, что глаза, что прочее все – страсти господни! Великан, Еруслан Лазаревич… Очистили ей скотник, настлали соломы, пришла она и легла, эдак, на бок. А немец лампу потребовал на ночь. Вот хорошо, лежит она таким манером и ест. Только бабы подкладывают ей под морду корм. Ест, а молока не дает. «Что же это, говорю немцу, она молока-то не дает?» – «А это, говорит, она отдыхает, так как, говорит, из-за границы и все в вагоне, то она утомлена и поправляется своим здоровьем…» – «А долго ли, мол, она будет поправляться?» – «Да с месяц места пройдет». Ладно. Попробовали было ей нашего мирского быка порекомендовать – куда!.. Как глянул на нее, какая она есть великолепная, испугался, как заяц: понял, что не ему с мужицким рылом соваться, – и давай бог ноги… Едва за двенадцать верст чужие мужики поймали. А она тем временем отдыхает все. Все ест, вздыхает и ест… Наконец уж, видно, совесть ее взяла, дает молока, и целое ведро. Вот барин и говорит: «Видишь, говорит, Иван, какое же сравнение с нашими коровенками». – «Ну нет, говорю, барин, по ейному корму наша скотина много способней». – «Как так?» – «А вот как: сосчитайте, сколько она у вас съела и много ли по корму молока дала? Она хоть и ведро дает, да ведро-то это больно много стоит… А кабы вы корм-то, что она одна съела, роздали нашим десяти коровенкам, так все-то вместе они вам в десять раз больше этой одной верзилы дали б». Тут немец и говорит: «Она, говорит, не такой породы, чтобы только о молоке думать; она и об себе думает, она ест для своего удовольствия, – посмотри-кось, какое у ней мясо-то…» Вот после этих слов я и говорю барину: «Видите, говорю, господин, ан и оказывается, что наши коровенки как раз по нашей природе и породе приходятся… Мясо нам не требуется, своего удовольствия она знать не знает, а живет только из-за работы; что ест, то отдает, а об себе не думает. Родилась она для работы и живет весь век в ней – вот вся и жизнь ее»… Вот и человек этак же бывает разный. И вот наша крестьянская порода то же самое: мы круглый год и всю жизнь не покладаючи рук работаем, да так в работе и живем… Я вот попробовал от крестьянства отбиться – чуть было не опился… А другому что легче, то лучше; что ничего не делать, то и приятно… Вот у нас на станции еврейчик был Шнап… все он там толкался в разных местах и все на пустом норовил рублишко нажить: там барыню провожает, там мужику укажет, как и куда пройти… Ну и дают – кто рубль, кто гривенник… А он все прячет, все копит. «На что, говорю, копишь?» – «Карьер хочу делать». – «Какой такой?» – «Деньги наживать!» – «Зачем?» – «Лавку открывать!» – «А как откроешь?» – «Опять деньги наживать!» – «А как наживешь?» – «Еще больше буду наживать!» – «А как совсем уж много будет?» – «Опять буду еще больше стараться»… Вот и гляди на него. «Пойдем выпьем!» Нейдет, копейки не истратит. А по-нашему, по крестьянству, для хозяйства еще, пожалуй, можно понажить деньжонок, а так… наживать да наживать – так это я даже ив понятие-то не возьму… Шнап-то вон этот из грошей капитал делает, а вот я как позабыл крестьянство-то, от трудов крестьянских освободился, стал на воле жить, так и деньги-то мне стали все одно что щепки… Только и думаешь, куда бы девать, и кроме как кабака ничего не придумаешь… Чего! Я уж вам во всем буду каяться… (Иван говорит шопотом.) Тр-р-ри мамзели завел! Закон забыл!.. Перед богом говорю… Воля! Свобода! Только и думаешь, как бы что… Тьфу! До такого дошел забвения, даже стал наших, своих же братий, мужиков притеснять… И с чего! – Просто совести не осталось… Придут, бывало, с холоду, разыщут в трактире, кланяются, просят сено отправить – второй, мол, день ждем, проелись, а концов не сыщем… Мне бы, кажется, только сказать подручному: «Михайло, дай им вагон!» – а меня точно нечистая сила начнет разламывать… Сидишь за бутылкой, ломаешься и говоришь: «Изыскивайте способов». – «Да каких же, батюшка, способов-то искать? Ходили-ходили, везде машины свистят, дым дымит, того и гляди раздавят… Уж мы и так измучились». – «Изыскивайте! говорю, сумейте понять, кто вам надобен…» – «Да ты, отец родной, ты…» Ломаешься, ломаешься, бывало, уж кто-нибудь из публики вступится, скажет мужикам: «Да всуньте вы ему, подлецу, три целковых в горло… Каких ему еще способов надо!» Ну уж тут поневолишься, сделаешь… Жена придет, бывало, облаешь… По крестьянству она мне нужна, а на свободе у меня особенные баловницы есть… Что мне с ней, с мужичкой, делать?.. Ведь вот до какого дошел своевольства! И верите, как распьянствовался я до последнего предела, как дошло дело до начальства, да как приехал начальник дистанции, да ка-а-к дал мне (лицо рассказчика вдруг просияло) хо-о-орошего леща, да как начальник эксплуатации набавил мне (детская радость разлилась по лицу его) в загривок, да как в подвижном составе наколотили мне бока, – так я, братец ты мой, сотворил крестное знамение, да точно как из могилы выскочил, воскрес, да по морозу, в чем был, без шапки, – домой!.. По полям, по сугробам, по задворкам, как птица, двадцать пять верст без остановки пропорхал и не видал, как середь своего двора очутился. Очутился я на дворе гол и наг, и все у меня в разорении, а рад был – истинно, как из мертвых воскрес. Слава тебе, господи! Слава тебе, царица небесная! Опять я – человек, опять я сам себя отыскал… Пал жене в ноги. «Прости меня, жена моя милая! Давай работать, хозяйствовать! Брошу свои глупости, опять стану человеком…» И уж принялся же я в ту пору! И все-то мне мило – и пашня, и соха, и борона, и дровни, и телушка, и сарай, что покосился, и забор, и колода… Все – точно родные, друзья дорогие, кровные… Гляну, гляну – страсть какое разоренье, а у меня только дух бодрей… Что вижу – сколь много работы, что вижу – работать не переработать, то мне и охоты больше, то и силы прибывает… Так вот какая наша крестьянская природа! А там и работы не было, и всякое удовольствие, и деньги, а точно безумный сделался, всю душу-то по грязи истаскал, как свинья свое брюхо… А отчего? – Все воля!
Этим непонятным сопоставлением слов «воля» и «нравственное падение» Иван и начинал и оканчивал свои беседы со мною и, как видите, не только не разъяснял моих недоумений, но значительно их преувеличивал.