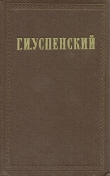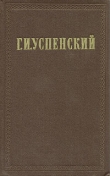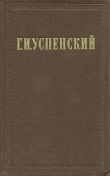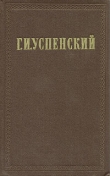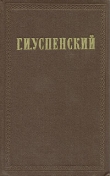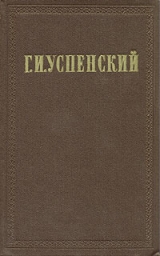
Текст книги "Том 5. Крестьянин и крестьянский труд"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Рассказчик помолчал, заинтересовывая меня и этим молчанием и загадочно-развеселившимся лицом.
– В любовники прямо, с одного маху влетел, почитай что только нос показал в Питер-то!.. Да ведь, брат ты мой, порция-то какая попалась! Своих, чистых денег скоплено было у ей, у этой самой Аграфены, под пять сот рублей да два сундука всякого добра нажито, пудов по двенадцати в сундуке! Ведь вот какая штучка подвернулась! Мне бы – ежели бы, то есть, имел я человеческий ум – мне бы самому надобно бы ее на брак склонять. Я бы сам должон был вовлекать ее в эфто дело да на пять-то сот в своей же деревне кабак либо лавочку открыть, и были бы все сыты, и все бы было честно, благородно. То-то ума-то нет!.. Наместо того за всю ейную любовь только и было моих мыслей, как бы ей хуже сделать, чтобы ей было как поскверней. Вот какая дубина!.. Потому что не понимал я этих любовных поступков; представилось мне все это как подлость одна… Неотес!..
Перво-наперво недели с две, как в Питер-то пришли мы, шлялся я без всякого пропитания… Еле-еле три копейки на ночлег выпросишь христа-ради… Думал, подохну где-нибудь, как собака… А тут иду однова по Пескам, по Восьмой улице, – сидит у ворот старичок-дворник… Иду и сам не знаю куда. Увидал старичка, говорю: «Нет ли какой работы?» Сначала-то говорил – нету, а потом поразговорился, порасспросил – «постой, говорит, я к барыне пойду»… Пошел и вскорости воротился. «Хочешь, говорит, три рубля – оставайся!» Я и остался в подручные ему. Домик был не велик, деревянный, шесть квартир, во флигеле еще три махонькие… Вот я и стал ворочать и воду, и дрова, и сор… Рад, что хошь щи-то ешь каждый божий день. Вот в эфто время и увидал я Аграфену. Принес я в первый раз дрова в хозяйскую куфню, вижу – женщина, одета по-хорошему, ростом коротковата, волосом черная, а годов ей на вид уж за тридцать, однако не похожа на старуху. Увидела она меня, и остановилась, и смотрит – я дрова складываю, а она смотрит; потом вздохнула и пошла, а потом опять пришла. Она мне потом сама сказывала: «Ты, говорит, сразу мне полюбился. Я, говорит, как увидала тебя, так в ту же пору о тебе затосковала.. .»А меня – я по совести говорю – ежели бы с неделю покормить в ту пору хорошо, так я бы после голодовки-то ловко выправился… Вот Аграфена-то и поняла это. Пришел я на другое утро с дровами, опять она в куфне. «Ты, говорит, устал, вот тебе кофейник, пей кофий с черным хлебом». Выпил я тут стаканов с десяток – до того, что уж один кипяток в стакан наливаю, а Аграфена только ухмыляется, головой качает. С тех пор стала она меня в свою комнату звать кофий пить. Приду, сложу дрова или воду вылью в кадку – «иди кофей пить». Заведет меня под лестницу, принесет булок, калачей – ешь! Я пью, ем, а она на свою горькую участь жалуется. «Всю жизнь, говорит, свету не видала. Сирота круглая. С малых дён жила в казенном приюте, кормили плохо, строгости большие, всё божественному учили, чтобы потом в прислуги в хорошие дома отдавать… Взяли, говорит, потом в прислуги, прожила я в хорошем доме двадцать лет – ни дня, ни ночи не видала покою. Барыня была старуха божественная, поедом ела. Сколько, говорит, женихов сваталось – всех прогнала барыня-то. Жениха прогонит, а мне пригрозит: в аттестате напишу!.. А не то, говорит, иди: ни жалованья, ни одежи не дам. Так и жила как в тюрьме». Померла эта божественная-то барыня, поступила Аграфена к другой – к той самой, у которой дом и где я место получил. Жила она здесь свободно, барыня была вдова, все плакала по мужчинам – всё они ее обманывали… И Аграфена также все о мужчинах тосковала, что дожила она до каких лет, а никакого удовольствия не видала. Вот они обе и сошлись – и барыня и ключница. И у куфарки был любовник – музыкант полковой. Так у них у всех и было согласно все по любовной части. Одни женщины да любовники, только Аграфена все разыскивала себе по сердцу. А тут и нанеси меня нелегкая… Вот и стала она меня кофием поить. да про горькую участь свою рассказывать… Я пью-ем, а она говорит-говорит, каким хорошим женихам отказала, как свету не видала, да и заплачет. Я поем, попью и – уйду. А стал я шибко разъедаться с этих кофиев. Стала Аграфена меня даже котлетами кормить с барыниного стола и между прочим плачет и говорит: «И кто бы меня успокоил!..» Я поем и – пойду. Проходит время, стала Аграфена так говорить: «Миша, неужто ты меня не успокоишь? Разве ты не понимаешь, что я тебя кофием пою и прочие предлагаю закуски не зря?.. Ведь зря-то, говорит, я и собакам могу выкинуть». А я, ей-богу, перед богом сказать, в толк не возьму, чем я ее успокою?.. Три рубля жалованья всего-то на месяц – из чего тут угощать? «Нечем, говорю, мне тебя успокоить». Что день, то она все явственнее стала доказывать, а я все ответа ей не даю, потому порядков не знаю… День за день, день за день, наконец, того, однажды плакала-плакала она, покуда я пил-ел, потом видит, что от меня нету ей никакого смысла, отерла глаза платком и говорит проворно таково: «Ну, говорит, коли ты до сих пор ни в чем не имеешь понятия и слов моих не слушаешь, так должна же я как-нибудь сама присодействовать. Ступай, одевайся и жди меня за воротами». Допил я кофий, пошел, оделся и вышел за ворота. Спустя время выходит и Аграфена. «Иди, говорит, за мной». Ну я и пошел. Она все по переду идет… Шли, шли и пришли в Большую Мещанскую… Есть там гостиница «Ломбардия», потому она как раз напротив ломбарту помещается. Аграфена все вперед, а я все за ней… Так нешто я понимал что? Ведь никто ей не велел – сама догадалась…
Н-ну, после этого случаю и стала она меня подвергать к себе – что ни день, то крепче – что ни день, то все строже… Первым делом подвела под барыню мину – старого дворника-старичка вон согнала с места. Двадцать лет он жил – и вдруг его выкинули. Даже заплакал пошел… Куфарка было вступилась за старичка, да Аграфена подвела торпеду – и ее вон, и с любовником, всех прочь… Меня в дворницкую. Подручного мальчишку из дворницкой – вон: спи, где хочешь, хоть помирай… Дворницкую вымыла, прибрала, выклеила; мне – поддевку, сапоги, жилетку, часы – всё за первый сорт… Ну, а чтобы куда-нибудь отлучиться или что-нибудь – уж извини! Так и смотрит из куфни на двор, точно ястреб… Чуть мало-мало замешкал с дровами где-нибудь в квартире – зовет на весь двор: «Михайла, Михайла! Где мой Михайла?» Цельный день по всему дому только и слышно: «мой Михайла, мой Михайла, мой Михайла, и мой, и мой, и мой, и мой…» Чистая срамота! А у ней даже ни капли совести нету… Куфарок всех костит нехорошими словами во всю пасть; по всем кабакам по Восьмой улице обегала, чтоб мне водки не давать: «если будете моему Михайле водки давать – я вас всех в каторжные работы отдам, денег не пожалею». Иной раз где-нибудь с каким человеком или с квартирантом поговоришь, хвать – уж она все портерные облетала, во всех лавках побывала: «не видали ли моего Михайлу?» И все ко мне в дворницкую; как урвется минутка – тут! А нет меня, опять: «Михайла, Михайла!» или: «Иди, иди, иди!.. Домой, домой, домой…» То есть загоняет меня, как скотину хворостиной – и с того боку и с другого, а уж вгонит в дворницкую или к себе в куфню… Народ-то стал смеяться. Куфарки стали подражать – тоже принялись из кухонь в фортки кричать: «Михайла, Михайла! иди ко мне ночевать!» А это ее пуще мутит… Однова лавочник в шутку ей сказал: «Твой Михайло вон к той куфарке пошел» – так, в шутку, – так она, ни слова не молвя, прямо ему в виски впилась, еле отняли. Потом отдала у мирового пятнадцать целковых штрафу. «Только посмей кто, все рыло оборву!..» Ведь вот что за характерная женщина!..
И стала она, братец ты мой, противна мне. Кажется действительно, что надо бы мне ей уважение делать за все ее угождения: подручного на свой счет наняла, а меня уж прямо в куфню перевела, чтоб я ничего не делал, – а нет, мутит меня и вся тут… И народ смеется – говорят: «нанялся в любовники!..» И воли-то нету, да и грех… Она было сама мне насчет браку – «примем закон!» «Нет, думаю, сравнить ли экую шкуру с нашей деревенской!» А пуще всего стала она меня сердить сестрой… Я было ей сказал: «Надо сестре денег послать – чай, она там пропадает с голоду». Ни копейки не дала. «Я, говорит, всю жизнь мучилась да деньги свои буду давать. Мне самой хочется иметь отдых». Так и не дала… Раз я погрозил: «Уйду, найду себе другое место» – так, как чорт, осатанела: «Всю одежу отберу, жалованья не отдам, барыню упрошу, и в пачпорте напишут так, что никто не возьмет». Конечно, со зла болтала, а случись, и, ей-богу, бы сделала. А без одежи куда я пойду?.. Скреплюсь, молчу, а дюже, дюже она мне противна… А тут случилось – пришло письмо из деревни: пишут, сестра родила, гулять пошла… Вспомнил я нашу деревню, сестру, все наше горе и разоренье – и так меня засосало с этого дня, и так мне показалась горька моя кабала… Стал я пить, а Аграфену колотить… Раздумаешься, затоскуешь – и прямо в кабак… Как Аграфена показалась – а уж она сейчас мчится, – так кулаки сами и зачнут сучить… И больно ей доставалось… Долго я крепился, покорялся ей, а как сорвался да как пошел на отчаянность, так что дальше, то чаще. Придешь пьяный, разорешься, раздерешься, нашкандалишь – барыня сама выйдет: «Сейчас убирайся со двора долой!» И сейчас Аграфена меня выручит. Спрячет, уложит, упросит, а сама перед барыней – и на пяточках и на носочках, и лапочками и бочками, и словами и глазами, и так и эдак, и вползет и выползет – хвать и выпутала. Придет, говорит: «оставайся» – и все целует да плачет… После этого я недели с две погожу, покреплюсь, – потому куда я в самом деле денусь? После сестриного горя и в деревню-то страм показаться… А потом опять сделаю скандал, барыня опять: «чтоб сейчас твоего духу не было», – а Аграфена опять заюлит, зазмеит, замутит перед барыней, забормочет, замерячит, вплетет и выплетет – глядишь, и выюлила и вызмеила… Опять бежит: «оставайся!»
Долго всего рассказывать… Только сколь она меня ни выправляла, а все я хуже и хуже стал забаловывать. Стала она мне все противней… Как вспомню деревню, баб наших умниц, работниц, сестру мою горькую – убил бы Аграфену смаху… Стал я от ней бегать по два, по три дня. Стал вещи пропивать да принялся шляться по нехорошим местам… Долго ли, коротко ли, а дошлялся я до того, что надо ложиться в больницу… И что ж вы думаете? Как дошлялся я до этого, вдруг мне стало Аграфену жаль… Так мне, стало ее жаль – страсть! Вспомнил я, сколько она, бедная, меня любила, как за мной ходила, все деньги свои кровные на меня провела – и вдруг я ей скажу… Ведь она помереть должна от огорчения… Мне бы сейчас сказать, а я пожалел и не сказал… Вижу я, что и она пропадает, молчу и жалею. А она видит, что я жалею, – рада, горькая, радешенька, не знала, как и угодить… Наконец, того, стали ей говорить: «Михайла твой так и так»… Куды тебе! Так и лезет к морде тому, кто скажет. Ни капли веры не дает. «Чтобы мой Михайла?.. Он меня любит (а я только и полюбил ее, как стал виноват), да чтобы он… Все глаза выцарапаю, кто скажет-то». А я гляжу, затаил свою подлость, да еще больше ее жалею… А она все пуще влюбляется, даже не спрашивает – «не может быть этого». А уж где не может быть…
Барыня сама все раскрыла, заприметила и тую же минуту обоих нас вон… Аграфену и меня полиция в больницу отвезла. Как узнала Аграфена правду, только поглядела на меня, ничего не сказала, и сделалась с ней точно как падучая… Вспоминать-то страшно об этом, перед богом скажу!.. Как отвезли ее в лазарет, так я с тех пор и не видал ее. А и сам дюже я по ней тосковал, да и сейчас сосет тоска… Долго я в лазарете маялся… Вышел вот месяца четыре назад, всю одежу в больнице проел, лицо у меня, видите, какое, не всякий пустит – сейчас видно, что нехорошо хворал… Идти мне некуда. Думаю: «не разыскать ли Аграфену?» Справлялся и в адресном и в участке – нигде нет. Пошел в больницу, дал писарю последний рубль (сапоги продал), чтобы разыскать… Разыскал. «Сейчас, говорит, она на Преображенский вокзал свезена… Померла вчерась…» Пошел я на Преображенский вокзал, в Гончарной улице – по железной дороге покойников отправляют, – спрашиваю – не знают. Нужно, говорят, нумер знать. Гробов-то много, нумера обозначены, а который гроб Аграфенин – неизвестно… Паренек тут сидел на станции, плакал: отправил он мать покойницу, значит, багажом сдал на Преображенскую машину, а квитанцию-то от матери потерял… Теперь и боится, как бы ему на кладбище-то какого-нибудь другого покойника-то не выдали, а пуще всего как бы в матернину могилу другого покойника не положили. У одной генеральши – тоже вот так-то квитанцию от мужа потеряла – так вместо мужа-то бухарца зарыли. Вот и я так-то без квитанции-то… Гробов-то много, а которая тут Аграфена – не знаю… Постоял я, поглядел, поплакал и пошел пешком в деревню… Видите, каков вернулся?»
Он снял картуз и провел ладонью по облезлой голове. На глазах у него были слезы.
– А сестра-то! – сказал он и заплакал, залился и, утирая лицо концом рваной рубахи, шепчет: – теперь бы уж не то кабак, уж и трактир бы…
«Ну, – скажет читатель, – ведь нельзя же предвидеть таких случайностей, как „убийство играючи“…» Таких мелочей, конечно, нельзя предвидеть; но «сиротство», как результат этих бесчисленных «мелочей», благодаря случайностям, обставляющим крестьянский труд, – надо видеть и надо стараться, чтоб оно не было отдано на волю случая и полной беспомощности. На то на свете и живут умные и ученые люди, чтобы неученый человек не пропадал понапрасну.
Из деревенских заметок о волостном суде *
Водка и честь
Не так давно, читая какую-то большую газету, я совершенно случайно напал на заметку о знаменитом рыковском крахе, в которой, между многих мелких деталей, все более и более разоблачающих это крупное безобразие, меня особенно заинтересовало одно, тоже небольшое, вкравшееся в заметку сообщение. Именно: в конце заметки было сказано: «мелкие взыскания по долговым обязательствам банку продолжают поступать». Если бы я был житель столичный и дышал бы столичным воздухом крупных интересов и крупных гешефтов, то меня – я в этом уверен – нисколько не интересовало бы это сообщение; напротив, я бы с любопытством остановил свое внимание только на сообщении о крупных похищениях, о миллионных глотках, и притом глотках толькопохищающих, так как о том, чтобы какое-нибудь миллионное хищение было пополнено, возвращено, – что-то не слыхать или по крайней мере слышится очень редко, этак один раз в двести – триста лет. Совсем не та атмосфера, которою мы, деревенские обыватели, дышим в деревне. В деревне как раз наоборот. Здесь на первом плане самых существенных интересов жизни стоят именно «взносы», которые к тому же непременно и притом беспрерывно куда-то «поступают». Вот почему, встретив в газетной заметке фразу о «поступающих» взносах или взысканиях, я, как деревенский житель, не мог не подумать о деревне, а слово «мелкие» еще раз заставили меня вспомнить деревню, где, не чета столице, и хищения и взносы маленькие, мелкие, хотя и беспрерывные… Остановив свое внимание на этой незначительной фразе – и невольно задумавшись о деревне, – я (сам не знаю, это как случилось) вдруг представил себе следующую картину.
Волостной суд. На улице и под сараем около волостного правления идет галдение и кое-где пьяный, а кой-где трезвый разговор. Пьяны, конечно, судьи, а вследствие этого в каком-то амбаре, на том же волостном дворе, с дверью, околоченной железом, и заменяющем в волости помещение для арестантов, то есть «холодную», дерут по постановлению того же суда какого-то мужика. Один подгулявший, вялый от водки, и скучный от водки, и от водки чувствующий себя подлецом, мужик сидит на корточках у головы наказуемого; другой такой же вялый и тусклый от сознания пьяной подлости совершающегося мужик придерживает за ноги; и тот, кто лежит в это время на полу, – уткнувшись лицом в грязный пол, голосом сильного мужчины, в котором нелепость и подлость совершающегося пробудили рыдающие ноты детского плача, детского непонимания и горького стыда, – дудит и гулко и жалобно в пол: «Михал Мха-лчь! Н-ни ббудду! Ни ббудду! Михал Мхалчь! Николи ни бббуддду!..» – «Не я, – говорит Михаил Михайлыч, волостной старшина, [8]8
Эти господа вопреки закону умеют мстить своим обидчикам и незаконным порядком.
[Закрыть]за сопротивление которому происходит наказание, – не я, – а закон бьет тебя, дурака!» – «Дураков надо учить!» – говорит, еле ворочая языком, один из судей; «Дураков и в церкви бьют!» – прибавляет другой, – третий думает: «Грехи, грехи тяжкие! прогневаем, беспременно мы прогневаем господа бога!»… И все, не исключая даже и волостного старшины, чувствуют себя глупо и подло, – а в то же время думают, что почему-то «нельзя». В особенности глупо, в особенности подло, в особенности бессовестно чувствуется у всех на душе по окончании этой постыдной экзекуции, когда высеченный мужик, всхлипывая и неловко меняя выражение лица с детского на зверское и опять на детское, конфузясь и ожесточаясь и чувствуя себя опозоренным и глупым, просит расписаться в журнале волостного суда кого-нибудь из грамотных, который и пишет после слов: «и сопротивлялся с дерзостию» – венчающую всю эту жестокую и позорную нелепость фразу: «остался доволен», что должно означать: остался доволен этим позором и стыдом…
Все это действительно позорно и постыдно, – но мы не были бы справедливы, если бы сказали, что этот позор и поношение человека доставляли бы кому-нибудь из всех присутствующих здесь хотя бы самую малую тень удовольствия, даже истцу (разве только в самых крайних случаях врожденной жестокости, проявления которой не чужды деревенской жизни), – это постыдное безобразие не всегда доставляет должное удовлетворение и успокоение. Все, – не говоря уже о том адском состоянии духа, которое уносит в своей душе из волостного амбара наказанный, – испытывают тяготу сознания постыдного, неправедного дела, до того неправедного и постыдного, что ощущается жажда новой выпивки, чтобы искусственно себя оскотинить, ожесточить, привести исковерканную бессмысленно-жестоким поступком душу в нормально-бессовестное состояние, то есть в такое состояние, чтобы пьяный мозг мог подыскать какой-нибудь пьяный аргумент для мало-мальски спокойной уверенности, что бессовестность эта почему-то нужна.
Вот именно такая картина и представилась нам, когда мы в газетной заметке прочитали фразу «мелкие взносы поступают». Но как только представилась эта картина, так мысль наша невольно остановилась на том состоянии духа всех виновников этого невеселого рисунка, о котором было говорено выше. Отчего происходит это нелепое состояние духа и отчего это нелепое состояние духа не воспитывает в виновниках его решительного стремления исцелиться от него, прекратить бесплодную и унизительную нелепицу, а, напротив, имеет в своем основании какое-то тоже, очевидно, нелепое и непостижимое, но тем не менее достаточно твердое «нельзя», от которого можно получить забвение только в сивухе?
Это многосложное нравственное расстройство, сулящее в будущем самые неожиданные комбинации народной мысли, до такой степени сложно, что мы не решаемся говорить здесь о нем подробно и всесторонне (что, кстати сказать, мы и хотели сделать, обещая г. редактору «Судебной газеты» ряд очерков, на основании материалов волостного суда и личных наблюдений, о которых было заявлено в № 6-м «Судебной газеты». К несчастию, непредвиденные обстоятельства заставляют меня отложить исполнение этого намерения до будущей осени). Остановимся в настоящей заметке на выяснении той стороны расстройства «народной мысли», «народной справедливости», которая ощущается только в вышеприведенной картине нелепого сечения. Остановимся на главном страдательном лице этой хотя и постыдной, но несомненной драмы. Его думы и его мысль, помимо сознания унижения, которого невозможно передать словами, растерзаны сознанием двух совершенно противоположных течений, – если так можно сказать – «правд». Одна правда говорит ему неопровержимо: ты ни в чем и ни на волос не виноват; другая так же неопровержимо свидетельствует о том, что ты кругом виноват… Лет двадцать назад такого психологического состояния не могиспытывать наш крестьянин, по крайней мере в массе, как это замечается теперь. В общем весь строй его миросозерцания держался на том, что в основе существования лежит труд собственных своих рук. Руки эти должны быть всегда готовы делать так, «как бог даст». А выражение «как бог даст» – значит работать, пользуясь теми условиями, в которые труд этот поставлен природой, и безропотно подчиняясь им и в добре и в худе. «Я всегда готов, – мог сказать двадцать лет назад каждый крестьянин земледелец, – и руки у меня всегда готовы к труду, – а бог не дал – ничего не поделаешь; бог дал – хорошо!» На этой твердыне труда своихрук, которые обязаны делать то и тогда, когда и что следует и можно, но делать неупустительно, – и на зависимости этого личного качества трудящегося от случайностей природы, в каких находился труд, – стояло все здание народной жизни. И брак, и кредит, и доверие, и совесть – словом, все ежедневные комбинации человеческих отношений были проникнуты этой идеей личного труда и степени его качеств, критикуемых на основании добросовестного изучения случайностей. Возьмем один только кредит: в то время, занимая у кого-нибудь хлеб, – деревенский житель говорил: ежелигосподь уродит – так отдам столько-то и тогда-то. Ежели, – которое означало миллионы случайностей природы, было и для всех аргументом неопровержимым. «Не уродило», и для всех ясно, что отдать невозможно, а надо ждать, пока уродит… Вот с такими понятиями о кредите выросло то поколение, которое теперь дерет и которое теперь дерут во имя совершенно иных понятий, в которых нет места этому «ежели». Предшественниками этих новых понятий в деревнях были «новые моды на новые понятия» в среде губернского и уездного темного царства.
Немного более, немного менее пятнадцати или двадцати лет назад в головы и умы Тит Титычей и Сысой Псоичей стали влезать неведомо откуда, вернее прямо проникать из воздуха, пропитанного финансовым распутством нашего «учредительского периода», – совершенно новые, даже непонятные и иногда бог знает что означающие, но в то же время «скусные» представления и идеи. Прежде умы Сысой Псоичей и Тит Титычей были проникнуты верой в фальшивый аршин, в силу квартального и в силу взятки, которая его сокрушает, верой в бога и верой в чорта, сознанием того, что, угодив богу, не обеспокоив чорта (бога не гневи, а чорту не перечь) да подмазывая аккуратно квартального, можно «спускать безбоязненно» на каждом аршине, – что и было известно под общим названием «коммерция». Результат, который получался «от всего этого», выражался в удовольствиях беспрестанно употреблять с господами квартальными и другими «благородными людьми» сундучную, мешочную, паюсную и салфеточную икру, осетровый и белужий балык, а выделывать все, что взбредет в голову по части «нраву моему не препятствуй», ездить для специальных обмериваний и специальных безобразий в Нижний, а в Киев для покаяния и успокоения. Такова была коммерция и коммерческие головы, умы и мысли в старые годы; но лет пятнадцать – двадцать тому назад в эти, казалось, так прочно установившиеся головы стали воистину неведомо откуда появляться новые мысли и слова; то что прежде определялось одним словом «комерцыя», – теперь вдруг раздробилось на тысячи всевозможных слов, которые все звучат совершенно необычайно: дивиденд, кредит, баланец… а главное, появилось слово «рыск», занесенное в среду Сысой Псоичей каким-нибудь штаб-ротмистром или ремонтером. «Рыск» слово более всех прочих слов полюбилось Сысой Псоичам, тем более что они кроме самого слова «рыск» узнали, что оно неразлучно со словом «бла-ародное дело» и, наконец, что слово это американское. «У мериканцев, – стал бормотать любой из Псоичей, – все больше рыск. Что больше рыскует, – то больше барышу… Ловкий это народ мериканцы… Рыскуй – и знать ничего не знаю, ведать не ведаю, – а деньги так и идут в карман»… И вот Сысой Псоичи стали во главе всевозможных банков и стали рысковать по-американски, с присоединением к американскому и российского… Ничего не зная и не смысля ни уха, как говорится, ни рыла ни в кредите, ни в «рыске», ни в дивиденде, словом, ровно ничегоне понимая, иногда не умея ни читать, ни писать, Сысои Псоичи стали заниматься «рыском», единственно руководствуясь указаниями своей утробы, которая «по нонешним временам» стала требовать уж не одной икры и т. д., а, как мне рассказывали про одну такую московскую утробу, всевозможных съестных тонкостей, вплоть до ученой свиньи и мороженого из «женских сливок». Перед новым годом Сысои Псоичи выдавали секретарям усиленные оклады, лишь бы сошелся «баланец».
– Скажи Михайле, – говорил Сысой Псоич, – чтобы у меня баланец был… Убью как собаку, и ответу не будет.
– Не сходится, Сысой Псоич! – докладывал, бывало, Михаила, – миллиону семисот тысяч нехватает…
– Чтоб было! Сказано, убью, – и не отвечу; запереть его в конторе, покудова баланцу не выведет по моему скусу…
Но и запертый на замок Михайло отвечал по-прежнему:
– Откуда ж я, Сысой Псоич, возьму, коли экой прорвы денег нету…
– Неужто не сойдется?
– Невозможно-с!
– Ну вот что, ты лясы-то не точи и зубы не заговаривай, – а бери честно благородно две тыщи, – и чтоб было!..
– Попробую-с!..
После этого предложения в «баланце» начиналось некоторое движение.
– Ну что?
– Да лучше-с! Начинает как будто маленько подаваться… Миллион кой-как сколотил, – а все еще далеко до комплекта!
– Ну ладно, – пошевеливай, пошевеливай!.. Коли через час обладишь все честь-честью, – еще тыщу чистыми деньгами!
После этого Михайло уж не мог препятствовать и, подумав секунду, – восторженно восклицал: – «Н-ну! Давай деньги. – Готово! Разорвался – а уделал! Давай деньги на стол, – получай баланец!» – «Вот так молодчина, – одно слово орел. Правая рука, копье неизменное!»
С каждым годом Михайле, однако, становилось трудней свести концы с концами того хомута, который Сысой Псоич наименовывал баланцем. Сысой Псоич с каждым годом должен был увеличивать тот куш, без которого Михайло уж и не брался свести концы с концами. И долго они, эти концы хомута, сходились, конечно на бумаге, – и вот на наших глазах разошлись-поразъехались, да так, что неизвестно еще, родился ли тот человек, который решился бы их свести друг с другом даже и за большую подачку.
Сысой Псоич, ничего не знавший, кроме паюсной икры и американского слова «рыск», – теперь, увы, бедняга, на скамье подсудимых и, по русскому обычаю и неумению красно говорить, может только сказать одно: «вяжите меня», так как о чем бы его ни спросили относительно банковых дел, у него нет другого ответа, кроме «не знаю», «неизвестен», «кабы грамотные были» и т. д. Нет, конечно, ни малейшего сомнения в том, что значительная часть того, что исчезло из «банки» (Сысой Псоич так называл банк), съедено людьми образованными, почти столько же «жамкнули» и бородки и сапоги с бураками, – но кое-какая частица, не миллионы, не сотни тысяч, а десятки и тысчонки попали и в деревню… Какой-нибудь деревенский кулачишко, принимавший в заклад рваные полушубки и бабьи поневы, в поездках в город наслушался разных разговоров об этой «самой банке». Долго дивился кулачишко этим рассказом. «Правда ли, нет ли, – рассказывал он тоном сказки, – уж не знаю, а сказывают, быдто написал ты на лоскутике – эдакой вот и лоскут-то всего – пальца в три шириной да четверти полторы в длину, – написал, „приставил“, – хвать и выдают!» – «Н-ну!» – испускал ошеломленный слушатель. «Истинным богом!» – «И чистыми деньгами?» – «Чистыми, как есть настоящими деньгами… Хочешь верь, хошь нет, – что знаю, то и говорю. Митрофанов Казатник, знаешь, чай, у Николы в капустниках? Так тот тоже пошел к самому, к Псой Псоичу, сказал ему… Тот и говорит: „Ну-к что ж“ и сказал, напиши так-то. Тот написал, – сейчас и дали!..» – «Ишь ведь до чего дойдено!» Долго кулачишко не верил, сомневался, полагая, на основании фамильных и местных преданий, что деньги и богатство происходят либо от того, что нашел клад, кубышку, либо слово знает, либо и убил прохожего, а у того под жилетом на груди оказалось пять тысяч, либо от того, что просто грабил на большой дороге, либо вообще от того, что продал душу чорту и дал расписку собственною кровью. Но мало-помалу поездки в город, разговоры о том, что Сысой Псоич дает деньги из «своей банки» всем, кто «положит» ему «шар» (за этакое дело я тебе не то шар, а колокольню сворочу да положу куда хочешь!), – явные, осязаемые факты полной достоверности этих россказней, осязаемые в виде самых подлинных кредитных билетов, наконец убеждают нашего заскорузлого деревенского обироху в том, что все это сущая правда. При помощи мещанина Митрофанова он тоже побожился положить шар, прибавив, что если б Сысой Псоич повелел ему пакли горячей съесть, так он и тогда не задумался бы сделать это – за его милости, – и вступил на путь цивилизации. Два года тому назад, не надеясь расторговаться солониной, он уж мечтал о продаже чорту души, – а теперь вот у него ни оттуда ни отсюда «двести рубликов в кармане», и за что? за какой-то голос, либо шар положил, что, подписывая бумажку, он ручался товаром своей лавчонки, где было разной дряни на двести рублей, – но вот у него теперь еще двести, неожиданные, сразу удвоивающие его силы, планы, фантазии и размеры оборотов. Вытягивая из деревушки первые двести рублей, на которые кое-как сколочена лавчонка, кулачишко должен был подчиняться местным условиям; теперь с этими новыми двумя стами рублей он вне их совершенно, он над ними на высоте и с этой высоты может спокойно выслеживать, где что лежит плохо и когда лучше этим плохо лежащим овладеть.
Эти новые, не по-деревенски, не личным только трудом, а каким-то непостижимым образом, без труда, не шевеля пальцем, добытые деньги, появившись в деревне, – произвели огромный переворот во всевозможных человеческих отношениях. Этот переворот начался и идет… Завися теперь от «строка», от «числа» и длинненькой бумажки, кулачишко должен ставить в ту же зависимость и все то деревенское, что зависит только от «бога» и от погоды, от тучи, от дождя, от засухи и т. д. «Строк» взносить в «банку», положим, истекает 15 июля, и кулачишко вылезает из всех кишок вытянуть из должников должное, пунктуально следуя банковой правде, тогда как деревенская правда говорит так же категорически и неопровержимо, что платить долг, когда хлеб в поле и когда еще ждут дождей, – совершенная нелепость и ерунда, точь-в-точь такая же, как если бы кто потребовал на самом деле, чтобы курочка бычка родила или поросеночек яичко снес. «Как божья воля», «как господь поможет» – вступили в борьбу с векселем и «строкой». «Ведь меня всего продадут, чорт ты этакой, из-за тебя имущества лишусь!» – вопиет кулак на основании требований банковой правды. «Да ведь я тебе говорю резоном, по-божески ведь я тебе, идолу, говорю – дождей не было! Погоди, погляди, может господь даст и покропит – ну тады к успеньеву дню… Чего ты? утаить, что ли, я от тебя хочу?» – «Да ведь дубина ты этакая, ведь нешто там спрашивают про дождик-то? Ты бы деньги занял под вексель да отписал в банку, что, мол, свинья еще не опоросилась, погоди! Ведь в том случае банка лопнуть должна начисто!» – «Я опять же тебе русским языком говорю – приходи об успеньеве дне». – «Ну вот что, – хочешь продавай корову, деньги плати, не хочешь – я судом возьму… Роздал деньги вам, дуракам, число подходит платить, – а у вас еще свиньи не опоросились. Я твою свинью в банк не понесу»… и т. д. «Строк» и «как бог даст», «кредит» и труд, только труд «рук своих», в буквальном смысле единоборствуя лицом к лицу, развели такую массу новизн в деревенской жизни, такую массу новых, спутанных отношений, такую массу небывалых прежде контрастов в возникновении благосостояния, контрастов, породивших возможность быстро разживиться без труда и беднеть – беднеть, не покладаючи рук в труде, и т. д., что исчислить всех тягостных для большинства осложнений, возникших из новых порядков, невозможно. Ниже мы будем говорить о том, как много интеллигентной работы надобно внести сюда, для того чтобы человека не валили с ног, и притом зря, эти новые, по-видимому даже и облегчающие явления, – теперь мы возвратимся к разговору о волостном суде и об эпизоде, рассказанном в начале этого отрывка. Двадцать раз требовал кулачишка от выбранного мужика своего долга, и все это было до того нелепо по-крестьянски, безбожно, глупо (например, продать корову, которая должна через месяц отелиться, или хлеб, который еще не поспел, или траву, которая еще на выросла, и т. д.), что мужик не верил, ругал, доказывая, потом стал впадать в исступление. Кулачишки поналегли на старшину (а эти люди тоже цивилизованы запахом денег), старшина вломился с понятыми, продавать скот стал и получил вооруженный отпор. И хотя он добился того, что послушные старики «утвердили дураку закон», но ни он сам в глубине души, ни подсудимый, ни судьи – не считали себя людьми, поступившими по совести. Лгали ли они? Нет! Деньги взял – отдай! А с другой стороны, они отлично знали, что отдать невозможно, что отдача в такой-то срок не только глупость, а просто преступление пред семьей, пред всем своим хозяйством и даже будущим своей семьи и хозяйства. Подсудимый оказывался совершенно правым и совершенно неправым одновременно. Правды срока и «как пошлет господь» – так различны, так не подходят друг к другу, так несоединимы, и до такой степени каждая из них действительно правда, по-своему, – что выйти из этой бездны противоречий можно только третьей дорогой – водкой, дурманом, «не в своем уме», оглупев, одурев, кой-что позабыв и кой пред чем преклонившись…