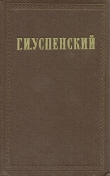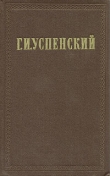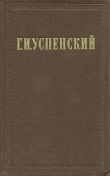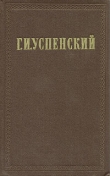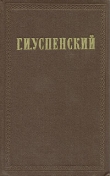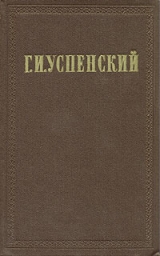
Текст книги "Том 5. Крестьянин и крестьянский труд"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
– Ты чего? – спросил у него буфетчик.
– Да ничего, так пришел.
– Обыграли, видно?
– Когда-нибудь и мы обыграем, – ответил парень и, прислонившись к притолоке плечом, стал чесать одну босую ногу об другую.
– Н-ну, говорю, хорошо, – продолжал рассказчик. – Хожу я по Москве, закупаю товар, все честь честью; наконец в показанное время иду к Патрикееву. Прошелся по комнатам – нет моего приятеля. Сел, жду – нет! Жду и час и два; наконец уж и неловко. Потребовал порцию, съел – уходить надо. На грех адреса-то его не спросил. Думаю, надо еще день остаться, потому лекарствие-то уж больно требуется; остался и опять в тот самый час в Патрикеевский пошел – нет! Опять нет. Ну, делать нечего, надо ехать. Поехал… Поехал я не домой, а в город, потому материалу закупал – банки, склянки разные, коробки… Думаю, как-нибудь переночую – в куфне-то уж и печь была и рамы. Вот приехал. Сторож у меня был из мужиков, Родионом звать. Плотников человек десять… Уж спать собрались… Приехал и говорю Родиону: «Поставь-ка, брат, самоварчик!» И вижу я, что что-то как будто он на меня не так смотрит. Все был услужлив, старателен, а тут, вижу, что-то неладно… Не то делает, не то не делает…
Глядит как-то. Сказал я ему: «Поставь-ка вон этот ящик от печки подале, а то как бы от огня не разогрелось, храни бог»… Потому политура была в ящике-то, спирты… Сказал я ему, а он так и выпучился на меня. То на меня глядит, то на ящик. Поглядел, поглядел и ушел. Вот жду его так с четверть часа – нет. Пошел в сени, самовар стоит холодный. Думаю, не за водой ли ушел? Позвал – нет ответу. Истинно чудеса творятся! Достал балык – захватил я его из Москвы фунта два, хороший осетровый балык, восемь гривен фунт, – достал балык, хлебца отрезал ломоть, да на белый-то хлеб положил его, вроде бутерброту, положил, значит, перекрестился и только было, господи благослови, рот разинул, гляжу – как есть вокруг всего дому засвистали в свистки, затрещали, заверещали, а плотники в окна рыла пялят… Бросил я этот бутерброт, сунулся было в дверь, хвать – и наскочил на бляху. И Родион тут, указывает на меня и говорит: «Вот он!» Меня и сцапали человек восемь народу. Сцапали и поволокли… Я кричу, вопию: «Что такое, помилуйте…» – «Там разберут!» – «Хошь одеться, говорю, дозвольте – холод, осень!» – «Там у нас дамского полу нету!»… Вцепились, хоть что хошь! Не понимаю. Думаю – не придумаю. Волокут1 А кругом плотники, рабочие, сторожа, дворники… Господи, боже наш! Что такое, за что? «Помилуйте, вопию, я купец, домохозяин, капитал имею… У меня дети… Супруга…» А мне в ответ: «В Москве у такого-то, мол, вокзала тоже домохозяева жили, тоже с супругами»… Как услыхал народ про это самое, та-а-к и надвигает! Вижу я, дело худо, попал я в кашу, а в каком она смысле – и не знаю… Как про дорогу-то упомянули, так у меня и у самого-то дух замер… Ни в чем не виновен, разрази меня гром, ежели я… Сам со слезьми моими… и кровь свою отдам… Чист пред богом весь, а испугался! «Ну-ка, думаю, какое-нибудь окажется касание, бог его знает? Что такое? Что будет?» Все нутро так у меня и занялось холодом… Думаю: «Храни бог, за жену возьмутся – умрет! Ведь с единого взгляду кончится. А как узнает, тоже обомрет». Окончательно сказать, обомлел и ничего не помню, не понимаю, трясусь, и без шапки… Шел-шел… Вдруг мне и вступи мысль: «А что, как все это одно разбойство? Ведь был же в Москве случай: тоже вот так-то приехали на Рогожское кладбище в полной форме, захватили деньги и уехали, а наконец того оказалось, что приехали воры». Вступи мне это в голову – меня и рвануло за сердце: «Что, мол, я за дурак такой – дался в обман! Ведь дома деньги остались, сот семь с прибавкой… Что же я дурака-то строю?» Как вступило это мне в мысль, думаю: «Не распорядиться ли мне своим средствием?» А вы сами, господа, видите, кажется, не похож я на грудного ребенка… (Рассказчик поднялся во весь свой гигантский рост, тряхнул исполинскими плечами и, стремительно засучив рукав, обнаружил огромнейший кулачище…) Кажется, можно назвать, что имею свой материал? А тут, в таком деле, так у меня сразу прихлынуло силищи во все места: и в шею, и в грудь, и в ноги, и в кулак вступило такое железное расположение духа, что я, недолго думая, ка-ак тряханул, да ка-ак почал лудить, да как почал вклеивать, да как почал конопатить, надставлять да притукивать, приколачивать да засмаливать, как почал раздавать лещей, судаков и осетров кому в нос, кому в лоб, кому в разные места – гляжу: распространено вокруг меня пространство, и стою я, как Минин-Пожарский на Красной площади, в одной рубахе, а народ в прочих местах как рыба бьется на сухом берегу: стало быть, кто головой воткнулся в лужу, кто в плетне застрял, выбивается не выбьется – словом сказать, расшвырял я нечистую силу так, что можно сказать – яко тает воск! Стал я посередке этого самого плац-параду и говорю: «Что вы со мной, разбойники, затеяли?»
Великолепен был гигант-купец в эту минуту, но еще великолепнее был парень, который слушал рассказ купца. Когда купец говорил о том, как он «наклеивал» и «притукивал», делая при этом соответствующие жесты, – и руки, и ноги, и весь корпус парня так и ходили ходенем; смотря на купца, парень никак не мог удержаться от подражания его жестам, двигал локтями, совал кулаками в пространство и не раз попадал в тонкую красного дерева дверь каюты. «Ты что тут дверь-то ломаешь, истукан этакой!» – сурово заметил ему буфетчик; но парень хотя и оглянулся на него, но, видимо, ничего не понял из его слов, да и купец также вошел в такой азарт, что ни на парня, ни на буфетчика, ни на публику, которая не могла удержаться от улыбки, не обращал никакого внимания.
– Что вы тут затеяли, бессовестные? – продолжал он вне себя. – Где такие права? Нешто можно так по закону? Что за разбойство такое… Только подступись, убью на месте! Расшибу без остатка… – Читаю им этакую рацею, а того и не вижу, что стали они опоминаться да опять ко мне. Глянул назад, а там уж эскадра-то эта самая и подплыла… Подплыла, да как навалится на меня сзаду, да как подсвиснет – только я и свету видел!.. «А, так ты при исполнении обязанностей! А-а-а, так ты такими делами занимаешься?.. Ящик у тебя…» – «Коли так, вышибай, ребята, из купчины дно! (Парень прыснул со смеху, но удержался…) Вышибай ему днище!..» И пошло… Свистки верещат, трещетки трещат, колотушки стучат, а изо лба у меня огонь брызжет, из ушей огонь, а шею все одно каленым железом пекут… Слышу: «Об нем строгая телеграмма… У него ящик…» – «Братцы, кричу, там политура!..» – «А-а-а, гудят, политура! Разделывай его, ребята, под орех!» (Парень не вытерпел, прыснул со смеху, хотел выскочить в коридорчик под лестницей и, со всего размаху треснувшись о притолоку головой, буквально со смеху покатился под лестницу. Рассказчик сурово поглядел на него, но продолжал.) И разделали, братцы мои! Так разделали, что и не помню и не знаю, и что такое, что, где, куда. Жив ли я, помер ли – ничего не знаю! Уж только так… (Рассказчик согнулся, опустил беспомощно руки и стал говорить как-то беззвучно, точно каким-то утробным дыханием…) Уж еле-еле… Господи! Батюшка… Матушка… Бессловесно и бездыханно… И уж несли ли меня, или сам шел – ничего не помню… Знаю одно: очутился я в темном месте и весь болен; все суставы ноют, все кости болят – окончательно жду смерти (рассказчик медленно опустился на диван). Вспомнить – так и то страшно, перед богом, а не то что… – Ну-ка, любезный, дай-ко мне лимонадцу да рюмочку коньяку!..
Последнюю фразу, обращаясь к буфетчику, рассказчик произнес утомленным голосом; но тотчас же переменив тон, уставился на парня и сказал не без некоторого раздражения в голосе:
– Ты чему, Еруслан этакой, радуешься? Ты чего там ржешь? Рад, что купца-то прижучили, любо?.. Как вам не любо! Первое для вас удовольствие, игра. Робята малые… Знаю я вас довольно хорошо… Он робенок (рассказчик обращался к публике), а вот возьмет тринадцати четвертей дубину, так с одного маху человека прекратит, а потом в деревне, как малый робенок, на одной ноге скачет, в городки играет… Дитё… стоеросовое! Пороть-то вас ноне стало некому!..
– Н-ну! – как-то обидевшись, промычал парень из коридорчика.
– Чего – ну?.. Я видел, как ты ржал-то.
– Чего ты тут толчешься? – сказал парню буфетчик мимоходом, подавая купцу лимонад на подносе. – Не твое тут дело, пошел к своему месту.
– Куда я пойду?
– Пошел, говорят тебе!.. Все двери обломал тут… Убирайся!!.
Парень нехотя поплелся по лестнице вверх, но не ушел, а сел на верхней ступеньке.
– Скажите, пожалуйста, – сказал один из военных, – куда же девался ваш аптекарь?
Рассказчик выпил лимонад, отер бороду и усы и сказал:
– А аптекарь-то – эво уж где в эфто время! Уж он, брат, к Соловецким монастырям подкатывает на курьерских… Его уж мчат на всех парусах, а за что – и сам не знает! «И за что, говорит, сам не знаю! Думаю – ничего не придумаю!» Это уж после он мне рассказывал… Как приехал я, говорит, в Москву, взял номер, сходил по делам, закупил припасу, накатал пирюль, да случись что-то, какая-то задержка, к Патрикееву-то он не попал. Не попал к Патрикееву, адреса моего тоже у него нету; вот он взял, обшил коробку, написал адрес и думает, что «отправлю, мол, завтра». Только что он это все уделал – дело было под вечер – глядь, пришел к нему приятель. «Поедем, говорит, к арфисткам за город!» – «Поедем!» Сели на извозчика, поехали. Ну, само собой, и швеек каких-нибудь там присоединили к себе для компании, холостым делом… Попили, погуляли, провели время, и воротился мой аптекарь с большущей мухой… Как пришел, говорит, повалился, так и захрапел. Слышу, гремят в дверь что есть мочи… Такой треск и гром. Как ни был хмелен, а очнулся… Уж утро на дворе. Очнулся, отворил – хвать, ан эта самая эскадра средиземная и вплыла. «Пожалуйте!» – «Куда?» – «Туда-то». – «Помилуйте, что же так, по какому делу?» – «А уж это там видно будет!» Аптекарь мой спьяну-то забурлил было, а ему говорят: «Хуже будет! Уж лучше добром…» Что тут делать?.. Оделся, идет, да и схватись пирюли спрятать. Как стал он прятать, а у него спрашивают: «А это что такое?» – «А это, говорит, так»… И прячет. Те видят, что человек прячет что-то, – отнимать. Аптекарь не дает, боится – ну-ко расследуют… А пирюли-то вредные, и на коробке-то его имя и фамилия поставлены, – вот он и уперся. «И оставить-то, говорит, в нумере тоже побоялся: думаю, начнет кто-нибудь любопытствовать, проглотит – ан и беда…» Вот он и хотел спрятать к себе в рукав… Ан нет, не дали! Кончилось тем, что один из гостей треснул его по плечу, коробка-то и выпала. Те подхватили и поехали. Приехали в канцелярию, и не прошло полчаса, как подошли к моему аптекарю, спросили фамилию – да на тройку да марш… И пошла писать.
– Да что ж это за безобразие такое? Может ли быть что-нибудь подобное? – воскликнул один из военных. – Это просто какая-нибудь ошибка нелепая.
– А то что же? Само собой, что ошибка. Нешто без ошибки-то можно этак-то?.. Только вот кто тут ошибку-то дал, вот это-то нам и неизвестно!
– Но ведь впоследствии-то обнаружилось же, что все это вздор?
– А то как же? Обнаружилось, уж это не беспокойтесь – и даже так, что вполне ясно обозначилось, а только, говорю вам, теперича-то мы ничего не понимаем… Аптекарь в ум не возьмет, что такое, только за печенку хватается – думает, как бы не отшибли; да и я-то вот очнулся и тоже ничего не понимаю, ничего вздумать не могу…
– Но как же все это разъяснилось?
– А вот вы слушайте… Уж все по порядку… Каким родом и куда меня опосля этого побоища предоставили, этого уж я вам рассказывать подробно не буду. Одно скажу – много я страху напримался, а что обиды – нет, не видал. Прямо сказать, вежливость, благородство, тонкое обращение… Я думал, хуже будет, а на место того тут-то и началась самая разборка.
– Вот про это-то, – присовокупил буфетчик, – я и говорю. Сначала надо разобрать дело, а не зря…
– Ну, вот-вот, – подтвердил рассказчик. – Вот все так и вышло по-вашему… Как предстал я, значит, с разбитым ликом – потому всю голову я мокрыми тряпками обмотал, – член-то меня и спрашивает: «Что такое с вами? Чем вы нездоровы?» – «Да избили, говорю, ваше сиятельство!» – «Как? Что такое?» Ну, я ему и рассказал. Он так и ахнул: «Да на каком же основании? Как смели…» Я говорю: «Сказывают, бумага есть у них». – «Ах, мерзавцы!» И пошел браниться… Бранил-бранил, наконец того спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что это такое?» И показывает мне пирюли эти самые… Я было спервоначалу уперся, потому ничего мне неизвестно. «Ну-ка, думаю, аптекарь-то втесался в какую историю? Ведь ноне какое время-то! И что мне будет, ежели окажу знакомство с ним?» Вот я и говорю: «Не знаю, мол, что такое». – «А не знаете ли, говорит, какого-нибудь Лаптева?» А Лаптев-то и есть аптекарь. «Нет, говорю, не знаю!» Тогда он вынул мешок, в котором пирюли зашиты были, и показывает мне, а на мешке-то надпись: Ивану Ивановичу Попову. Посылка на один рубль от Лаптева.«Ведь вы, говорит, Попов-то?» – «Я». – «А посылка вам?..» – «Стало быть, мне». – «Ну, стало быть, и Лаптева знаете?..» Тут я вижу, что попался, и говорю: «Виноват, ваше благородие, знаю». – «Отчего же вы сразу не признались?» – «Да боюсь, ваше благородие!» – «Чего же вы боитесь?» – «Да и сам не знаю!» – «Однако?» – «Да всего, говорю, боюсь я, ваше сиятельство. Потому измордовали меня, а доискаться ничего не доищусь…» Ну засмеялся он и говорит: «Вы не опасайтесь, а говорите чистосердечно…» – «Спрашивайте, все открою!» Вот он и спрашивает: «Зачем вам отравленные пирюли?» – «Как отравленные?» говорю. «Да ведь это такие пирюли, что умереть можно… Ведь это, говорит, не то что человек, а и лошадь свалится от таких пирюль. Зачем они были вам нужны?..» – «Лечусь, говорю. Желудком страдаю!» – «Но ведь это отрава!» – «Помилуйте, сохрани бог! Я привык постепенно… Окромя облегчения ничего не вижу». – «Ну, а кто их делал?» – «Аптекарь, мой приятель…» – «Расскажите все, как было». Я и рассказал все про аптекаря… Говорю: «Обещался принесть в Патрикеевский трактир, а наместо того не знаю, куда скрылся, не пришел…» – «Где ж, говорит, теперь этот ваш аптекарь?» – «А это уж, говорю, ваше благородие, мне неизвестно!»… Думал-думал, рылся-рылся в бумагах, в звонки звонил… Гляжу, привели какого-то молодого человека… (Незадолго пред этим молодой человек, с которым я познакомился на железной дороге, все время внимательно слушавший рассказчика, поднялся с дивана, надел пальто при последних словах рассказчика и на цыпочках вышел из каюты…) Пришел он, член-то меня и спрашивает: «Этот, говорит, господин делал вам пирюли?» Поглядел, вижу – совсем чужой человек. «Никак нет, говорю… Я их даже и в глаза не видал!» И молодой человек то же самое говорит… Показали ему пирюли, поглядел он. «Ничего, говорит, я не понимаю!»… Тогда член опять порылся, порылся, позвонил в звонки, пошептался с тем, с другим, молодого человека отпустил, а мне говорит: «Да, тут вышла ошибка… Уж вы не будьте в претензии!» – «Помилуйте, говорю, я рад, что хоть жив-то остался!» – «Дело, говорит, в том, что у нас есть Лаптев, вот этот молодой человек, который замечен на худом счету. Вот мы и думали, что пирюли-то он приготовлял… А так как доктора дознались, что они отравные, вредные, то мы и думали, нет ли тут чего… На адресе было ваше имя, вот мы и дали знать… А те, дураки, чорт знает чего натворияи!..» – «Да, говорю, ваше сиятельство, уж век не забуду!» – «Что делать! Дураки, невежи… а время-то, сами знаете, какое…» – «Да, говорю, время точно – не разбери бог!»… Н-ну тут я приободрился, да и спросил: «А где же, мол, ваше благородие, аптекарь-то мой?» – «А это, говорит, надо разузнать… Тут тоже, говорит, какая-нибудь ошибка вышла…» И стал он мне рассказывать: «Должно быть, вышла какая-нибудь путаница в канцелярии… Вот этому молодому человеку тоже фамилия Лаптев, и надо было его препроводить. А препроводили-то, должно быть, вашего аптекаря… Впрочем, все это разберется…» – «Ну а мне-то, говорю, как теперича быть?» – «А вы можете идти…» – «Совсем?» – «Совсем, куда угодно… Вышла просто нелепая ошибка!..»
– Н-ну, конечно! – с достоинством и как бы с облегченным сердцем сказал военный. – Разумеется!
– Да, – продолжал рассказчик, – ошибка, говорит! Ну, думаю, слава тебе господи! Подобрал полы – ночь на дворе была – прямо на машину да чрез город-то проклятый, закрывши лицо, на извозчике – прямо на хутор. И в дом-то даже не заезжал, да и сейчас жить неохота, перед богом говорю! Кабы кто купил, за свою бы цену отдал… Приехал на хутор, заперся на замок – ни работников, ни приказчиков, никого к себе не допускаю; даже и жену и семейство отделил от себя… Очувствоваться не могу, отдышаться не отдышусь и суставами-то не действую. Поем, лягу и сплю; поем и спать – только и охоты.
– На том и пошабашил? – спросил один из живорезов.
– Как же! Больно ты скор. Пошабашил!.. Ты слушай, что дальше будет…
– Неужели еще не кончилось? – спросил военный.
– Да тут и кончаться-то нечему… Сами видите, все ошибка да ошибка, а корень-то дела еще не виден. Вы глядите, какой корень-то вылупился!
– А где аптекарь?
– Все будет! Только что по порядку надо… Скоро и аптекарь объявится… Маленечко повремените, ан аптекарь-то тут и есть. Вот хорошо. Сижу я на хуторе месяц, ем, сплю да в бане суставы расправляю… Дом в городе препоручил племяннику. И уж задал же он всем этим канальям звону! Ухо парень у меня! Ну да это до дела не подходит… Сижу, говорю, месяц, отдыхаю, опамятываюсь; гляжу, однова едет верховой… Заекало мое сердечушко! Господи, помилуй нас грешных! Что такое? Подает повестку: «Пожалуйте в суд!» – «За что?» – «А там сказано!» Почитал и вижу – привлекают меня к ответу за оскорбление при исполнении обязанностей… Ладно. Прочитал, расписку дал… Тут меня и рвануло за сердце: «как так?» думаю. Какие же это такие обязанности? Меня будут колотить, а я отвечай?.. Это, значит, обязанности, ежели мордовать зря? «Ну, думаю, нет, ребятушки! Довольно, поиграли – и будет! Ежели меня сам высший член оправдал, отпустил невиновным домой, так уж вам-то я не дамся!» Заложил тройку – и в город! Телеграмму в Москву – адвоката! Мордобой против мордобою – иск! «Делай, говорю, тысячи рублей не пожалею!» И заварили кашу… Назначается судный день, приезжаю; приехали мы с женой. Подкатили к суду рано еще, в девятом часу, а суд-то в двенадцать. Сели на крылечке, ждем. Гляжу – и аптекарь объявился! Идет, еле ноги волочит; обносился, исхудал, словно нищий. «Ты откуда?» говорю. «Да и сам не знаю! Здоровье потерял, в ногах ревматизм, еле, говорит, жив!» И точно, одышка у него, и кашляет… Сел он тоже на ступеньку с нами, я и говорю ему: «Ну, брат, достались мне твои пирюли! нечего сказать, буду помнить!» А он мне: «А мне-то, говорит, каково было!» И расскажи он мне все, как было, то есть отчего он к Патрикееву не поспел и все прочее, что я рассказывал… «До сих пор, говорит, плечом не действую, как он меня тогда треснул кулаком, как коробок-то отымал!» – «Да ты зачем не отдавал-то?» – «Боюсь! Незаконные пирюли-то… Ведь только по знакомству делал, что знаю твою комплекцию, а он отымает…» – «Да из-за чего, спрашиваю, дело-то вышло?» – «То-то и есть, что я сам-то ничего дознаться не мог… Примчали меня на край света, а там телеграмма: „Воротить! Это – не тот!“ Вот воротился я и стал дознаваться в канцелярии… Рылись-рылись, копались-копались и наконец того уж кой-как да кое-как и дорылись до корня. И что ж ты, братец мой, думаешь? Ну, как тебе кажется, из-за чего бы это вышло?» – «Почем мне знать! Я и сам еле-еле дознался». – «Ведь это все, говорит, из-за подлеца Липаткина!» А Липаткин, надо сказать, существует в нашем городе купец… Так, скалдырник – больше ничего, выжига – одно слово. «Как так из-за Липаткина?» спрашиваю. «А вот как, говорит. Ведь у него, у дурака, нанимал я квартиру-то, когда аптеку-то держал в Сусалове?» – «У него». – «Ну и был у нас такой контракт, чтобы перекрыл я ему крышу… Ну, а как дела мои не пошли в ход, я и выехал вон из города, а крышу-то не перекрыл, потому, думаю, как выезжаю я раньше срока и за четыре месяца у меня заплачено вперед ему, то пущай лучше они пропадают… Сдал заведение и уехал, а Липатка-то вцепился в этот пункт, вздумал взыскивать… Разыскал какого-то писаришку, тот и настрочи жалобу в Петербург, в медицинский департамент, так и так, мол, прошу понудить аптекаря… А в медицинском-то департаменте и разбирать не стали – прямо по месту жительства, в губернию… А в губернии-то, в управе, к одной бумаге приладили другую, уж в уезд, „вытребовать аптекаря для объяснения…“ Пришла бумага в уезд, а в уезде-то меня нет, вот и третью бумагу настрочили: „разыскать аптекаря и препроводить“, да и ахнули в Москву… Вот в Москве-то меня и разыскивали… Как только я приехал, дал билет прописать, меня и сцапали… А тут эти пирюли – отнимают, а я не отдаю, прячу… Заподозрили… А в канцелярии, в суматохе, тоже ошиблись… Так и пошло все к чорту! Воротился теперь в нумера, все вещи разворовали, износили… То есть не знаю, за что и взяться, – остался с пустыми руками!..» – «А теперь-то зачем ты здесь?» – «Да взыскивает этот дурак…» – «Все за крышу?» – «Все за нее… Подай, говорит, тридцать четыре с полтиной!..» «Ну да я ему и гроша не дам, а еще с него взыщу за четыре месяца… Я сам начал против него…» – «У меня тоже дело тут, и я тоже, брат, окопался канавой! Держись крепче, а потом поедем ко мне отдыхать…» Ну, началось дело… Сначала разобрали аптекаря с Липаткиным – оправдали! Пошел Липаткин ни с чем. Ну, а потом мое пошло… Уж тут было дело! Уж мой московский орел показал, где раки зимуют, уж он их так отработал, лучше требовать нельзя… Даже прокурор встал, говорит: «Нет, я, говорит, не могу, отказываюсь»… А мой-то не унялся да опять их молол-молол, толок-толок, тер-перетирал… До того довел, встали все, единогласно: «Нет, не виновен!» Шабаш!..
– Статья есть такая, – отрывисто перебил один из живорезов: – «По совокупному мордобою и взаимному оскорблению – не виновны».
– Ну, вот-вот! Нет, не виновны, потому мордобитие было взаимообразное, – ступайте по домам!.. Вот мы и вышли на улицу. Вышли все: и эскадра средиземная, и плотники, и дворники… Вышли и стоим… И столпилось нас, дураков, человек шестьдесят… Передрались мы все, как самые последние прохвосты, а выходим все как младенцы невинные… Стали и молчим, как столбы. Вдруг Родионка подходит без шапки. «Виноват, ваше степенство!» – «Ты что ж, говорю, дурак эдакой, сделал?» – «Помилуйте!.. Нам сказано: дать знать, потому бумага… Что нам приказывают, то мы и исполняем… Уж не попомните, возьмите опять!.. Явите божескую милость… Нас тоже не хвалят». За Родионкой – плотник: «Уж ты не попомни… Ведь по нынешнему времю, сам знаешь… Опять же нам сказывали: „Караульте, мол, его – в нехороших делах попался“… Уж ты тово…» – «Это ты, что ли, дурак, спрашиваю, под орех-то меня разделывал?» – «Уж тут все… Уж ты бы… Да ведь и ты тоже на свой пай разделал нашего брата не худо… Ведь у тебя тоже кулачище-то…» За плотником и командиры: «Это – недоумение, извините…» – «Вы за что же мне синяков-то насажали?» – «Но и вы, говорит, тоже мне щеку раскроили… Мы действовали сообразно – у нас телеграмма. А вы треснули меня… Это не более как недоумение… Мы завсегда… Так как вы домовладелец, то очень жаль…» И аптекаря тоже обступили; Липаткин говорит: «Не взыскивай с меня, помиримся!» А писарь из участка говорит: «Вы знаете, какое время? Тут, говорит, каждый день только и делаешь, что с утра до ночи пишешь: „немедленно“, да „разыскать“, да „представить“… Так тут не мудрено и ошибиться… Такое время…» Столпились тут все в кучу и галдят: «Времена ноне какие… Коли ежели бы не времена… Мы завсегда… почитаем, уважаем… Недоумение…» И вижу я, что хотят все эти дуроломы на водочку. Как же, действовали все с усердием, никто не виноват оказался, а угощения нету? Самый бы раз по рюмочке. «Нет, говорю, друзья приятные, кабы вы не были дуроломы и остолопы, то и времена-то были бы другие… И времена-то были бы не такие, кабы у вас, у подлецов, совесть была…» И ушли с аптекарем… Так они и остались без угощения.
– Всё? – спросил буфетчик.
– А тебе что – мало, что ли?
– Да, – сказал военный, – чорт знает что!.. Дурман какой-то…
– А бывает-с! Перед богом, бывает! – со вздохом проговорил тот купец, с которым буфетчик вел разговор вначале. – И даже оченно частенько… ошибаются!.. Потому ежели человек не знает ничего, не понимает и в то же самое время боится беспрестанно, то все можно…
– А охотников, – прибавил гигант-рассказчик, – чтобы, например, эдаким манером (он засучил рукава), хоть пруд пруди!..
И тут начались воспоминания о разных подобных рассказанному случаях, и скоро в каюте стало необычайно душно – душно не от табаку, которым в каюте действительно было накурено, а именно от этих рассказов, от этой тягостной, ненужной путаницы человеческих отношений, составлявших их содержание. Ненужные ужасы, наивнейшие злодейства, огромные, нелепейшие недоразумения, бесцельные жестокости – все это, группируясь вокруг какого-то наследственного «страха жить», страха ценить белый, короткий день жизни и как бы полной безнадежности дать этому короткому дню какое-нибудь содержание, кроме непрестанной тяготы и необузданной жадности, – все это до такой степени удручало не только голову, а прямо грудь, стесняло дыхание, что желание свежего воздуха делалось неотразимым. Именно воздуха, самого буквального, несмотря на то, что тягота происходила не от табачного дыма….
Не дослушав все более и более разгоравшейся беседы, я вышел. Меня уже давно занимает одно маленькое обстоятельство, о котором я упомянул мельком, чтобы не прерывать рассказа. Когда купец рассказывал о том, что ему предъявляли какого-то незнакомого ему молодого человека, я заметил, что молодой человек, с которым я познакомился на железной дороге, вспыхнул, сконфузился, но, стараясь скрыть этот конфуз, как-то неловко стал надевать пальто и, как я уже сказал, вышел потихоньку из каюты. Заметил я, что, выходя, он старался пробраться между параллельно расставленными диванами, так чтобы рассказчик купец остался у него за спиной. Это смущение и этот прием ухода, в котором не представлялось видимой надобности, невольно заставили меня подумать о том, «зачем он это сделал?» Выйдя на палубу, я думал найти моего недавнего знакомца там, но его не было. Вместо него я наткнулся на парня-убийцу, который шваброй мыл палубу. Увидя меня, он почему-то весело улыбнулся и, оскалив зубы, сказал:
– А ловко купца-то отщекатурили. Дюже хорошо!..
– Чем же? Что ж тут хорошего?
– Ничего… Ловко!.. Иному и этого еще мало!.. Иного-то и не так еще достойно.
– За что же?
– Не делай худа! Они нешто понимают это? Да вот сейчас у нас купец тут один всю реку запрудил и рыбу не пущает. Что ж, хорошо это?
– Как не пущает?
– Да так! Запрудил реку в своей аренде, перепрудил ее, стало быть, поперек, у самого озера, всю рыбу-то и заарестовал у себя… Да ведь что выдумал! железную загородь-то сделал на веки веков! На полтораста верст и нет рыбы… А ведь на полтораста-то верстах сто деревень… Да все они рыбой жили, питались… А теперь вон мызгаются-мызгаются по воде-то, а там ничего нет… Это как – хорошо или нет? Ведь надо ж такую иметь в себе жадность! Помирайте, мол, с голоду сто деревень, только бы мне!.. Нет, они тоже не думают о прочих народах…
– Так жаловаться надо на купца. Он не смеет так делать.
– Ну, жаловаться!.. У него мошна-то, поди-ко, вот как отдувается… Ему выйдет закон, а он его не исполнит – больше ничего… А по-моему вот эдак-то лучше…
– Как «вот эдак»?
– Да вот, как тому… днище-то высадили… Надавал ему хороших, а запруду-то прочь, вот оно и будет без обиды!.. А то поди, пиши бумаги… Ты бумаги пишешь, а он рыбу ловит да продает. Нет лучше, превосходнее, как «своим средствием»… Первое дело – отделал его под орех или под воск, вот он и поостережется грабить-то!..
– Ну, брат, – сказал я, – не вполне ты правильно разговариваешь
Хотел было я поговорить с ним на эту тему, но, взглянув в сторону, увидел молодого человека. Он стоял на берегу и, к удивлению моему, зачем-то звал меня, делая рукою знаки.