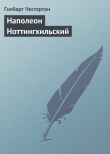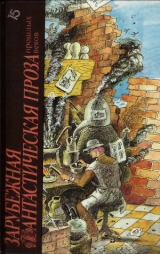
Текст книги "Зарубежная фантастическая проза прошлых веков (сборник)"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Соавторы: Томас Мор,Ирина Семибратова,Сирано Де Бержерак,Томмазо Кампанелла,Этьен Кабе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 43 страниц)
Небо было покрыто тучами в тот день, когда Вэйн со своей армией пошел умирать в Кенсингтон-Гарденс. Оно снова покрылось тучами в час, когда его полки были проглочены неисчислимыми войсками нового мира. Только на краткое сверхъестественное мгновение проглянуло солнце. Это было в тот миг, когда правитель Ноттинг-Хилла со спокойствием зрителя устремил взгляд на вражеские полчища, покрывавшие зеленую равнину у его ног. Огромные зеленые, синие и золотые квадраты и прямоугольники лежали вкруг парка, словно Евклидовы теоремы на пышной парче. Солнце улыбнулось – что-то болезненное и как бы влажное было в этой улыбке– и скрылось. Вэйн говорил с королем о военных операциях каким-то странным тоном, холодным и дремотным. Свершалось его ночное пророчество: лишившись уверенности в своей правоте, он лишился всего. Он был обломком старины, беспомощно барахтавшимся в океане нового мира – мира компромиссов и соревнования, мира восстающих друг на друга империй, мира относительной правды и относительной неправды. Но когда он посмотрел на короля, сосредоточенно маршировавшего вслед за остальными в черном своем цилиндре и с алебардой на плече, его лицо слегка прояснилось.
– Ну что ж, ваше величество, – сказал он, – сегодня вы должны гордиться. Кто бы ни победил, победителями будут ваши дети. Другие монархи создавали законы, вы же создали жизнь. Другие монархи правили нациями, вы же создали нации. Другие создавали царства, вы же родили их. Посмотри на своих детей, отец! – И он простер руку по направлению к неприятелю.
Оберон не поднимал глаз.
– Посмотрите, как они прекрасны! – воскликнул Вэйн. – Как они прекрасны – новые города на той стороне реки! Смотрите, вон идет Бэттерси – знамя Пса веет над ним. А Путней! – Вы видите всадника на белом вепре на стяге Путнея? Как он сияет в лучах солнца! Это грядет новое поколение, ваше величество! Ноттинг-Хилл не просто империя. Ноттинг-Хилл, как Афины, – колыбель новой жизни, колыбель нового modus‘a vivendi, который вернет миру его юность. Ноттинг-Хилл – Назарет. Помню, в былые, трудные дни, когда я был молод, ученые тупицы писали книги о том, как весь мир станет одним государством, а с Луной будет установлено трамвайное сообщение. Еще ребенком говорил я себе: «Гораздо вероятней, что мы вернемся к крестовым походам или будем поклоняться городским богам». Так и вышло! И я счастлив, хоть это и последний мой бой!
Не успел он договорить, как слева раздался стальной лязг и грохот оружия.
– Вилсон! – каким-то радостным голосом воскликнул он, поворачивая голову. – Рыжий Вилсон ударил на нас с левого фланга! Никто не может устоять против него – он презирает смерть! Он такой же храбрый воин, как Тэрнбулл, только он менее терпелив – в нем нет истинного величия! Ха! И Баркер двинулся. Как он шагнул вперед! Как красиво он выглядит! И дело не только в перьях! Он обрел душу – раз в жизни обрел душу! Ха!
Снова раздался лязг оружия, на этот раз справа – то Баркер сошелся с ноттингхиллцами.
– Вот и Тэрнбулл! – воскликнул Вэйн. – Смотрите, он отбросил их! Баркер поддается! Тэрнбулл наступает – победа! Но наше левое крыло разбито! Вилсон смял Боулса и Мида – они пятятся! Гвардия Правителя, вперед!
И центр ноттингхиллской армии двинулся в бой – туда, где пылали кудри, лицо и меч Адама Вэйна.
Король ринулся вперед,
В следующее же мгновенье по всему отряду пробежала дрожь – он соприкоснулся с неприятелем. И Оберон увидел справа, сквозь лес ноттингхиллских алебард, Лилового Орла правителя Бэка.
На левом фланге рыжий Вилсон продолжал наседать на уже поколебленные ряды ноттингхиллцев. Его маленькая зеленая фигурка, пламенно-рыжие усы и лавровый венок выделялись даже в этой сумасшедшей свалке. Боулс ударил его мечом по голове; венок осыпался, и кровь выступила на лбу Вилсона. Заревев, словно бык, он ринулся на аптекаря и после недолгой схватки пронзил его мечом. С криком «Ноттинг-Хилл!» Боулс пал на землю. Трепет пробежал по рядам красных алебардщиков– еще один натиск бейзуотерцев, и они обратились в бегство.
Зато на правом фланге Тэрнбулл все сильней теснил Баркера; стяг Золотых Птиц уже склонялся перед Красным Львом. Кенсингтонцы падали один за другим. В центре же кипел ожесточенный, упорный бой между Бэйном и Бэком. До сих пор шансы были равны. И все же это сражение было фарсом. Ибо в тылу трех малочисленных армий, с которыми билась армия Вэйна, простиралось необозримое море союзных войск. Спокойно и насмешливо наблюдали они за ходом битвы – им достаточно было пошевелить пальцем, чтобы стереть с лица земли и Вэйна, и его врагов.
И вот они двинулись. Впереди в пастушеских своих одеяниях шли копьеносцы Шепхердс-Буша, а за ними суровые воины Пэддингтон-Грина. Они вовремя вступили в бой, ибо Бэк, правитель Северного Кенсингтона, уже давно подавал им отчаянные сигналы: он был окружен и отрезан. Его полки, истерзанные и смятые, казались островком в красном море Ноттинг-Хилла.
Союзники проявили преступную беспечность. Они позволили Тэрнбуллу разнести в пух и прах армию Баркера. Как только доблестный старый вождь Ноттинг-Хилла справился с этим делом, он скомандовал «кругом» и атаковал Бэка с тылу и с флангов. В тот же момент Вэйн крикнул: «В атаку!» и, подобно удару грома, обрушился на фронт кенсингтонцев.
Две трети Бэковых людей были изрублены в куски, прежде чем союзники пробились к ним. А потом прибой ста городов со знаменами, реющими над ним, словно пена морская, хлынул на Ноттинг-Хилл и поглотил его навеки. Сражение еще не кончилось, потому что ни один из солдат Вэйна не хотел сдаваться живым. Оно длилось до поздней ночи. Но исход его был уже предрешен: Ноттинг-Хилл перестал существовать.
Увидев это, Тэрнбулл на мгновение перестал драться и посмотрел кругом. Вечернее солнце озаряло его лицо. Оно казалось лицом дитяти. «Я познал юность», – сказал он. Потом вырвал из рук ближайшего солдата секиру, ринулся в гущу копьеносцев Шепхердс-Буша и пал мертвым где-то в самой глубине их смятенных рядов. Сражение продолжалось. К полуночи не осталось в живых ни одного ноттингхиллца.
Вэйн стоял под деревом. Он был один. Несколько человек, вооруженных секирами, устремились на него. Одному из них удалось нанести ему удар. Он поскользнулся, но, протянув руку, схватился за дерево и прислонился к его стволу.
Баркер подскочил к нему с мечом в руках, весь трясясь от возбуждения.
– Велика ли теперь Ноттингхиллская империя, мой лорд? – крикнул он.
Вэйн улыбнулся в зияющий мрак.
– Достаточно велика, – ответил он, и меч его рассек воздух, чертя серебряный полукруг.
Баркер упал, пораженный в шею; и рыжий Вилсон дикой кошкой прыгнул через его бездыханное тело на Вэйна. В то же мгновение за спиной владыки Красного Льва раздался рев. Червонное золото вспыхнуло во мраке – отряд западных кенсингтонцев бегом спускался с откоса, по колено в траве. Желтое знамя города развевалось над их головами.
И в тот же миг Вилсон упал навзничь, пораженный ударом Вэйна. Огромный меч снова взметнулся в воздухе, словно вспугнутая птица; но одновременно он как бы оторвал от земли Вилсона, который прыгнул на Вэйна, подобно бешеной собаке. Желтые алебардщики уже добежали до дерева, и один из них замахнулся секирой на Вэйна. Король Оберон с проклятием занес свою алебарду и вонзил ее в лицо кенсингтонца. Тот закачался и повалился на траву рядом с Вилсоном, которого Вэйн отбросил вторично. И снова правитель Бейзуотера вскочил на ноги и снова прыгнул на Вэйна. Он был отброшен опять, но на этот раз из груди его вырвался торжествующий смех. Он сжимал в кулаке желто-красную ленту, которую Вэйн носил в качестве правителя Ноттинг-Хилла. Двадцать пять лет висела она на том месте, откуда сорвал ее Вилсон.
Кенсингтонцы с диким ревом сомкнулись вкруг Вэйна. Их огромное желтое знамя трепетало над его головой.
– Где ваша лента, правитель? – крикнул вождь Западного Кенсингтона.
Громовой смех покрыл его слова. Адам нанес знаменосцу страшный удар и заставил его пошатнуться. Знамя качнулось вперед, и правитель Ноттинг-Хилла молниеносным движением оторвал от него кусок желтой ткани.
Какой-то алебардщик рассек ему плечо, из которого брызнула кровь.
– Вот один цвет! – крикнул Вэйн, затыкая желтую тряпку за пояс. – А вот, – он указал на кровь, струящуюся по его груди, – а вот другой!
В то же мгновение на короля обрушился удар алебарды, и он упал навзничь, оглушенный или мертвый. В последней вспышке меркнущего сознания перед ним возникло странное видение из давно забытых времен – фантом, привидевшийся ему когда-то на пороге ресторана. Перед его затуманенными глазами проплыли цвета Никарагуа– желтый и красный.
Квин не увидел конца. Опьянев от радости, Вилсон снова ринулся на Адама Вэйна, и огромный меч нот-тингхиллского правителя еще раз рассек воздух. Алебардщики инстинктивно отпрянули при жутком свисте меча, разившего, казалось, с неба, и Вилсон, правитель Бейзуотера, пал на смятую траву, словно раздавленная муха. Он был мертв; но клинок, проломивший его череп, сломался сам. Умирая, он схватился за него и так и не выпустил его: в руках Вэйна осталась одна рукоять. Натиск врагов снова заставил Вэйна прислониться к дереву. Кенсингтонцев было так много, что они не могли воспользоваться ни алебардами, ни даже мечами: они стояли плечом к плечу, носом к носу. Тем не менее Бэку удалось вытащить кинжал.
– Убейте его! – странным, сдавленным голосом крикнул он. – Убейте его! Плохой ли, или хороший – он не наш! Не ослепляйтесь его лицом… Господи! Достаточно долго были мы слепы! – Он занес руку для удара и закрыл глаза.
Вэйн не шевельнул рукой, лежавшей на суку дерева. Только мощный вздох всколыхнул его грудь и все его исполинское тело, словно землетрясение, пронеслось над зелеными холмами. Судорожным усилием он оторвал сук от дерева вместе с корой и мясом. Один только раз взмахнул он им и опустил на голову Бэка. Со сломанной шеей пал лицом на землю творец Большой дороги, не выпуская кинжала из стальных своих пальцев.
– Доброе вино нацежено, брат мой, – молвил Вэйн своим странным, напевным голосом, – вам и мне и всем храбрецам в харчевне на краю света.
Кенсингтонцы сделали еще одну отчаянную попытку осилить его. Было так темно, что им приходилось драться вслепую. Он снова прислонился к дубу и засунул руку в широкую трещину ствола, словно желая вырвать из дерева внутренности. Весь отряд, насчитывавший около тридцати человек, сделал попытку оторвать его от дерева. Они повисли на нем всей своей тяжестью, но он не шелохнулся. Была мертвая тишина. Не было в мире пустыни безмолвней этой кучи напряженных тел. Потом послышался какой-то слабый шум.
– Его рука скользит! – раздался радостный крик.
– Вы не знаете его, – яростно ответил один из алебардщиков– участник Великой войны. – Скорее, кости его трещат!
– Ни то ни другое, ей-богу, ни то ни другое! – крикнул кто-то.
– Что же тогда?
– Дерево падает, – ответил ветеран.
– Как дерево падает, так оно и ляжет, – раздался из толпы голос Вэйна. Он доносился как бы издалека, и что-то сладостное и в то же время страшное звучало в нем: даже когда Вэйн дрался как помешанный и изворачивался как угорь, он разговаривал как зритель.
– Как дерево падает, так оно и ляжет, – повторил он. – Люди называют это речение жутким, а между тем оно сущность, квинтэссенция всяческой радости. Сейчас я делаю то, что я делал всю мою жизнь, то, в чем единственное счастье, то, что действительно объемлет все. Я цепляюсь за что-то. Пусть оно падает, пусть оно лежит. Глупцы, вы шествуете по миру, вы видите царства земные, вы свободолюбивы, мудры и космополитичны – это все, что дьявол может предложить вам. А я делаю то, что делают истинные мудрецы. Когда дитя, гуляя по саду, хватается за дерево и говорит: «Пусть это дерево будет всем, что у меня есть», – в тот миг корни дерева уходят в преисподнюю, а ветви его вздымаются к звездам. Радость, испытываемая мной ныне, знакома влюбленному, для которого любимая женщина – все. Она знакома дикарю, для которого его идол – все. Она знакома мне, для которого Ноттинг-Хилл – все. У меня есть город. Пусть он падает там, где он стоял.
Пока он говорил, дерн зашевелился у его ног, словно живое существо, и медленно, подобно чешуйчатым змеям, выползли из него корни дуба. Потом мощная глава дерева, казавшаяся зеленым облаком среди серых облаков, словно исполинская метла, вымела небо, и дерево опрокинулось тонущим кораблем, погребая под собой все и вся.
Глава III. Два голосаБыл мрак, и было безмолвие. Проходили часы. Потом из мрака возник голос.
– Таков конец Ноттингхиллской империи, – громко произнес он. – В крови она зародилась – в крови погибла. Ибо все сущее одинаково.
И снова было безмолвие, и снова был голос, но теперь он звучал иначе. Казалось, это был другой голос.
– Если все сущее одинаково, то это потому, что все сущее героично. Если все сущее одинаково, то это потому, что все сущее ново. Каждому человеку дана только одна душа, и каждой душе дана только одна беспредельно малая власть – власть в предопределенный час вырваться на волю и взлететь к звездам. Все, что заставляет человека чувствовать себя старым, – низко, будь то империя или портновская лавка. Все, что заставляет человека чувствовать себя юным, – велико, будь то великая война или любовное увлечение.
В самой темной из книг жизни есть закон, есть истина, она же загадка. От новшеств люди устают – от новых фасонов, от новых законов, от усовершенствований, от перемен. Только старина потрясает и дурманит. Только в старине юность. Нет такого скептика, который не сомневался бы в том же самом, в чем до него сомневались сотни людей. Нет такого взбалмошного богача, который не чувствовал бы, что все его новшества стары, как мир. Нет такого любителя новизны, который не чувствовал бы на своих плечах все бремя мировой усталости. Но нам – нам, воскрешающим старину, – природа даровала вечное детство. Разве поверит влюбленный, что в мире до него уже была любовь? Разве поверит мать, кормящая ребенка, что в мире до нее уже были дети? Разве могут люди, сражающиеся за свой город, ощутить на себе бремя всех империй, поверженных во прах? Да, темный голос, мир всегда одинаков, ибо он всегда неожидан!
Легкий ветерок пронесся в ночи, и первый голос ответил:
– Но в мире есть люди – мудрецы или безумцы, – которых не потрясает и не дурманит ничто. В мире есть люди, для которых все ваши боренья – жужжанье назойливых мух. Пусть весь мир смеется над вашим Ноттинг-Хиллом и восторженно изучает Афины и Иерусалим – они знают, что Афины и Иерусалим были такими же глупыми пригородами, как Ноттинг-Хилл. Они знают, что вся земля – пригород, и единственное, что они чувствуют, расхаживая по ней, это – смутное, грустное удовольствие.
– Они философы либо дураки, – ответил второй голос. – Они не люди. Повторяю, люди живут, из поколения в поколение наслаждаясь тем, что превыше всяческого прогресса, – сознанием, что с каждым младенцем в мире возникают новое солнце и новая луна. Если бы ваше древнее человечество было одним-единственным человеком, человек этот, вероятно, сломился бы под грузом воспоминаний о всех подвигах и доблестях Земли. Груда различнейших проявлений героизма раздавила бы его, доброта и самоотверженность человечества сковали бы его ужасом. Но природе угодно было обособить каждую отдельную душу, чтобы она познавала все прочие души только понаслышке и чтобы все счастье и вся благость мира нисходили на нее, как молния, – мгновенной, чистой, нечаянной, ослепительной вспышкой. И бремя ошибок и падений, тяготеющее на всех сынах Земли, тревожит их не более, чем неизбежные могильные черви тревожат детей, играющих на лужайке. Ноттинг-Хилл пал. Ноттинг-Хилл умер. Но нет в этом трагедии. Ноттинг-Хилл жил!
– Но если всеми этими усилиями достигается только пошлое животное довольство – ради чего же люди так мучительно борются, так безропотно умирают? Что сделал Ноттинг-Хилл такого, чего несколько тупых фермеров или племя дикарей не сделали бы без него? Что было бы с Ноттинг-Хиллом, если бы мир был не таким, какой он есть, – важный вопрос; но есть вопрос еще важнее. Что было бы с миром, если бы Ноттинг-Хилла не существовало вовсе?
Второй голос ответил:
– То же самое, что было бы с миром и со всеми звездными системами, если бы яблоня принесла шесть яблок вместо семи. Что-то было бы навеки потеряно для мира. В мире никогда, до скончания веков, не будет ничего вполне тождественного ему. Я верю в то, что небо любило его, как любит оно все, что довлеет себе, все, что незаменимо. Но даже и это для меня неважно. Если бы бог со всеми своими громами и молниями ненавидел Ноттинг-Хилл, я все равно любил бы его.
Голос замолк, и из мрака поднялся странный высокий силуэт.
После долгого молчания заговорил другой голос – он звучал как-то хрипло.
– Но допустите, что вся эта история была фарсом. Допустите, что в то время, как вы ломали себе голову над смыслом происходящего, смысл его был уже ясен. Допустите, что все это было издевательством, допустите, что все это было безумием. Допустите…
– Я прошел сквозь это, – ответил странный высокий силуэт, – и я знаю, что там не было ни издевательства, ни безумия.
Вторая, маленькая, фигура закопошилась по земле.
– Допустите, что я бог, – произнес первый голос, – и допустите, что я от нечего делать создал мир. Допустите, что звезды, которые вы считаете вечными, в сущности не что иное, как идиотский фейерверк неугомонного школяра. Допустите, что солнце и луна, которых вы воспеваете, в сущности не что иное, как немигающие глаза злобного великана, отверстые в вечной усмешке. Допустите, что деревья не более, как огромные, дурацкие мухоморы. Допустите, что для меня Сократ и Карл Великий – глупые твари, разгуливающие на задних ногах только для того, чтобы казаться смешнее. Допустите, что я бог и, создав мир, смеюсь над ним.
– И допустите, что я человек, – ответил второй. – И допустите, что я дам вам ответ, перед которым окажется бессильным даже смех. Допустите, что я не отвечу вам глумлением, что я не оскорблю, не прокляну вас. Допустите, что я, стоя под этим самым небом, всеми фибрами моего существа, всем своим разумением, благодарю вас за шутовской рай, который вы создали. Допустите, что в мучительном экстазе я восхваляю вас за шутку, которая дала мне такую страшную радость. Если мы придали ребяческой игре значимость крестового похода, если мы напоили ваши нелепые городские сады кровью мучеников, – мы тем самым превратили детскую в храм. Во имя неба, я спрашиваю вас – кто же из нас победил?
Небо надвинулось на гребни холмов, и черные деревья начали мало-помалу сереть – близилась заря. Маленькая фигурка, казалось, подползла к большой. В голосе ее зазвучали более теплые нотки.
– Но допустите, друг, что все это было издевательством в самом горьком, в самом голом смысле. Допустите, что с самого начала этих великих войн существовал человек, который следил за ними с невыразимым, неописуемым чувством – чувством оторванности, ответственности, иронии, агонии. Допустите, что был человек, который знал, что все это шутка.
– Он не мог этого знать, – ответил высокий силуэт. – Ибо не все было шуткой.
Порыв ветра смел облака, плывшие по небу, и обнажил узкую полоску утреннего серебра. Маленькая фигурка подползла еще ближе.
– Адам Вэйн, – произнесла она, – есть люди, которые каются только in articulo mortis, есть люди, которые хулят себя только, когда они никому уже больше не могут помочь. Я – один из этих людей. Здесь, на этом поле, где весь ваш замысел захлебнулся в крови, я открыто скажу вам то, чего вы никогда не могли понять. Вы знаете, кто я?
– Я знаю вас, Оберон Квин, – ответил высокий силуэт, – и я буду рад снять с вашей души любую тяжесть, которая давит ее.
– Адам Вэйн, – произнес первый голос, – едва ли вы будете рады снять с моей души ту тяжесть, о которой я расскажу вам. Вэйн, все это было шуткой! Когда я создавал эти города, я относился к ним не более серьезно, чем к какому-нибудь кентавру, тритону, рыбе с ногами, свинье, покрытой перьями, и прочей неправдоподобной чепухе. Когда я торжественным и проникновенным тоном говорил вам о знамени вашей вольности и о святости вашего города, я издевался над порядочным, честным человеком. Двадцать лет разыгрывал я комедию! Быть может, никто не поверит мне, но клянусь вам, – я человек одновременно робкий и нежный. Никогда – ни в те дни, когда пламя вашего фанатизма только разгоралось, ни в те дни, когда вы были победителем, – я не решался сказать вам это. Я не решался нарушить потрясающий покой вашего лица. Один бог знает, почему я делаю это теперь, когда мой фарс разрешился трагедией и гибелью вашего народа! Но я должен сказать вам все. Вэйн, это была шутка!
Воцарилось молчание. Свежий ветерок снова пронесся по небу, открывая огромные поля серебряной зари.
Наконец Вэйн очень медленно промолвил:
– Итак, вы все это делали в шутку?
– Да, – коротко ответил Квин.
– Когда вас осенила идея о бейзуотерской армии, – дремотным голосом продолжал Вэйн, – и о знамени Ноттинг-Хилла, вам ни на одну минуту, ни на одну секунду не пришло в голову, что такие вещи могут быть напоены страстью и романтикой?
– Нет, – ответил Оберон, с великолепной, пасмурной искренностью обращая свое круглое белое лицо к заре, – не пришло.
Вэйн соскочил с пригорка, на котором он стоял, и простер к Оберону руки.
– Я не перестану благодарить вас, – сказал он голосом, в котором трепетала какая-то странная радость, – за все, что вы даровали миру. Минуту тому назад ваш голос казался мне голосом злого духа, осмеивающего все и вся, – и тем не менее я сказал вам, что я думаю о свершившемся. Меня и вас, Оберон Квин, – нас обоих бесчисленное количество раз называли помешанными. Мы и есть помешанные! Мы – помешанные, потому что мы не два человека, а один человек. Мы – помешанные, потому что мы две половинки одного и того же мозга – мозга, расколотого пополам. И если вы потребуете доказательства, мне нетрудно будет дать его вам. Дело не только в том, что вы, юморист, были лишены в те мрачные дни великой радости серьезного подхода к жизни. Дело не только в том, что мне, фанатику, пришлось расти, не зная юмора. Дело в том, что мы, казавшиеся такими противоположными друг другу, были взаимно противоположны, как мужчина и женщина, в определенный час стремящиеся к одной и той же жизненной цели. Вы и я – мы отец и мать Хартии городов.
Квин опустил голову и долго смотрел на истоптанные листья и ветки, тускло мерцавшие в первых лучах зари. Наконец он сказал:
– Ничто не может уничтожить нашу вражду. Как забыть, что я смеялся надо всем, чему вы молились?
Лучи солнца ударили в подъятое к небу лицо Вэйна. Что-то божественное засияло в нем.
– Я знаю вещь, которая уничтожит нашу вражду, – вещь, которая вне нас, вещь, о которой, быть может, и вы и я за всю нашу жизнь думали слишком мало. Простая бессмертная человеческая душа уничтожит нашу вражду, ибо человеческое существо не ведает вражды между смехом и уважением – человеческое существо, простой человек, которому все гении, как вы и я, должны поклоняться, как богу. В темные, тяжкие дни горя и бедствий человечество нуждается в вас и во мне – в чистом фанатике и в чистом сатирике. Мы вместе исцелили тяжелую болезнь человечества. Мы даровали современным городам ту поэзию, которая неизмеримо более свойственна им, чем самые будничные проявления городской жизни. Каждый, кто знает человечество, знает и это. В здоровом народе не может быть вражды между вами и мной. Мы с вами не более как две половинки мозга одного пахаря. Смех и любовь неразлучны. Соборы, воздвигнутые в те века, когда люди еще любили бога, украшены кощунственными гротесками. Мать вечно улыбается своему дитя-те, возлюбленный вечно улыбается своей возлюбленной, жена – мужу, друг – другу. Оберон Квин, слишком долго были мы разлучены: настал час воссоединения.
У вас – алебарда, у меня – меч, идемте же в мир – нам предстоят великие странствия! Ибо мы сущность мира. Идемте, уже день!
Залитый бледными лучами зари, Оберон мгновение колебался. Потом он поднял свою алебарду, салютуя Вэйну, и, взявшись за руки, они вступили в неведомый мир.