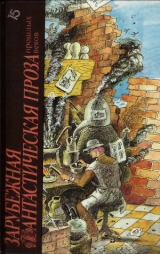
Текст книги "Зарубежная фантастическая проза прошлых веков (сборник)"
Автор книги: Гилберт Кийт Честертон
Соавторы: Томас Мор,Ирина Семибратова,Сирано Де Бержерак,Томмазо Кампанелла,Этьен Кабе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 43 страниц)
Гилберт ЧЕСТЕРТОН
Наполеон из Ноттинг-Хилла
Книга первая
Глава I. Вступительная заметка об искусстве прорицания
Человеческий род, к которому, несомненно, принадлежат некоторые из моих читателей, с момента своего возникновения увлекается детскими играми и будет, по-видимому, увлекаться ими до скончания веков. Одна из любимейших его игр называется «О завтра ни гугу», а в простонародье – «Натяни нос пророку». Заключается она в следующем. Играющие весьма внимательно и почтительно выслушивают все, что тот или иной мудрец имеет сообщить им относительно грядущих событий, потом терпеливо дожидаются его смерти и хоронят его по первому разряду. Затем все расходятся по домам и занимаются каждый своим делом. Вот и все. При всей своей несложности, игра эта пользуется большим успехом у народов с простыми вкусами.
Ибо люди суть дети – своенравные и упрямые, какими и полагается быть детям. С сотворения мира они ни разу не совершили ничего, что пророки и мудрецы считали неизбежным. Говорят, что в свое время они побивали ложных пророков камнями; но еще с большим правом могли бы они побить камнями пророков подлинных. Индивидуально каждый человек во всех своих действиях – сне, еде, размышлениях – руководствуется велениями разума. Но в целом человечество изменчиво, склонно к мистицизму, взбалмошно и в общем довольно симпатично. Люди суть люди, но Человек есть женщина.
В начале двадцатого столетия «натягивать нос пророку» стало значительно труднее. Объясняется это тем, что пророков к тому времени расплодилось такое множество, что среднему человеку положительно некуда было деться от их прозрений. Стоило кому-нибудь совершить самый невинный, самый непредвиденный поступок, не обусловленный ничьим влиянием, как его немедленно осеняла чудовищная мысль: не предсказано ли это уже кем-нибудь? Герцог, взбирающийся на фонарный столб, декан университета, напивающийся пьяным, – и тот не мог быть по-настоящему счастлив, ибо он не был уверен в том, что не выполняет задания какого-либо пророка. В начале двадцатого столетия по нашей планете шагу нельзя было сделать, чтобы не наступить на мудреца. Мудрецы были столь обычным явлением, что дураки ценились чуть ли не на вес золота – толпы народа ходили за ними по улицам, их баловали, холили, берегли как зеницу ока, назначали на высшие государственные посты…
А мудрецы тем временем наперебой занимались предсказаниями о грядущих событиях – замечательными предсказаниями, беспощадными, неопровержимыми, глубокими и абсолютно непохожими друг на друга. Старая, добрая игра в околпачиванье предков стала к тому времени почти немыслимой, ибо предки забыли о еде, сне, практической политике и дни и ночи напролет размышляли о том, как будут вести себя и чем заниматься их потомки.
Метод пророков двадцатого столетия заключался в нижеследующем. Они останавливались на каком-нибудь явлении, имевшем место в их эпоху, и говорили, что так оно будет продолжаться до тех пор, пока не случится что-либо из ряда вон выходящее. Иногда они присовокупляли, что где-то за тридевять земель это самое из ряда вон выходящее событие уже случилось и что это – знамение времени.
Так, например, некий м-р Джордж Г. Уэллс вместе со своими последователями утверждал, что о грядущем позаботится наука. Как автомобиль превосходит быстротой извозчика, говорил он, так же точно в будущем какая-нибудь милая штучка будет превосходить быстротой автомобиль и т. д. и т. д. Из пепла этой школы возник д-р Квилп, предсказывавший, что в скором времени люди изобретут чудесную машину, которая будет нестись вокруг света с такой скоростью, что сидящий в ней сумеет говорить длиннейшую, скучнейшую речь к жителям какой-нибудь заброшенной деревушки, произнося по слову в один оборот. Говорят, что опыт этот был проделан с неким престарелым майором, которого закрутили вокруг земного шара с такой быстротой, что обитатели соседней планеты увидели вокруг нашей планеты беспрерывную ленту из седых бакенбардов, багрового затылка и цветных брюк – нечто вроде кольца Сатурна.
Существовала также школа, диаметрально противоположная предыдущей. Один из представителей ее, м-р Эдвард Карпентер, утверждал, что в скором времени мы вернемся к матери-природе и будем вести простой, беззаботный, животный образ жизни. Вслед за Эдвардом Карпентером доктор богословия Джеймс Пикки заявил, что человечеству, на предмет улучшения породы, надлежит пастись на лугах и жевать пищу медленно и беспрерывно, на манер коров. Он утверждал, что ему удалось добиться блестящих результатов с целым рядом горожан, которых он заставил ползать на четвереньках по полю, засеянному телячьими котлетами.
Потом выступил Толстой, указывавший на то, что мир становится все гуманней и что тем самым недалеко время, когда люди будут чувствовать отвращение к какому бы то ни было убийству. А м-р Мик был не только вегетарианцем, но даже утверждал, что вегетарианство (или «пролитие крови немых тварей», как он называл его) есть занятие крайне предосудительное; тот же м-р Мик указывал, что в более светлые времена человечество будет питаться исключительно солью. А засим появился памфлет, озаглавленный «За что страдает соль?», и вызвал большой переполох.
Другие пророки предсказывали, что с течением времени узы родства, связующие отдельные нации, будут становиться все теснее и теснее. Один из них – м-р Сесил Родс – полагал, что в центре грядущих веков будет стоять Британская империя и что между подданным ее и прочими людьми, между китайцем из Гонконга[18]18
Британское владение в Китае в конце XIX – начале XX века. (Здесь и далее прим. переводчика.)
[Закрыть] и китайцем из Пекина, между испанцем из Гибралтара[19]19
Британское владение в Испании в конце XIX – начале XX века.
[Закрыть] и испанцем из Мадрида будет существовать бездонная пропасть – такая же, как между человеком и низшим животным. Пользуясь методом м-ра Родса, его необузданный друг д-р Цоппи (англосаксонский апостол Павел) дошел до логического конца и заявил, что в будущем под людоедством будет пониматься исключительно съедение британского подданного, но отнюдь не съедение представителя какой-либо вассальной нации. Ужас, испытываемый им при мысли о съедении гражданина Британской Гвианы, доказывал, как глубоко не правы были те, кто обвинял его в жестокосердии. Тем не менее занятая им позиция оказалась чревата тяжкими последствиями; говорят, что он решил произвести опыт над самим собой и, живя в Лондоне, употреблять в пищу исключительно итальянских шарманщиков. Конец его был ужасен, ибо как раз в то время, когда он приступил к своему опыту, сэр Поль Свиллер прочел в Королевском обществе длиннейший доклад, в котором доказывал, что дикари, поедающие своих врагов, правы не только по-человечески, но и с точки зрения морали и гигиены, так как, но его изысканиям, все качества съеденного врага передаются съевшему его. Сознание того, что задатки итальянского шарманщика непреодолимо развиваются и дают ростки внутри него, сломило бедного, доброго старика профессора, и он умер.
М-р Бенджамен Кид, со своей стороны, полагал, что отличительным качеством человечества будет обостренный интерес к будущему и глубочайшее проникновение в него. Эта его идея была блестяще развита Вильямом Боркером, написавшим известный каждому школьнику трактат о том, что в грядущие времена люди будут рыдать над могилами своих потомков, а туристов будут водить по полям сражений, имеющих состояться через несколько столетий.
Много толков вызвал м-р Стид, полагавший, что в двадцатом столетии Англия объединится с Америкой, а также и его юный ассистент Грэхэм Подж, включивший в Северо-Американские Соединенные Штаты Германию, Францию и Россию, причем по его схеме штат Россия сокращенно назывался Ра.
Подвизался на пророческом поприще также и некий Сидней Уэбб, предсказывавший чрезвычайное упорядочение и крайнюю аккуратность внешних форм жизни. Несчастный его друг Фиппс сошел на этой почве с ума и бегал по полям и лесам с топором, срубая ветви деревьев, казавшихся ему несимметричными.
Все эти мудрецы с большим или меньшим успехом предсказывали будущее, причем метод у всех их был совершенно одинаков: они просто выбирали какое-нибудь «интенсивное» (так они выражались) явление и утверждали, что оно будет развиваться до последних пределов человеческого воображения. «Когда мы входим в хлев, – писал знаменитый д-р Пеллкинс, – когда мы входим в хлев и видим, что один из населяющих его поросят превосходит размерами прочих, мы знаем, что по непреложному закону всевышнего он когда-нибудь превзойдет размерами слона. Когда мы гуляем по саду и видим, что цветущие в нем одуванчики с каждым днем становятся все пышней и выше, мы знаем, что когда-нибудь они, несмотря на все наши усилия, перерастут трубы наших домов и скроют их от человеческого взгляда. И точно так же мы знаем, что каждый фактор человеческой политики, в течение того или иного времени проявляющий повышенную деятельность, будет проявлять ее до тех пор, пока не заслонит собою небо».
И в конце концов оказалось, что пророки поставили средних людей (играющих в «Натяни нос пророку») в чрезвычайно затруднительное и не имевшее прецедентов положение. Повторяем – почти немыслимо было совершить какой-нибудь поступок, чтобы не выполнить при этом чьего-либо предсказания.
И тем не менее в глазах рабочих на заводах, крестьян на полях, моряков, детей и в особенности женщин мерцал какой-то странный огонек, который не давал мудрецам покоя. Они никак не могли понять, что значит этот огонек. А между тем рабочие, крестьяне, моряки, дети и женщины смеялись в кулак: они играли в «Натяни нос пророку».
А мудрецы неистовствовали, мудрецы метались по городу и кричали: «Что же будет? Что же будет? Как будет выглядеть Лондон через сто лет? Неужели мы что-нибудь упустили из виду?.. Дома вниз головой – может быть, это более гигиенично? Люди, ходящие на руках, – может быть, это способствует гибкости ног? Луна… автомобили… безголовые люди…»
И так они метались и томились, пока не умирали; играющие хоронили их по первому разряду, а засим расходились по домам и принимались каждый за свое дело. Пора открыть вам жуткую истину: люди двадцатого века натянули пророкам нос. К тому моменту, когда над моей повестью взвивается занавес – то есть ровно через восемьдесят лет – Лондон будет выглядеть почти так же, как он выглядит сегодня.
Глава II. Человек в зеленомНемного слов понадобится для того, чтобы объяснить, почему Лондон через восемьдесят лет будет выглядеть почти так же, как он выглядит сегодня, или же – поскольку мне, как истому летописцу, придется прибегать к прошедшему времени – почему Лондон через восемьдесят лет выглядел почти так же, как в те счастливые дни, когда я еще был жив.
Ответ укладывается в одну фразу.
Народ окончательно разуверился в революции. Всякая революция проникнута доктринерством – будь то революция французская или та, что предшествовала водворению христианства. Всякому здравомыслящему человеку ясно, что отказаться от старых истин, понятий и привычек можно только, уверовав в истины новые – истины положительные и божественные. И вот Англия за текущее столетие перестала верить в возможность такой переоценки. Она уверовала в понятие, именуемое эволюцией, и сказала себе:
«Все теоретические перевороты захлебнулись в крови и скуке. Если уж меняться, то меняться медленно, наверняка, как меняются животные. Единственные успешные революции – это революции естественные. В свое время ни один голос не поднялся в защиту хвостов, когда человечество отказывалось от этого пережитка седой древности».
И кое-что изменилось. Изменились те вещи, эволюция которых не бросалась в глаза. То, что случалось не часто, перестало случаться вовсе. Так, например, физическая сила, диктовавшая стране свои законы, – армия и полиция – постепенно таяла, пока не исчезла почти совсем. При желании народ мог бы в десять минут стереть с лица земли уцелевших полицейских; если он не делал этого, то только потому, что он не верил в целесообразность подобной меры. Он разуверился в революции.
Демократия вымерла; ибо никто не считал правящий класс правящим. Англия фактически превратилась в деспотию – но деспотия эта не была наследственной. Королем назначался какой-либо представитель чиновничества. Никто не интересовался – как; никто не интересовался – кто. Король был всеобщим секретарем и ничем больше.
Благодаря всему этому в Лондоне раз навсегда воцарились мир и тишина. Та бессознательная, несколько рабская приверженность к безбурности и рутине, которой лондонцы отличались всегда, теперь стала коренным их свойством. И действительно, с какой стати было им делать сегодня не то же самое, что они делали вчера?
И если в одно зимнее облачное утро три молодых человека, служивших в одном и том же государственном учреждении, вместе шли на службу, то вы можете быть уверены, что точно так же шли они туда вчера, и позавчера, и третьего дня.
В ту эпоху весь строй жизни подвергся механизации. В особенности же механизировались правительственные чиновники, ставшие необыкновенно аккуратными. Наши три молодых человека как раз были чиновниками и постоянно ходили на службу вместе. Их знал весь околоток: двое из них были высокого роста, а третий – низкого. Сегодня низенький чиновник вышел из дому несколько позднее обыкновенного. Его приятели ушли вперед, но ему ничего не стоило догнать их. Он мог бы окликнуть их. Но он этого не сделал.
По какой-то причине, которая, по-видимому, останется невыясненной до Судного дня (если день этот вообще когда-нибудь настанет), он не догнал своих приятелей, а предпочел идти за ними следом. Стоял мрачный день; мрачно было их платье; мрачно было все кругом. И все же, влекомый странным каким-то импульсом, он неотступно следовал за двумя коллегами, не окликая их и пристально всматриваясь в их спины.
Есть в Книге жизни таинственный закон. Девятьсот девяносто девять раз, гласит он, можешь ты совершенно безбоязненно смотреть на какую-нибудь вещь; но взгляни на нее в тысячный раз – и пред тобой встанет грозная опасность увидеть ее впервые.
Низкий чиновник не отрываясь смотрел на фалды сюртуков высоких чиновников и – из улицы в улицу, из квартала в квартал – видел перед собою одни фалды, фалды, фалды. И вдруг – он понятия не имел, как и почему, – случилось нечто неожиданное.
Два черных дракона шли перед ним по улице. Два черных дракона смотрели на него недобрыми очами. Они шли задом наперед и смотрели на него в упор, не отрываясь. Глаза их на самом деле были не чем иным, как двумя парами сюртучных пуговиц; но какая-то смутная догадка о ненужности пуговиц на талии сюртука придавала их взгляду сумасшедшую выпуклость. Разрез между полами был носом чудовища; а когда полы колыхались по ветру, драконы облизывали пасти. То был мгновенный каприз воображения, но низенький чиновник навеки запечатлел его в своей душе. С тех пор все люди в сюртуках казались ему драконами, идущими задом наперед. Впоследствии он в весьма изысканных и тактичных выражениях сообщил двум своим коллегам, что он с некоторого времени не может представить себе их лица иначе, как в виде двух хвостов – хвостов, что и говорить, необыкновенно красивых и взнесенных высоко в воздух. Но если, говорил он, кто-либо из друзей пожелал бы увидеть подлинное лицо их души, ему следовало бы со всяческим почтением зайти им в тыл и посмотреть на них сзади. Два черных дракона со слепыми глазами представились бы ему тогда.
Два черных дракона, вынырнувших из тумана и ринувшихся на низенького чиновника, в первый момент произвели на него впечатление чуда – они перевернули его мир. Он установил факт, известный всем романтикам, – он узнал, что все необычайное случается исключительно в пасмурные дни, а никак не в солнечные. Натягиваясь до последнего предела, струна монотонности лопается со звуком, подобным песне. До того дня он никогда не обращал внимания на погоду; теперь же под пристальным взглядом двух пар мертвых глаз он осмотрелся и воспринял странный, мертвый день.
Было мертвенное, пасмурное утро; тумана не было, но зато над городом висела какая-то снеговая (а может быть, облачная) пелена, создававшая впечатление зеленовато-медных сумерек. Свет в такие дни кажется не столько сиянием ясных небес, сколько фосфорическим мерцанием проплывающих силуэтов. Свинцовые облака на свинцовом небе кажутся свинцовой поверхностью воды, и люди движутся в колодцах улиц, словно странные рыбы по дну океана. В такие дни весь Лондон кажется подводным царством. Автомобили и люди напоминают морских чудовищ с пламенными глазами. В первый момент наш чиновник был потрясен видом двух драконов. Теперь же он понял, что находится на дне подводного царства, в котором этих драконов было великое множество.
Два молодых человека, шедших впереди него, были, как и он сам, прекрасно одеты. Линии их сюртуков и цилиндров отличались той изысканной строгостью, которая, несмотря на всю пошлость современного костюма, делает его излюбленной темой художников. В них было то, что Макс Бирбом блестяще определяет как «созвучность темного костюма с жесткой непогрешимостью крахмального белья».
Их движения напоминали движение двух покорных улиток; они изредка обменивались замечаниями – по штуке на каждые шесть фонарей.
Они проходили мимо фонарей. Но было в их походке и во всех их жестах нечто до такой степени застывшее, что человек с воображением сказал бы: фонари проходили мимо них, как во сне.
И вдруг низенький чиновник догнал их и сказал:
– Я хочу остричь волосы. Есть тут поблизости приличная парикмахерская? Я все стригу и стригу волосы, а они все растут и растут.
Один из высоких молодых людей посмотрел на него с видом уязвленного естествоиспытателя, но ничего не сказал.
– Ах, вот как раз то, что мне нужно! – с какой-то идиотской резвостью воскликнул низенький чиновник. И действительно, из молочной пелены внезапно вынырнула крикливая витрина фешенебельной парикмахерской, – Представьте себе, гуляя по Лондону, я сплошь и рядом натыкаюсь на парикмахерские! Сегодня я позавтракаю с вами у Чикконани. Знаете, я положительно влюблен в парикмахерские. Они в тысячу раз приличнее этих противных мясных.
И он вошел в парикмахерскую.
Один из собеседников – стройный господин по имени Джеймс Баркер – вскинул монокль и посмотрел ему вслед.
– Какая муха укусила его? – спросил он своего спутника, бледного юношу с большим носом.
После нескольких минут сосредоточенного молчания бледный юноша ответил:
– Должно быть, нянька в детстве уронила…
– Не думаю, – ответил м-р Джеймс Баркер. – Знаете, Лэмберт, иногда мне кажется, что он нечто вроде артиста.
– Вздор! – отрезал м-р Лэмберт.
– Должен признаться, я по сей день не раскусил его, – рассеянно молвил м-р Баркер. – Стоит ему раскрыть рот, как он начинает нести такую неописуемую чепуху, что прямо-таки уши вянут. И еще одна есть в нем смешная черта. Известно ли вам, что он обладатель лучшей во всей Европе коллекции японских безделушек? Видели вы когда-нибудь его книги? Сплошь греческие поэты, средневековые французы и прочее подобное. А на дому вы у него бывали? Такое чувство, словно вы находитесь внутри аметиста. А сам он расхаживает посреди всего этого сумбура и болтает без конца, точно… точно морковка!
– Будь прокляты все книги! И ваши синие книги тоже! – с дружеской непосредственностью сказал м-р Лэмберт. – А впрочем, вам-то как раз следовало бы понимать его. Что он такое, по-вашему?
– Он вне моего понимания, – ответил Баркер. – Если бы вы спросили меня, какого я о нем мнения, я сказал бы, что он неравнодушен ко всему нелепому, – что он, как говорится, «художественная натура» и всякая такая вещь. В одном я твердо уверен: он за свою жизнь наболтал столько вздору, что сам сбился с толку и перестал ощущать разницу между здравым смыслом и сумасшествием. Его дух как бы совершил кругосветное путешествие и остановился на той точке, где запад совпадает с востоком, а максимальная глупость – с глубочайшей мудростью. Впрочем, мне очень трудно объяснить вам эту психологическую игру.
– И не старайтесь, я все равно не пойму ее, – откровенно ответил м-р Лэмберт.
По мере того как они шли по бесконечным улицам, медный сумрак постепенно светлел, переходя в бледно-палевое сияние. Когда же они добрались до ресторана, он окончательно уступил место обыкновенному зимнему деньку. Достопочтенный Джеймс Баркер, один из наиболее влиятельных чиновников Англии, был стройный, элегантный мужчина с красивым открытым лицом и холодными голубыми глазами. Он был весьма способным человеком, одним из тех одаренных людей, которые всю свою жизнь поднимаются по служебной лестнице и умирают, достигши высших чинов и знаков отличия, но за всю свою жизнь не согрев и не порадовав ни одной человеческой души. Вилфрид Лэмберт, юноша с большим носом, который, казалось, существовал за счет всего остального его лица, также сделал весьма немного для просвещения человечества; но ему это было простительно, потому что он был дурак.
Лэмберт был, что называется, глуп; Баркер, при всем его уме, – туп. Но глупость первого и тупость второго были детской шуткой рядом с чудовищными, мифическими сокровищами безумия, сосредоточенного в щуплой фигурке, поджидавшей их у ресторана Чикконани. Маленький человек, которого звали Оберон Квин, выглядел чем-то средним между младенцем и совой. Его круглая голова и круглые глаза, казалось, были созданы насмешницей-природой при помощи циркуля. Гладкие темные волосы и непомерно длинный сюртук придавали ему сходство с детской куклой. Люди, не знавшие его лично, при встрече с ним нередко изъявляли желание усадить его к себе на колени и замечали свою ошибку только, когда он начинал говорить, ибо для ребенка он был недостаточно интеллигентен.
– А я жду вас уже очень давно, – мягко сказал он. – Ужасно смешно было увидеть вас в конце концов.
– Что тут смешного? – удивился Лэмберт. – Мы ведь условились встретиться.
– Моя мама очень часто назначала свидания разным людям, – сказал Квин.
Трое приятелей уже собирались было войти в ресторан, как вдруг их внимание привлек какой-то странный шум в конце улицы. Еще дул холодный ветер, но погода уже прояснилась окончательно; по темно-бурым торцам мостовой, между темно-серыми уступами домов, двигалось существо, какого в те годы нельзя было найти во всей Англии, – человек в ярком платье. Небольшая толпа зевак шла за ним по пятам.
Это был высокий, статный мужчина в ярко-зеленом военном мундире с множеством серебряных жгутов и выпушек. С плеч его свисала короткая зеленая же накидка, опушенная мехом и подбитая пурпурным шелком – нечто вроде гусарского ментика. Множество медалей сверкало на груди незнакомца; вокруг шеи его вилась красная лента какого-то иностранного ордена; длинная, прямая сабля в сверкающих ножнах волочилась за ним, громыхая по мостовой. В те годы Европа шагнула в смысле мирного развития так далеко, что все подобного рода пережитки варварских времен были сданы в музей. Единственная уцелевшая военная сила – немногочисленная, но великолепно вымуштрованная полиция – была одета в темные гигиенические куртки. Тем не менее старожилы, помнившие последних лейб-гвардейцев и улан, которые исчезли в 1912 году, с первого взгляда сказали бы, что наряд незнакомца не имел ничего общего с обмундированием английской армии. Что он был представителем какого-то иностранного государства, подтверждалось также и его смуглым орлиным лицом. Голова его, напоминавшая бронзовую голову Данте, гордо вздымалась над зеленым воротником мундира; седые кудри венчали ее. Она дышала мужеством и благородством; в ней не было ничего английского.
Трудно выразить человеческим языком то изумительное достоинство, с которым зеленый человек шествовал «по улице. Какое-то врожденное величие, сочетавшееся с простотой, что-то неуловимое в посадке головы и в поступи заставляли будничных прохожих оборачиваться и провожать его взглядом; и в то же время во всем, что он делал, не было ничего сознательно подчеркнутого. В его движениях сквозило какое-то беспокойство, какая-то напряженность; но то была напряженность деспота, беспокойство божества, обремененного тягчайшей ответственностью. Преследовавшие его зеваки шли за ним из-за его ослепительного мундира – иными словами, они руководствовались тем инстинктом, который всех нас заставляет следовать за любым человеком, похожим на сумасшедшего, но еще в большой степени – за любым человеком, похожим на царя.
Внезапно напряженная гримаса почему-то сбежала с его лица и уступила место выражению полного довольства. Сопровождаемый жадными взглядами уличных зевак, великолепный зеленый джентльмен свернул с мостовой на тротуар и остановился перед огромным плакатом
«Горчицы Колмэна», прибитым к деревянному забору. Зрители затаили дыхание.
Он сунул руку в карман мундира, извлек оттуда маленький перочинный ножик, раскрыл его и сделал надрез на прибитой к забору бумаге: потом с помощью пальцев оторвал от рекламы неровную полосу желтой бумаги, а засим в первый раз за все время повернулся к восхищенным зрителям.
– Не найдется ли у кого-нибудь булавки? – сказал он с приятным иностранным акцентом.
М-р Лэмберт, стоявший поблизости, немедленно протянул ему одну из бесчисленных своих булавок, которыми он заменял оторванные пуговицы сюртука. Незнакомец отвесил экстравагантный, но полный достоинства поклон и рассыпался в преувеличенных благодарностях.
Затем он с чрезвычайно довольным и даже гордым видом приколол кусок желтой бумаги к серебряным жгутам, украшавшим его грудь, но через секунду на лице его вновь появилось беспокойное, напряженное выражение.
– Чем еще могу служить вам, сэр? – спросил Лэмберт с нелепой вежливостью, всегда проявляемой англичанами в минуту смущения.
– Красного… – нерешительно сказал незнакомец, – красного…
– Простите?
– Простите и вы меня, сеньор, – кланяясь, ответил незнакомец. – Нет ли у вас чего-нибудь красного?
– Красного?.. Право же… кажется, нет… когда-то я носил красный шарф, но…
– Баркер, – внезапно сказал Оберон Квин, – где ваш красный какаду? Где ваш какаду?
– Что вы хотите сказать? – в ужасе воскликнул Баркер, – Какой какаду? Когда вы видели у меня какаду?
– Я знаю, что у вас его не было, – смягчившись, ответил Оберон, – Где же он был все время?
Баркер не без раздражения повернулся к незнакомцу.
– Мне очень жаль, сэр, – сказал он кратко, но вежливо. – Я боюсь, что никто из нас не сумеет удовлетворить вашу просьбу. Но к чему вам, смею спросить…
– Благодарю вас, сеньор, это ничего не значит. Я сумею обойтись и собственными средствами.
С этими словами он вонзил лезвие перочинного ножа в ладонь левой руки. Кровь брызнула фонтаном и обагрила мостовую. Незнакомец извлек носовой платок, зубами оторвал от него полосу и омочил последнюю в крови.
– Если уж вы так великодушны, сеньор, – сказал он, – не откажите одолжить мне еще одну булавку.
Лэмберт протянул ему булавку, выпучив глаза, словно лягушка.
Укрепив красную тряпку рядом с желтой, незнакомец снял шляпу.
– Покорнейше, благодарю вас, джентльмены, – сказал он и, обмотав окровавленную руку остатками платка, с ошеломляющим величием двинулся дальше.
Смущенная всем виденным толпа не двигалась. Но маленький м-р Квин сорвался с места, помчался за незнакомцем и, сняв шляпу, остановил его. Ко всеобщему изумлению он заговорил с незнакомцем на чистейшем испанском языке.
– Сеньор, – сказал он, – простите мне, что я навязываю свое гостеприимство человеку, который кажется мне высокопоставленным, но – увы! – одиноким гостем в Лондоне. Окажите мне и моим друзьям, с которыми вы только что изволили беседовать, честь позавтракать с нами в ресторане.
Человек в зеленом мундире вспыхнул от удовольствия при звуках родного языка и принял приглашение с великим множеством поклонов, свойственных южным расам и опровергающих утверждение, будто церемонность не имеет ничего общего с подлинными чувствами человека.
– Сеньор, – сказал он, – вы говорите на моем родном языке. Но при всей любви к родине я не могу не позавидовать стране, называющей своим сыном столь безукоризненного рыцаря. Да позволено мне будет сказать: язык испанский, но сердце английское.
И он вместе со всеми вошел в ресторан.
– Я надеюсь, – внешне сдержанно, но внутренне сгорая от любопытства, сказал Баркер, когда им подали рыбу, – я надеюсь, вы не сочтете невежливым с моей стороны, если я спрошу вас, зачем вы это делаете.
– Что именно, сеньор? – спросил незнакомец. Он говорил по-английски вполне свободно, но с каким-то неуловимым американским акцентом.
– Гм, – несколько смутившись, молвил Баркер, – ну, да этот самый клочок желтой бумаги… и… э… перочинный ножик… и…
Сказать вам это – значит назвать мое имя, – с какой-то грустной гордостью ответствовал незнакомец. – Я Хуан дель Фуего, президент Никарагуа.
С этими словами незнакомец откинулся на спинку кресла и осушил свою рюмку шерри с таким видом, словно для него лично подобное объяснение было вполне исчерпывающе. Лицо Баркера, однако, нисколько не прояснилось.
– А желтая бумажка, – робко и вкрадчиво начал он, – и красная тряпка…
– Желтая бумажка и красная тряпка, – с неожиданным величием ответил Фуего, – суть национальные цвета Никарагуа.
– Но Никарагуа… – неуверенно сказал Баркер, – Никарагуа больше не…
– Никарагуа завоеван, подобно Афинам! Никарагуа пал, подобно Иерусалиму! – страстно воскликнул старик. – Янки и немцы – жестокие диктаторы современности– растоптали Никарагуа своими бычьими копытами. Но Никарагуа не умер! Никарагуа – идея!
– Блестящая идея, – робко подтвердил Оберон Квин.
– Да, – подхватил чужеземец. – Вы правы, великодушный англичанин. Блестящая идея, пламенная мысль! Сеньор, вы спросили меня, почему я, горя желанием увидеть цвета моей родины, оторвал кусок желтой бумаги и пролил свою кровь. Неужели вы не понимаете древней святости цветов? Символические цвета есть и у церкви. Подумайте о том, что значат для нас цвета, подумайте о человеке в моем положении, во всем мире не знающем и не видящем ничего, кроме этих двух цветов – красного и желтого! Я не интересуюсь формой, я не разбираю, что плохо и что хорошо, для меня все – все равно! Но там, где поле, поросшее куриной слепотой, и красная накидка какой-нибудь старухи, – там Никарагуа. Там, где красные маки и желтая куча песка, – там Никарагуа. Там, где лимон и пурпурный закат, там – Никарагуа. Там, где я вижу красный почтовый ящик и желтый закат, там бьется мое сердце. Кровь и пятно горчицы – моя геральдика. Желтый навоз и красный навоз в выгребной яме мне милее, чем все звезды вселенной.
– И если к завтраку может быть подано желтое вино и красное вино, вы не должны удовлетворяться одной вишневой наливкой! – восторженно воскликнул Квин. – Позвольте мне заказать бургундское и воссоздать в вашем чреве герб Никарагуа.








