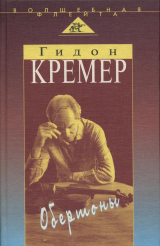
Текст книги "Обертоны"
Автор книги: Гидон Кремер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
памятник стремлению к идеалу, – всякому стремлению. Возвращаясь к Вале, его сочинениям и их особой
ностальгии по существующему и несуществующему, нельзя забывать: эта музыка написана человеком, 225
который был как бы рядом с ужасом Чернобыля, но все же остался верен Киеву. Однажды Сильвестрова на
пресс-конференции в Москве спросили, в каком городе Германии он живет; Валентин ответил: «Не
хороните меня, я еще даже не уехал». Это было намеком на то, что многие из его собратьев-композиторов
уже переселились на Запад: Шнитке и Губайдулина – в Германию, Канчели в Бельгию, Денисов – в
Париж.
Я далек от намерения записать город Киев в Лигу Б. Жизнь все же не футбол. Замкнутость имеет не только
отрицательные, но и положительные стороны. Конечно, просто отгородиться, варясь в собственном соку —
это ли не повод для критики. И все же именно в ограничении есть некая свобода, непосредственность, страстная потребность в высказывании, духовный смысл которого остается непонятым в суете
повседневности. Все мы быстрее постигаем суть вещей, находясь в замкнутом пространстве.
«Постскриптум» и «Посвящение», – названия двух записанных мною произведений, – понятия
противоположные. Посвящение обычно стоит в начале, постскриптум в конце. У Вали первое – большое
симфоническое сочинение, второе – его отзвук, как бы второй эпилог В Сонате «Постскриптум» —
продолжение найденной тишины «Посвящения».
В каком-то смысле оба сочинения – музыка конца нашего столетия, Fin de siècle. Но и его начала. Можно
сказать и по другому: это – музыка века, посвящение тем звукам, которыми век начинался, но и тем, каковыми он завершается. Поиск тех со-226
звучий, тех звуковых мостов, которые связывают начало и конец.
Нет у меня чувства, что «Посвящение» – приветствие наступающего столетия. Я бы так скорее сказал о
сочинении Луиджи Ноно, создававшего некий мир тишины, проникающий в XXI век. Сильвестров же
скорее поклоняется (и безусловно искренне) перед Густавом Малером; это – выражение пиетета перед
духовными далями нашего столетия. Сочинение Сильвестрова воспринимается как очень личное признание
композитора, блуждающего в поисках утраченного времени. Сильвестров, подобно Андрею Тарковскому в
«Сталкере», мучительно ищет следы того, что еще осталось неповрежденным. На зтом пути композитор и
его исполнитель идут рядом, рука об руку, – в эпоху бесчисленных драм, свидетелями которых мы стали.
Страсти по танго
Когда я впервые услышал, как играет Астор Пиаццолла, я был сразу покорен. Это была видеозапись, – я
увидел ее на WDR, у Манфреда Гретера, моего близкого друга; он был первый, кто познакомил меня с
музыкой Пиаццоллы и его игрой. Путешествуя с концертами по Европе, я не упускал ни одной возможности
заехать в Кёльн, чтобы посидеть с Манфредом в темной проекционной и полюбоваться сокровищами его
видеотеки.
Манфред обладал особенным вкусом и особым чутьем, позволявшим оценивать людей. Он был страстным
почитателем таких художников, как Артуро Бенедетти Микеланджели, Линдсей Кемп и – Астор
Пиаццолла. Почувствовав, что эта музыка задела меня за живое, он тут же вызвался организовать нашу
встречу. Чуть позже меня настигло печальное известие о кончине Манфреда Гретера. Сегодня уже нет в
живых и Пиаццоллы... В душе моей
228
осталось (и этому мне хочется воздать должное) воспоминание о музыке Астора и о старой дружбе с
Манфредом.
Среди современников Астор Пиаццолла – композитор, исполнявший собственную музыку – остается
редким исключением. Просмотренная видеозапись, а впоследствии услышанный мной его концерт в Париже
с удивительной певицей Мильвой заставили меня почувствовать полную энергии атмосферу, – почти что
невероятную силу, которой современные композиторы нечасто одарены. Для XIX века обстоятельство, что
автор музыки был также ее исполнителем, – привычно. Сегодня лишь немногим композиторам-исполнителям, с которыми мне приходилось сотрудничать, удается вызывать у слушателей не только
поверхностное удовлетворение, но и по-настоящему глубокие переживания. Одним из них был Леонард
Бернстайн, композитор и дирижер в одном лице. Тот, кто вступал в это энергетическое поле, никогда его не
забудет. Чувствуешь себя как бы заряженным и способным на действия, о которых прежде ты не решился
бы даже подумать. С Астором я никогда не был так внутренне связан, как с Ленни. Но даже на расстоянии я
чувствовал его силу. Сегодня, играя музыку Пиаццоллы, я стремлюсь проникнуться его духом, создать как
бы единое целое с композитором. При этом соединяются вместе два совершенно различных менталитета, два противоположных темперамента. Сегодня мне хорошо известны все его записи, – они в высшей
степени замечательны. Не-
229
вольно вступаешь в нечто вроде соревнования с ним самим. С Моцартом, Шубертом или Чайковским это
невозможно, – никто не знает, как они играли. История легендарной фигуры, такой как Никколо Паганини, дошла до нас, потому что почти двести лет исполнители неустанно подражали его искусству. И все равно
никто не знает, как в самом деле звучала его игра.
С Астором все иначе. Мы можем услышать его записи, убедиться в том, каких фантастических музыкантов
– в том числе и невероятно сильных скрипачей Антонио Агри и Фернандо Суареза Паса – ему удавалось
собрать. Вторгаться в мир Астора, не будучи с ним лично знакомым, по-своему – вызов, рискованное
предприятие. Да и мое балтийское происхождение вроде бы должно скорее стоять на пути менталитета
южных широт. (С тех пор, как Латвия снова независима, я могу с гордостью называть своей родиной ее, а не
Советский Союз. Но кому в Риге было дело до аргентинского танго?) И все же, хотя я всегда чувствовал
себя дома скорее в северных широтах, любопытство к иному, к противоположному было другой константой.
Полушария не так уж отличаются друг от друга, просто мы переживаем зиму и лето в разное время года.
Поездив по южной Аргентине, Патагонии и Огненной земле, я обнаружил, сколько красоты скрывается в
южной части мира, с юности знакомой лишь по Жюль Верну, как прекрасны ее масштаб, ее краски, ее
характер. По своей строгой простоте она не так уж отличается от северной. Земля круглая, да и танго звучит
повсюду. Танго, как очаг
230
страсти. Может быть, и в моих генах живет частичка его.
Традиция танго существовала перед Второй мировой войной. Я не русский и за русского себя не выдаю, но
у меня теснейшая связь с русской культурой – хотя бы потому, что я прожил пятнадцать лет в Москве и
(как недавно установил) уже в 1977 году с воодушевлением сыграл свое первое танго в «Concerto grosso I»
Альфреда Шнитке. Вероятно, есть в самом танго нечто такое, из-за чего эта музыка всегда была популярна и
в России. Сколько знаменитых мелодий танго обладают качествами, равными разве что народным песням
(назову лишь «Очи черные»). Вспоминаю об отце, игравшем до войны на саксофоне и руководившем
маленьким оркестриком; наверняка и в его репертуаре было множество танго. Когда Латвия еще была
независимой, его оркестр ездил на гастроли в Швейцарию. Все мое детство протекло под рассказы о далекой
загранице. После войны отец иногда выступал в кинотеатрах. Я никогда не присутствовал на этих
концертах, был слишком мал. Но уверен: танго имело отношение к нашей семейной традиции еще до того, как я услышал Астора. С другой стороны, меня огорчает, когда Астора Пиаццоллу отождествляют
исключительно с танго, – не сомневаюсь в том, что масштаб его как музыканта гораздо больший.
В музыке Астора мне видится огромное игровое пространство, позволяющее выражать разнороднейшие
чувства в высшей степени изощренно и в то же время совершенно безыскусно. Пиаццолла был од-231
новременно мужествен, откровенен и бесхитростен. Чувства свои он не сдерживал и не подавлял, – ин-теллектуальные снобы не могут ему этого простить.
Пиаццолла был музыкантом с весьма высокими критериями, единственным в своем роде. Последовав совету
своей наставницы Нади Буланже, рекомендовавшей не становиться композитором «вообще», а хранить
верность наследству танго, он нашел себя. В наше время не так уж часто сталкиваешься с хорошей музыкой, которая действительно «доходит» до публики, до слушателя. Сочинения существуют как бы сами по себе, никак не взаимодействуя с окружающей средой. Некоторые из них обладают несомненной ценностью. Их
авторы трудились над ними на протяжении месяцев и даже лет. Но, боюсь, многие партитуры будут лежать
в ящиках письменных столов и в библиотеках: это произведения столь высоких интеллектуальных свойств, что они уже не могут дойти до сердца слушателя. «Порой композиторы, – как сказал немецкий автор
аргентинского происхождения Маурицио Кагель, – сочиняют их исключительно для композиторов».
Может быть, корни музыки Астора – в ее особенной простоте, при этом отнюдь не примитивной.
Танго, разумеется, не столько форма инструментальной музыки, сколько прежде всего танец. Люди, видевшие меня на сцене, нередко говорят, что я «танцую». Может быть, это и так, но в исполняемой мною
музыке я стремлюсь лишь к максимальной передаче образа. Связь музыки с другими искусствами всегда
окрыляла мое воображение.
232
В музыке, танце, литературе, кино самое важное, на мой взгляд, не столько «как», сколько «почему».
Почему композитор создал ту или иную музыку? Почему был снят такой-то фильм или написана такая-то
книга? Музыка Астора всегда содержит – помимо своей осязаемой чувственности – ясный ответ на
вопрос, почему и из каких истоков она возникла. Она – зеркало страсти и несет в себе знание человеческой
сути, которое дарит и счастье, и боль. Это волнующее соединение полярных чувств присуще его
сочинениям в той же мере, что и сочинениям Франца Шуберта или Фридерика Шопена. Среди известных
мне современных авторов лишь немногим удалось создать музыку, которую переживаешь так страстно и
глубоко.
Здесь я должен сделать отступление и рассказать маленькую историю. Частью этой истории является
Локенхауз. Этот фестиваль дал мне и моим коллегам возможность узнать и исполнить бесчисленное
количество малоизвестной музыки. Локенхауз позволил и мне предаться увлекавшим меня поискам
необычного и разработать новый репертуар. Здесь пережили «новое рождение» такие композиторы, как
Артур Лурье или Эрвин Шульгоф. Не случайно именно там произошла моя встреча с Пиаццоллой. Я должен
быть благодарен друзьям и собратьям из круга Софии Губайдулиной – Фридриху и Святославу Липсу, Владимиру Тонхе. По инициативе их менеджера Вадима Дубровицкого я впервые попробовал играть
аранжировки его музыки. Многократные поездки в Буэнос-Айрес дали мне возможность услышать и
увидеть танго, – в популяр-
233
ных ресторанах или на сцене (незабываемым было зрелище: «Tango a dos»*); там я понял, как неповторимы
сочинения Пиаццоллы.
Некоторых из коллег моего «Astor-Quartet» я теперь знаю уже много лет. С талантливейшим пианистом
Вадимом Сахаровым мы еще учились в Московской консерватории, венский контрабасист Алоис Пош
давно участвовал во многих совместных проектах камерной музыки. Разумеется, необходимостью для
Пиаццоллы было введение в наши концерты бандонеониста. Судьба свела меня в Амстердаме с норвежским
бандонеонистом Пером Арне Глорвигеном. В то время я играл танго голландского композитора Тео
Левендиэ, – произведение, написанное для меня и моей серии концертов в Амстердаме «Carte blanche».
Бандонеонист оркестра заболел, и тогда вдруг возник Пер Арне. Казалось, что мы нашли друг друга, не ища.
Теперь я не могу представить себе наш «Astor-Quartet» без моих партнеров.
От Марчелло и Вивальди до последних сочинений Альфреда Шнитке, Джона Адамса и Луиджи Ноно – мне
довелось прикасаться как бы ко всем стилям. А в музыку Пиаццоллы я просто влюбился. Она заставляет
забыть о рутине и разрушенных иллюзиях. Любовь к Астору позволяет мне вступить на ту территорию
современной музыки, которая доступна публике и не представляет собою всего лишь наглядное пособие по
музыкальному образованию, будучи примером того, какой проникновенной она может быть и сегодня.
Порой говорят,
* Танго вдвоем (исп.)
234
что Пиаццолла всегда писал одно и то же. Но разве нельзя то же самое сказать о Шуберте или о Вивальди?
Думаю, что даже когда произведения похожи друг на друга, они могут быть различны. Все решает – гений.
Пиаццолла – из числа тех больших композиторов, которые своей музыкой заявляют нам о чем-то личном, сокровенном.
Говоря о красоте, – красоте архитектуры, искусства, человека, любви, невозможно пройти мимо музыки
Астора Пиаццоллы. Я верю в нее, потому что в ней слышится мечта о лучшем мире. Все это – в танго, одном-единственном танго.
La Lontananza*
К Луиджи Ноно меня привело мое знакомство с Шарлоттой. Интуиция подсказывала ей, что мы с Ноно
должны понять друг друга. Так я отправился в Венецию – город, где Ноно жил и с которым был кровно
связан. Это было в феврале 1987 года. К моему разочарованию, Ноно в Венеции не оказалось. Я стал
звонить и разыскал его в Берлине. Голос в трубке звучал одновременно и удивленно, и радостно; Ноно был
тут же готов со мною встретиться, и мы договорились о сроке. Свое пребывание в Венеции я посвятил
поискам сплетений, связывающих Ноно с его родным городом. Отзвук моих бесед с Шарлоттой, напоминающих лабиринт венецианских каналов, как тень сопровождал меня в пути.
Через несколько недель я встретил Луиджи Ноно во Фрейбурге. Шарлотта была точна в своих пред-сказаниях: мы приняли друг друга буквально с первой минуты.
* La Lontananza – даль (итал.)
236
«Джиджи», – так он просил называть себя, – встретил меня с открытой душой. Завязавшийся разговор
вскоре отошел в сторону от Шарлотты (дружба с которой много значила для нас обоих), и принял – как все
последующие – совершенно алеаторический характер. Имена Тинторетто, Шнитке и Веберна, Флоренского, Тарковского и Горбачева появлялись и исчезали, сменяя друг друга. Мы говорили о политике, любви, религии, философии, об обертонах и тишине; и тем не менее, все это было вплетено в некую единую
тему – тему духовной ответственности художника перед миром. Невозможно было предсказать заранее, куда направится диалог после очередного виража. Однозначно было лишь одно – динамика поиска.
Теперь я жалею, что не вел записей. Однако в те времена сама мысль об этом противоречила бы духу
нашего взаимопонимания и атмосфере встреч. Все было слишком личным, слишком спонтанным, но, вместе
с тем, ко многому обязывающим. И конечно же, у меня было ощущение, будто у нас еще очень много
времени впереди. Мне и в голову не приходило обратить внимание на исподволь возникавшие тревожные
сигналы. Казалось, что отныне мы будем часто видеться друг с другом, и нашим беседам не будет конца.
Сегодня, когда Ноно нет, мне больно пытаться формулировать или даже просто выразить словами то
многое, чем он одарил меня. Как часто в партитурах, книгах, полотнах мастеров важным бывает не столько
то, что находит свое выражение в нотах, словах, красках, сколько то, что обнаруживается
237
между нотами, над строкой, вне рамок картин. Чтобы иметь возможность формулировать все это, я должен
был бы научиться говорить о вибрациях, ассоциациях, о перспективе и об интенсивности. Мне не хотелось
бы приписывать Ноно какие-то мистические свойства, но каждый, кто соприкасался с ним, ощущал его поле
(приходит в голову метафора магнитного поля, в котором действуют энергетические силы притяжения и
отталкивания). Он и сам был движим им, вступая – как казалось, непроизвольно – в контакты с
окружавшей его средой или с какой-нибудь идеей; эти контакты порождали в нем искры, блиставшие потом
в беседах, звуках, поступках.
В идеях Ноно отражался Космос других людей; Ноно вовлекал их в свою орбиту, а потом любовался ими.
Мне редко приходилось встречать человека, у которого художественная и человеческая энергия была бы в
столь малой степени сосредоточена на собственном Я и так сильно стремилась бы к области Духовной.
Джиджи часто бывал для меня непостижим. Так, постоянно критически исследуя то, что представлялось
очевидным, он всегда бывал готов тотчас же вновь подвергнуть сомнению только-только обретенную
истину.
Иногда Джиджи, как бы между прочим, повторял: «Was kommt, kommt – was nicht kommt, kommt nicht».
«Чему быть – тому быть, а чему не быть – того и не будет». Совсем недавно я обнаружил эту строку в
«Лестнице Иакова», произведении Арнольда Шёнберга. Преданно-покорные говорят: «Так принимают на
себя все, что наступает... да,
238
да... как должно быть, так и будет». Было ли высказывание Ноно парафразой этой строки?
Как цитату Ноно я знал эту фразу еще от Шарлотты. Его прямоту и откровенность, проявлявшуюся всегда и
во всем, можно было бы трактовать в духе фатализма, но мне видится в ней выражение мужества Джиджи, его решимость не давать себе поблажек даже у грани Небытия.
«Странник, пути нет, но идти надо». Эта надпись, увиденная Ноно в одном толедском монастыре, была ему
близка. Она могла бы быть обращена к нему самому. В движеньи, постигая путь как цель, можно было бы
приблизиться к Джиджи и попытаться что-то в нем понять. Ноно провоцировал других и сам поддавался на
провокации. Он, с таким упорством искавший совершенства форм и совершенства жизни, мог доводить себя
до отчаяния от того, что ему так редко приходилось встречаться с идеалом. Попытка воспринять чаяния и
устремления Ноно только с позиций реализма привела бы к осознанию того, что найти искомое
совершенство абсолютно нереально. Ищущему не обрести покоя. В тоске по покою Ноно, этот основатель
Беспокойства и его учредитель, обрел свой сизифов камень. Будучи человеком крайностей, он мог
приходить в ярость от столкновения с посредственностью. Тупость, упрямство нацеленного на
«правильное» человека или властей, могли довести его до взрыва.
Однажды Джиджи спросил: «Гидон, ты не пробовал хотя бы однажды сыграть в концерте что-нибудь
намеренно плохо, чтобы понять, до какой степени слабоумны поклонники, пришедшие к тебе с
изъявлениями восторга?!» В этом был Ноно. Таким
239
же был и великий испанский живописец (если верить книге Эфраима Кишона «Мягкая месть Пикассо»), презиравший пустые и лживые восторги «знатоков» и издевавшийся над ними. Противоречия вдохновляли
Джиджи. Все Севшее-на-мель, Завязшее, категорически Предопределенное – в мире звуков или в мире
идей – было ему чуждо. Быть может, именно поэтому Ноно в последние годы жизни стал чаще приезжать в
Россию. Он чувствовал в ней Движение, познавая его на собственном опыте. Художественные взгляды Ноно
и обязательства, которые в связи с ними он на себя возлагал, вполне отвечали его взглядам и гуманитарно-социальным обязательствам. Он с легкостью и осознанно соблазнялся видениями Светлого Будущего и
охотно верил тем, кто его обещал. Политические и социальные тона резонировали в характере и поведении
Ноно, которому чуждо было все удобно Буржуазное, все консервативно Соглашательское, все алчущее
успеха Продажное.
Одно время центральной темой наших дискуссий стал западный (тогда еще) Берлин. Бытие на грани, в
самой гуще событий вдохновляло его. И такой город, как Берлин, и идейно-радикальное коммунистическое
движение, и философы и мистики России – все это для Ноно-художника имело значение ничуть не
меньшее, чем внутренняя его связь с миром звуков Венеции, собственно, и определившая основной тон его
музыки.
В результате наших бесед у меня возникло острое желание поработать вместе с Ноно. Уже некоторое время
меня занимала идея создания современного
240
антипода «Времен года» Вивальди, и я попытался передать это увлечение Ноно. В разговоре он это принял, но окончательного согласия давать не желал. Незнание того, чем могло бы стать «наше» произведение, было
для Ноно дороже.
Наконец, в один прекрасный день обоюдно повторенное «надо было бы» показалось необратимым. Достав
свои расписания, мы стали искать свободное время для работы. Решено было, что я приеду во Фрейбург, где
Ноно часто работал в фонде Штробеля, располагавшем аппаратурой для электронного синтеза звуков. Но
вот наступил намеченный момент...
Работой мне это не казалось. С первых же минут я стал наслаждаться атмосферой общения. Джиджи просил
меня просто играть. Три, четыре, пять часов в день. По его замыслу я мог излагать в звуках все, что хотел.
Мы только договорились по возможности избегать привычного – например, хорошо известных мне
произведений. Короче говоря, я должен был импровизировать, хотя именно этому никогда не учился. Я
извлекал из скрипки звуки и искал связи между ними. Джиджи лишь изредка заговаривал со мной. Сам же
он постоянно находился в движении, перемещаясь из студии в зал для прослушивания и обратно. Время от
времени он просил меня извлечь звук каким-нибудь особым образом – например играть особенно близко у
подставки или же сыграть семикратное piano. Столь же важны были для него неимоверно долгие звуки в
том виде, в каком они вряд ли могли быть известны мне из партитур. «Тишину» он предоставлял мне. Я
передвигался со скрипкой по залу или стоял, вспоминая
241
былые звучания и отыскивая новые, а в общем-то вслушиваясь в свой внутренний голос. Это был в высшей
степени необычный способ работы с композитором. Тогда мне казалось, что Ноно таким способом хотел со
мною познакомиться. Хотя до этой встречи мы провели друг с другом уже немало времени, он редко
слышал мою игру и едва ли хорошо представлял меня с моей скрипкой. В эти фрейбургские дни я и понятия
не имел, что сыгранные и записанные на магнитную ленту звуки уже превратились в составную часть
будущего произведения. И сам я, и мои поиски в пространстве звуков стали его инструментом.
Наступило лето 1988 года. Изредка я получал от Ноно сообщения, что он работает, что то одну, то другую
мою пластинку, которые ему хотелось бы иметь, он получил, что сочинение продвигается успешно, и что он
весьма этому рад.
Между тем, исполнитель во мне понемногу начинал беспокоиться и желал увидеть ноты, партитуру
собственными глазами. До сих пор мне было известно только то, что Джиджи решил использовать в своем
произведении обработанную им запись тех моих фрейбургских звуков, а также live-электронику. Оба эти
«экстрафактора» должны были при исполнении противостоять (или слиться) с голосом сольной – живой
скрипки. Именно этот свой голос я и хотел как можно скорее выучить. Первое исполнение должно было
состояться через несколько недель, 2-го сентября, в Берлине, и по мере приближения этой даты мое
беспокойство возрастало. Ноно снова и снова обнадеживал меня относительно готовности сольной партии и
обещал прислать не-
242
которые наброски, однако на самом деле ничего не происходило.
Только из доверия к Джиджи и его утверждениям, что оснований для беспокойства нет, я 31-го августа без
нот приехал в Берлин. Никогда я еще не оказывался в подобной ситуации: за два дня до премьеры не иметь
ни партитуры, ни своей партии! Наверное, любой другой композитор показался бы мне не заслуживающим
доверия; мне было не по себе, когда я читал на афишах фестиваля название произведения, из которого не
видел ни строчки.
Ноно в самом деле был рад моему появлению. Первым делом, он решил проиграть мне подготовленную им
пленку: восемь отпечатков услышанного им, отчужденного и смонтированного «Гидона». Основой для них
послужили мои фрейбургские импровизации. «А здесь, слышишь? Это «Krachspur»*, а это «Гидон в
электронном усилении», а здесь, на этом шумовом канале, «тысяча Гидонов».
Ноно был возбужден не менее меня. Лента была совершенно захватывающей. Джиджи, с его своеобразным
отношением к звуку, услышал меня совершенно по-новому, и, тем не менее, я узнавал свои импульсы. Но
когда я, будучи воодушевленным, спросил его об обещанной сольной партии, Ноно в нервном смущении, извиняясь, показал мне лишь несколько клочков нотной бумаги – здесь строка, там два такта, тут три
строчки – и, почти по-отечески успокаивая, сказал: «Никаких проблем, не волнуйся, сегодня ночью я все
напишу».
До премьеры оставалось 36 часов.
* «Шумовая дорожка» (нем.)
243
Мысль о том, что вскоре мне предстоит исполнить произведение, которое еще не материализовалось, страшила меня, но одновременно такого рода вызов способствовал возникновению и прямо про-тивоположного чувства. Я не стал думать об отъезде и не впал в безразличие. На меня снизошел покой.
Сознание, что друг отчетливо понимает, что я, в конечном итоге, всего лишь человек, оказало на меня почти
терапевтическое воздействие. Естественно, я был готов в оставшееся время работать настолько интенсивно, насколько это вообще возможно, но за успех этого начинания я уже не мог нести никакой ответственности.
Именно так я все изложил Джиджи, на что получил полнейшее его одобрение. Мы пошли есть, пути наши
разошлись только поздно вечером. Мой путь привел меня в отель, его – на квартиру, где он намеревался
работать.
Было девять утра, когда на следующий день, 1-го сентября, я переступил порог квартиры Ноно. Он
приветствовал меня усталым взглядом и... двумя листками нот. «Это будет началом, – объявил он. —
Теперь мне нужно еще потрудиться», – сказал и, изможденно-возбужденный, удалился.
В одной из комнат я пытался разобраться в полученном тексте, в то время как в другой, немного подальше, Джиджи переносил на бумагу продолжение сочинения.
Моя партия с самого начала поражала количеством невероятно высоких звуков, пауз, пианиссимо, требованиями особой артикуляции, предельного владения смычком «con crini, senza vibrato, suoni mobili» —
количество обозначений и нот высокого
244
регистра доминировало в автографе над всем остальным. Многое сбивало с толку: уже само прочтение и
отгадывание указаний отнимало множество времени. Несмотря на спешку, высоту нот Джиджи указывал
еще и словами: «сis – des» и т.д. Но, по большей части, он все это писал позади нот, что мою задачу отнюдь
не облегчало. Джиджи, казалось, позабыл, что мы, струнники – иначе чем пианисты – должны сначала
«найти» каждый звук. Возможно, впрочем, что при записи нот он имел в виду идеального скрипача, которому знак, поставленный после и над нотой, мог бы придать дополнительную уверенность. Пришлось
потратить много времени на расшифровку дополнительных линеек, на то, чтобы как-то сориентироваться в
самой высоте звуков. Не меньше ушло на разметку аппликатуры. Только затем пошла борьба с ритмом. Бесконечные паузы, длительности, указанные в секундах, множество галочек с хвостиками, с трудом
поддающиеся счету, – все это невероятно затрудняло чтение. Как раз в момент, когда я с помощью ка-рандаша, казалось, все разметил, появился Джиджи со следующими двумя страницами. Об общей
длительности произведения он все еще ничего не говорил, и было не ясно, знает ли он ее сам. Несмотря на
все это я продолжал борьбу с текстом...
В 12 часов у Ноно внезапно кончились чернила. Он перешел на шариковую ручку. Партитура от этого стала
еще менее разборчивой. Но и это не привело меня в отчаяние. Лишь возрастало и усиливалось напряжение.
Только около 14-ти часов я «забастовал». Моя привычка к отдыху после полудня одержала верх.
245
Успев одолеть шесть страниц, я уехал в отель – прилечь. Мы условились встретиться в шесть вечера в
Филармонии. Пьеса все еще не была готова, но Джиджи обещал закончить ее после обеда. Работы у него
осталось якобы «не очень много».
В 18 часов в новом зале камерной музыки Берлинской филармонии я встретил Ноно, появившегося с тремя
последними страницами. В то время, как он начинал осваиваться с аппаратурой, я занялся финальным
эпизодом. Как и утром, я ограничился минимумом – отгадыванием и разметкой звуков и пауз. На большее
времени не оставалось. Около 20-ти часов все были готовы поработать вместе: Джиджи, звукооператоры из
фрейбургской студии – неразлучные его сообщники во всех электронных действах – и я. Джиджи
запустил подготовленную им пленку. Не будет большим преувеличением сказать, что мое сольное
сопровождение ее было не более чем чтением нот при посредстве скрипки. Странным образом оно, казалось, удовлетворяло Джиджи. Это изумило меня, хотя и стало некоторой временной поддержкой.
Очередная проблема возникла в связи с размером произведения. К этому времени в пьесе было девять
страниц сольного текста. Когда и как нужно было их переворачивать? Как установить на пульте? Ноно
намерился разделить эпизоды. Ввиду столь непродолжительного знакомства с материалом, с моей стороны
было почти наглостью пытаться вторгнуться в его детище. Однако оба мы стремились избежать и того, чтобы эпизоды, которые в нотных листах в соответствии с композиторской логикой шли друг за другом, оказались расчленен -
246
ными формальным порядком страниц. Джиджи потребовал ножницы, и мы занялись делом. Части моей
сольной партии были разрезаны. Сначала у нас в руках оказалось пять, потом шесть фрагментов. Live-электроника должна была акустически «поддерживать» мою игру в различных точках зала. Задача
подготовленной записи-ленты заключалась в создании полифонического диалога между записанным
голосом скрипки и тем, который звучит непосредственно во время исполнения. Общее же звучание с
помощью динамиков, установленных по всему залу и ими управляющей аппаратуры, можно было заставить
«ходить по кругу».
Вспомнилось: «Движение – цель». Эту заповедь можно было бы отнести не только к названию пьесы «La Lontananza-nostalghica-futurica»*, но и ко всей истории ее возникновения, понимаемого как движение поиска
в пространстве Времени. Представлялось всего лишь логичным слиться с этим «Движением» и мне самому.
В моем давнем юношеском увлечении театром Джиджи мог убедиться на примере почти каждого из моих
предложений, независимо от того, касалось ли это расстановки пультов или моего движения между ними.
Для концовки мне показалось осмысленным сразу же после последнего, подхваченного электроникой
долгого звука, покинуть зал...
К моему великому изумлению, некоторые из моих предложений, сымпровизированных (и осуществленных) только для себя и для данного исполнения, я впоследствии обнаружил в печатном тексте этого
произведения.
* «Томительная даль будущего...» (итал.)
247
Каждый из нас был настолько втянут в этот процесс, что мы просто не заметили, как работа и время
превратили нас в сыгранный ансамбль. Все участники были вдохновлены этим внезапным Становлением, каждый старался претворить в жизнь малейшее желание Ноно как можно эффективней. И о временном
аспекте мы теперь тоже получили ясное представление: сочинение длилось примерно 45 минут. Затем
случилось нечто неожиданное: композитор внезапно предложил сыграть на следующий день, во время








