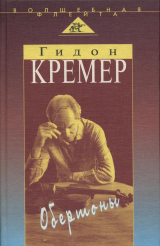
Текст книги "Обертоны"
Автор книги: Гидон Кремер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
не вполне надежна, отказываться не хотелось. Я подчинился новым требованиям, с которыми мне теперь
предстояло примириться, хотел научиться незнакомым приемам и настроился на неизведанное. В конце
концов у Вивальди и дирижера общая родина. Зальцбургский конфликт, казалось, мог быть без труда
преодолен.
Во время подготовки к записи я достал несколько пластинок, в том числе, записи известнейших камерных
оркестров I musici и Concentus Musicus.
200
Будет ли Аббадо, с таким блеском исполнявший Россини, настоящим партнером для Вивальди? Хотелось
надеяться. Наше первое обсуждение сюжета в Берлине прошло мирно и обещало взаимопонимание в
Лондоне.
В январе 1980 я сыграл несколько концертов в России, не подозревая, что они – последние. Наступила
почти десятилетняя пауза. «Времена года» стали центральной частью этих концертов. Я все больше
влюблялся в произведение Вивальди. Причиной было, в частности, то, что я потратил на него очень много
труда. Что и говорить, такой метод оправдывается и в других областях жизни: любить объект внимания, вживаться в его суть, не жалея времени и сил – все это приносит плоды. Оказавшись в Лондоне, в церкви
Св. Иоанна, я чувствовал себя гораздо увереннее, – Вивальди мне был теперь совсем близок.
Запись шла весьма удовлетворительно, хоть со временем и выяснялось, что любая работа в студии означает
стресс. Клаудио и я искали путей друг к другу. Лишь время от времени выбранные мною темпы казались
ему чрезмерными. Опыт предшественников, изучавших искусство барокко, укреплял мои позиции.
Особенно во второй части, «Зиме», решение Харнонкура, нашедшего редкую, однако подлинную партию
«continuo», диктующую быстрый темп, представлялось бесспорным. Клаудио мои ссылки не совсем
убеждали, но и он искал компромисса, и казалось, что мы его, в конце концов, нашли. Во всяком случае, мы
покидали студию с чувством добротно сделанной работы. «Надо было
201
бы нам еще записать Вивальди, двойной и тройной концерт, с Шломо Минцем и Анной-Софией Муттер»
(оба имели тогда эксклюзивные договора с Deutsche Grammophon), – заметил маэстро на прощание. Я про
себя усомнился: – «Что это, слова музыканта или делового человека?» Так или иначе, возглас подтверждал
успех завершенного предприятия. В тот момент можно было предположить, что запись «Времен года»
станет началом плодотворной совместной работы. Оказалось, что она – начало совершенно
неправдоподобной истории.
Прошли месяцы до того, как Райнер Брок прислал мне уже смонтированный материал на отслушивание.
Кое-что не удовлетворяло по-прежнему, в особенности спорное Largo в «Зиме», но я, тем не менее, дал
согласие на выпуск. В конце концов, решил я, это – итог совместной деятельности, – приспосабливаться
друг к другу необходимо. Через некоторое время пришло сообщение: Аббадо намерен перезаписать вторую
часть «Зимы». В чем дело? Для меня более медленный вариант был бы попросту невозможен, Аббадо все
еще казалось, что выбранный темп слишком подвижен. Никому не отказывая в праве на собственное
мнение, я не мог позволить навязывать себе чужое. Продюсеру Райнеру Броку пришлось взять задачу
примирения наших столь различных понятий о времени в свои руки.
В то же время осложнились мои отношения с Deutsche Grammophon. Фирма отказалась от нескольких
записей, запланированных со мною, а когда я решил осуществить свои намерения в сотрудничестве с
Philips, она реагировала весьма бо-
202
лезненно, хоть наш контракт и не нарушался. В первый (но не последний) раз в моей западной карьере я, в
ту пору совсем еще неопытный, столкнулся с тем, что не только отдельные люди, но и целые фирмы бывают
ревнивы. Разразилась бумажная война. Отношения с Deutsche Grammophon на некоторое время прервались.
Последовательности ради я отказался и от новой лондонской записи Вивальди. Тогда Аббадо прислал мне
пленку с предложением методом наложения (!) записать новую, более медленную, версию. Опытный мастер
видел в этом возможность устранить препоны на пути выпуска диска. В ответ я отправил ему видеозапись
«Времен года», осуществленную мною с ECO (Английским камерным оркестром) без дирижера и без
малейших компромиссов в отношении темпа. Спор вертелся вокруг считанных секунд, но именно они, как
на Олимпийских играх, все решали: версия largo у Харнонкура длилась 1.10, моя запись с ECO 1.16, наша с
Аббадо 1.25, а оркестровая версия одного Аббадо 1.50. Дело зашло в тупик. Сотрудники Deutsche Grammophon проявляли все большее беспокойство, опасаясь убытков, и требовали найти решение любой
ценой.
Наконец маэстро предложил выпустить пластинку, сняв его имя. Мне ничего не оставалось, как предложить
снять и мое, – я не хотел брать на себя всю ответственность и один оставаться на обложке диска. Нашла
коса на камень. Представители Deutsche Grammophon отчаивались не на шутку.
Спустя несколько недель я предпринял попытку умыть руки, написав письмо. В конце концов, про-203
шло полтора года, и мне расхотелось иметь с этим проектом что бы то ни было общее. И вдруг, дней через
десять, мне любезно сообщили, что Аббадо, наконец, согласился на выпуск без изменений. Благодаря
деловому подходу фирмы звукозаписи состоялся, наконец, компромисс между двумя артистами.
Этой записи суждено было стать одной из моих самых раскупаемых пластинок – это не обязательно
связано с ее качеством, а скорее с тем фактом, что несмотря на существующие, кажется, шестьдесят версий
«Времен года» Вивальди, сочинение по-прежнему остается одним из самых популярных на рынке.
Недавно в Цюрихе я покупал новую аудиосистему. Продавец спросил, что мне поставить послушать – что-нибудь классическое или поп-музыку. Услышав «классическое», он с гордостью извлек на свет пластинку.
Да, это были «Времена года», – Аббадо и мои. Продавец очень удивился, когда я попросил подыскать что-нибудь иное.
Другое поколение
Mой друг, альтист Хатто Байерле и я сопровождаем Рудольфа Серкина после его концерта в Вене к отелю.
Усталый, обессиленный, он все же старается быть любезно-разговорчивым. Речь идет о вещах, казалось бы
личных, но и в целом важных: Мальборо, Моцарт, Музыка...
Мы подъезжаем к отелю «Ambassador», в котором он останавливается вот уже несколько десятилетий, и
прощаемся. Вежливость – необходимая составная часть его личности; так можно охарактеризовать
Серкина. Это выражается и в словах, которые он произносит на прощание.
Многие на это почти не обращают внимания, часто и вовсе не замечают. Но подлинная сущность человека
обнаруживается именно в мелочах.
Пока мы усаживаемся в машину, Рудольф Серкин, выдающийся артист, только что проигравший
утомительнейший концерт, стоит у дверей отеля и ждет, пока Хатто заведет машину. Мы медленно
205
трогаемся, и он, познакомившийся со мной всего лишь полчаса назад, стоит у входа в отель и приветливо
нам машет...
Может быть, об этом и говорить не стоит. Но для меня это как бы знак «другого поколения», которое еще
знало цену общению. В мелочах, в неприметнейших жестах. Для Серкина – я уверен – не существовало
пустых формальностей. У него и его сверстников такая благовоспитанность была в крови.
«Считай сам!»
Hью-Йорк. Год 1988.
Мы с Леонардом Бернстайном играем сравнительно новый, весьма своеобразный концерт Неда Рорема с
Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Времени на подготовку, как всегда случается с современными
произведениями (хоть и не только с ними), отпущено маловато. Рорем, старый друг Ленни, сам
присутствует на репетиции. Время от времени между ними разгораются творческие споры. Понятно —
Бернстайн сам композитор. Ощущается некоторое напряжение, хоть в целом и доброжелательное. Вечером
во время концерта происходит маленькая авария. Бернстайн дирижирует коду на три четверти, хотя она
задумана как вальс, написанный на четыре. Мне довольно сложно следовать маэстро, тем не менее, мы
одновременно достигаем заключительного аккорда. Бернстайн, слегка озадаченный, раскланивается перед
публикой и, покидая сцену, спрашивает то ли себя, то ли
207
меня: «What happened?»* Я не решаюсь сказать ему: «Lenny, it's your fault!»,** потому что не вполне в этом
уверен, к тому же, по привычке сначала предполагаю, что ошибся сам. Тут-то Бернстайна внезапно
посещает озарение: «Gee, I fucked it up...»*** Ликование публики еще продолжается. Следующий поклон с
автором!
Однажды с секстетом Брамса соль мажор, который я играл впервые в Локенхаузе, злоключение в концерте
поджидало и меня. Во втором такте медленной части обнаружилось, что фактура – а вместе с ней и весь
ансамбль – распадается. Неприятное происшествие заставило нас, прекратив игру, начать сначала. Вместе с
намерением быть на сей раз более точным, возросло и напряжение. К моему изумлению, на том же самом
месте все снова рассыпалось – кто в лес, кто по дрова. Страшная неловкость: все происходит на публике.
Тут ко мне наклонился альтист Владимир Мендельсон и шепотом, который, как мне казалось, слышен всему
залу, сказал, что мне надобно играть вдвое быстрее. Только тогда случившееся дошло до сознания.
Катастрофа, несомненно, разразилась по моей вине. Виолончелист Хайнрих Шифф помог разрядить
ситуацию, громко рассмеявшись. Стресс прошедшего дня, усталость и стремление сделать все как можно
лучше заставили меня считать Adagio на восемь вместо четырех. Третья попытка принесла удачу.
* Что случилось? (англ.)
** Ленни, это ваша вина (англ.)
*** Я облажался... (англ.)
208
Это было на третий год фестиваля; мы с кларнетистом Эдуардом Бруннером играли поздний квинтет того
же Брамса. Во время первого исполнения, сбившись в счете, я на протяжении четырех тактов буквально
«плавал». Обиду усиливало и то, что в сочинение, в которое я был просто влюблен, мы вложили много
репетиционного времени. Появился (не без специальных усилий) повод организовать повторное
исполнение, вообще-то такую ситуацию скорее следует считать редкостью. Еще две репетиции были
призваны скрепить ансамбль. Но увы, дойдя во время концерта до коварного места, я, несмотря на всю
сосредоточенность... сбился снова. Профессия, в которой слух и счет обязаны функционировать синхронно, имеет свои подводные камни. К тому же следует еще и музыку играть! Ну положим, играть-то я еще мог. Но
неимоверное перенапряжение не раз ставило подножку счету.
Братислава 1990 год. «Концерт без границ», организованный Amnesty International. Дирижер Иегуди
Менухин; я впервые выступаю с ним, когда он в такой роли. Репетируем Второй концерт Шостаковича.
Лорд Менухин, тогда еще сэр Иегуди, дирижирует его в первый раз и прилагает заметные усилия, чтобы
справиться с малознакомым произведением. Большой надежности это обстоятельство в оркестр не вселяет.
В финале и я чувствую себя не вполне уверенно и прошу Менухина вечером в определенном месте дать мне
знак к вступлению, что он со своей обычной учтивостью, естественно, обещает.
209
Вечером: телевидение, радио, полный зал, всеобщее напряжение. Все – оркестр, Лючия Попп, Алексис
Вайсенберг и сам маэстро максимально собраны. Мы уже почти в финале. Менухин в условленном месте
дает мне знак к вступлению, но... раньше на целый такт! Я поражен, – выжидаю. Все хорошо, что хорошо
кончается. Бурные аплодисменты.
Дорожные указатели заслуживают уважения, но не всегда им надо следовать. Вторая половина истины
гласит: На Бога надейся, а сам не плошай. Прежде всего: считай сам.
Maestrissimo
В декабре 1979 года в Берлине шла запись концерта Чайковского, – она до сих пор осталась единственной
моей записью этого произведения. С дирижером Лорином Маазелем мы уже годом раньше встречались, совместно исполняя Второй скрипичный концерт Прокофьева. В сущности, то был хороший опыт. Лорин, элегантный, точный, все больше воодушевлялся во время исполнения и таким образом поддерживал
внутреннюю драматургию сочинения. Так и теперь, все шло довольно гладко. Разве «гладко» – это
хорошо? Разве это не признак поверхностности? Когда концерты или записи бывают гладкими? Может
быть, когда музыкант остается холодным и его исполнение кажется отполированным. Это мне абсолютно
чуждо, – как в музыке, так и в жизни. Пожалуй, я лучше скажу так: мы продвигались дружно и без помех.
Шел третий и последний день нашей совместной работы. Оставалось закончить вторую
211
часть концерта и записать «Меланхолическую серенаду». «Серенаду» я играл часто и охотно – она остается
шедевром малой романтической формы. Но с Маазелем исполнять ее раньше не приходилось; я попросил
Лорина прийти на полчаса раньше и прослушать меня до записи. Он, хоть и без большой радости, согласился.
В половине десятого я был в Филармонии. Лорин слегка опоздал. По лицу было видно, что он не выспался.
Он вел себя учтиво и в то же время как бы отсутствовал. «Прошу вас – начинайте!». Я сыграл ему пьесу и
попытался высказать свои просьбы. «No problem». Маэстро не видел никаких трудностей. Зачем
беспокоиться? Все и так ясно.
Ну, что же, ясно так ясно. Я получил ответ на два-три вопроса, мы обсудили несколько фразировок. Вскоре
все отправились на сцену. Начали со второй части концерта. Духовые интонировали очень приблизительно
– а ведь они были музыкантами Берлинской филармонии и уже накануне играли это произведение на
публике. За первые полчаса мы еле продвинулись в записи. Время шло, появилась некоторая нервозность.
Хоть вторую часть и нельзя назвать особенно сложной, в то утро что-то не клеилось: в простейших фразах
музыканты спотыкались. В качестве оправдания можно сказать, что нельзя начинать утро канцонеттами. Но
кого это интересует? Уж наверняка не фирму грамзаписи, которая в первую очередь заботится о расходах: найме репетиционного помещения и дорогостоящей аппаратуры. Наконец мы окончили.
Было полдвенадцатого. Лорин исчез в операторской. Запись должна была продлиться до часу. Сле-
272
дует учесть, что «Серенада» еще ни разу не прозвучала, во время вечерних выступлений мы играли только
Концерт. Я на сцене продолжал разыгрываться, готовясь к записи. Лорин вернулся к пульту после перерыва
с опозданием. По его виду можно было точно сказать, что это его не радовало, что ему все надоело. В конце
концов, в предстоящем аккомпанементе ему делать было почти нечего. Для сверхдарований, к которым
Маазель, как и Геннадий Рождественский, несомненно принадлежит, особенно привлекательна
необходимость преодолевать препятствия, кажущиеся непреодолимыми. Здесь же для дирижера, на первый
взгляд, никаких трудностей не предвиделось. Мои намерения были явно противоположны. Я знал, какие
трудности нередко представляет самое простое сочинение, и в этой пьесе видел не столько необходимый
заполнитель для пластинки, сколько шедевр романтизма. Скрытая страстность и лиризм серенады могли —
в случае удачного исполнения – вызвать к жизни целый космос переживаний. Нечто вроде миниатюрной
истории любви, способной вызвать в душе удивительный отклик.
Но вернемся к реальности: я опять не совпадаю с английским рожком. Еще раз. Опять мимо. Снова
повторяем. Застряли. Мое перенапряжение дает о себе знать. Из осторожности, и не зная, как найти
поддержку, пытаюсь следовать за Лорином. От этого страдает фразировка. Мы снова останавливаемся. На
этот раз прервал он:
«В конце концов, это не логично и не музыкально, вы здесь обязаны мне следовать». «Но я же как раз и
пытаюсь», – объясняю почти в отчаянии. «Тогда от-
213
кройте глаза». Воцаряется всеобщее молчание. Вокруг добрая сотня музыкантов в ожидании – что сейчас
произойдет? Никто не решается сказать ни слова. Нам удается довести запись до конца.
Разумеется, мне уже не до вечернего концерта, но друзья из оркестра успокаивают меня. «Почему он так
себя ведет? Зачем вымещать свое раздражение на других?» Маазель всегда такой – они его хорошо знают.
Не принимай близко к сердцу, он этим славится.
Друзья убедили меня не настаивать на отмене, которая всем (мне самому, в том числе) принесла бы одни
неприятности. Вечером мы играем концерт Чайковского в последний раз, и, как часто случается, он звучит
живее, чем во время студийной записи, – в этом я убедился, позже прослушав часть записи по трансляции.
На публике терять нечего, исчезает страх сфальшивить, на часы не смотришь, звукооператора нет, – так
что дышится естественней и свободней. Иллюзия? Пусть судят другие. Для меня это так.
Думаю, в то утро Лорин ничего не заметил. Это было мимолетным настроением маэстро, – оно остается в
памяти только того, кого походя задевает. Для меня же тогда только одно стало несомненным: в
музыкальном мире царят жестокие нравы.
Несмотря на бесспорную одаренность Маазеля и то, что он видит партитуру рентгеновским взглядом —
насквозь, мне его видение кажется порою сомнительным. Слово «обязаны», брошенное мне мимоходом, на
самом деле запомнилось гораздо меньше, чем «откройте глаза!» Оно было как бы оправдано ситуацией: кому, как не дирижеру, координировать. Но задним числом мне ясно и другое: 214
эта «команда» была ключевым моментом всего взрыва. В профессии дирижера (Маазель не исключение) закоренилось представление о том, что существует некая законодательная власть, право на которую якобы
предоставляет партитура. Определение того, что надо делать, лежит в основе дирижерского самоуважения.
«Ты должен (обязан) по моей указке играть (петь, танцевать)» или «Вы все подчинены мне. Я знаю больше».
Ассоциация вызывает в сознании монарший pluralis majestatis. Царствующие особы обычно ставят свою
подпись под формулой: «Мы повелеваем». Диалог – с народом или с партнером – мог бы быть
значительно плодотворнее. Но в тот день склонить Маазеля к диалогу было невозможно. Спустя несколько
лет у меня оказалась еще одна возможность оценить феноменальное искусство Лорина – на открытии
сезона La Scala в Милане. Маазель дирижировал «Аиду», и в тот вечер ему доставляло нескрываемое
удовольствие стоять за дирижерским пультом. Он уверенно контролировал не только целое, но и каждое
вступление, каждую арию, всех музыкантов и даже помехи. Это воистину было событием, но оно снова
заставило задуматься над вопросом о связи умения, успеха с биением пульса и подлинным чувством.
Хладнокровие необходимо спортсмену для победы на олимпиаде; в искусстве это свойство хоть и полезно, но его недостаточно. Разумеется, я не призываю к неконтролируемым эмоциональным выплескам, но
настоящее произведение искусства живет гармонией мастерства и чувства. Покидая La Scala и восхищенный
возможностями Маазеля, я все же не оказался под властью чар самого Верди. Замечу справедливости
215
ради: опера – совместное создание всех участников, она никогда не бывает свершением одного лишь дирижера. Пышное оформление, изобретательная режиссура тоже могут помешать восприятию оперы как
музыкального произведения. Попытки сделать вещь «современной» при посредстве крикливой символики, неона или броских костюмов не заменяют концепции. Постановка, лишенная идей, низводит партитуру и
музыкальную структуру в сопровождающее явление. Капельмейстеры всех народов, скрытые в оркестровых
ямах, порой даже выпрыгивающие оттуда, мало что добавляют к появлению на свет художественного
произведения, если видят свою задачу всего лишь в контроле над беговой дорожкой. Редки счастливые
случаи, когда спектакль наполнен дыханием жизни. Чувство общности вдохновляло живописные школы
прошлого. Оно и в наше время безусловно возможно, – прежде всего в камерной музыке.
Там, где искусством «управляют» – оно в опасности. Даже из ряда вон выходящие дирижеры могут без
труда вызвать разрушительные тенденции, если они увлечены властью. Выдающийся талант дирижера, его
мастерство только тогда зажигают слушателей, когда он способен открыть им нечто, таящееся в нем самом, в глубине его души. В противном случае (увы, как часто это случается!) произведение исчезает за точными
и эффектными жестами маэстро. В голову приходят имена дирижеров, с которыми этого никогда не
произойдет: Карлос Клейбер, Кристоф Эшенбах, Саймон Рэтл...
Сценическая лихорадка
Hью-Йорк, 1985 год. Я играю концерт Брамса с Зубином Метой. Он – как всегда, отлично организованный, излучающий волю, темперамент, убежденность. Он весь пышет здоровьем (даже если это только кажется). Я
– изнуренный борьбой за каждый такт, постоянно открывающий для себя ценность тишины, не
пренебрегающий сложностью Брамса и от сосредоточенности всего моего существа почти впадающий в
истерику.
Все позади. Аплодисменты, поклоны, овации... Мы идем к лифту, везущему нас к артистическим. Говорю:
«Прости, мне было дурно, голова кружилась... Может быть, заболел... Ужасно». Зубин, явно удивленный, отвечает, улыбаясь: «Тебе, наверно, всегда дурно!».
Медленно, но верно
Есть дирижеры (их немного), которым подчиняешься с радостью. Карло Мариа Джулини принадлежит к их
числу. Следовать ему всегда было легко. Более того, это доставляло наслаждение.
Мы часто играли вместе, к тому же нередко вещи, для него новые, как например «Il Vitalino raddoppiato»
Хенце, второй скрипичный концерт Прокофьева, или концерт d-moll Шумана. Во время каждой из наших
встреч (особенно тех, что были посвящены Шуману) я восхищался его способностью проникать в самую
суть произведений. Никогда не дирижируя вполсилы, Джулини чуждался всего удобного и безликого. Его
многим кажущиеся слишком медленные темпы всегда обоснованы безошибочным чутьем верного пульса.
Поразительна эта – если говорить патетично – сила зафиксированного в нотах духа композитора; она в то
же время говорит о когда-то испытанных и по-прежнему живых эмоциях уже не бьющегося сердца.
218
«Темп не бывает слишком медленным или слишком быстрым», – как любит говорит Харнонкур, – «он
бывает один-единственный, верный». «Верность» же остается субъективным ощущением, вырастающим из
согласования пульса, заложенного в партитуру, и вашего собственного. Однажды услышанная «на бис»
Мазурка Шопена в исполнении Даниила Баренбойма свидетельствовала именно об этом. Верность автору
означает именно поиск вышеназванного соответствия. «Замедленности» Джулини противостоит постоянная
«ускоренность» Хейфеца. У обоих есть собственный пульс, взаимно сближающий (или удаляющий) исполнителя и автора. Шуман, как и Брамс, у Джулини обладают той временной мерой, которую они часто
теряют в нашем отлично функционирующем, но поверхностном мире. Воссоздание эмоций, осознанное
сопротивление внешним помехам, переход от одного вида гармонии к другой – кто в наше время станет
терять время на все это? Может быть, Бернстайн, самый порывисто-страстный из всех страстных исполнителей, – даже его физическая сущность не отодвигала партитуру на задний план. Понятно, что
исполнение «Патетической симфонии» Чайковского под управлением Бернстайна самое, быть может, медленное из всех известных исполнений. Но зато какая драма разыгрывается перед нами! Как редко
дирижеры сочетают воссоздание необходимого образа с внутренней ответственностью перед партитурой
(автором). Публика, и даже критики, ожидают своего рода подделки произведений и облегчают исполнителям решение идти на компромиссы.
219
Неторопливый Джулини, возможно, наиболее близок Фуртвенглеру. В первую очередь тем, что заботится не
о себе и не о публике, – о партитуре. И если даже это качество в наши дни снабжено ярлыком «мудрость» и
выставлено на продажу, Джулини по-прежнему остается верен музыке.
Вот почему я ничуть не удивился, услышав от него: «Вообще-то все самое лучшее написано композиторами
для квартетов. Камерная музыка, квартеты, это самая безыскусная и драгоценная сфера музыки». Эти слова
произнес не только маэстро Джулини – медленный дирижер, щедрый человек, преданный музыкант. Их
произнес и бывший альтист Джулини. Благородный и так часто неудобный инструмент, на котором прежде
играл Джулини, определяет тайну его музыкального ощущения и неизменно способствует его пристрастию
к выявлению внутренних (средних, наполняющих) голосов.
Идеалист
Mое отношение к музыке Валентина Сильвестрова в высшей степени эмоционально. Лично я познакомился
с Валентином двадцать лет назад, в московском доме, на Ходынке, когда Татьяна Гринденко играла его
«Драму» Это сочинение, ставшее на время прочной частью наших камерных программ, было настолько
непривычным, что провоцировало скандалы и даже вызывало ужас. Так что в начале моего отношения к
Вале в самом деле была ДРАМА, – во всех смыслах этого слова. Начало уже было многообещающим. Я
сам еще не играл музыку Сильвестрова, а скорее прислушивался к ней, находясь под впечатлением того, какое действие она вызывала в публике. Потом появились другие исполнения Валиной музыки, которые мне
нравились, или над которыми я задумывался. Когда позднее зашел разговор о том, что Сильвестров хочет
написать скрипичный концерт, я энергично поддержал его намерение. После моих встреч с му-221
зыкой Валентина мне было любопытно, каким получится сочинение.
К тому времени я уже пытался поддержать Альфреда Шнитке, Софию Губайдулину, Арво Пярта, Эдисона
Денисова и ряд других композиторов; я исполнял их произведения и делал все для того, чтобы они обрели
слушателей, – вопреки запретам и недоброжелательству тогдашних советских властей. Валентин, казалось, тоже был причислен к кругу тех, кто в 60-е и 70-е годы был нежелателен. Я не назову этих композиторов
«запрещенными», но меня соединяло с ними общее для семидесятых годов чувство сопротивления всему
навязанному. И Валя, шедший своим путем, вызывал (и продолжает вызывать) у меня уважение хотя бы
тем, что он не унижался и никогда не играл ни в какие политические игры. Человеческий характер, с
которым я столкнулся, работая над «Посвящением» Сильвестрова, не был мне чужд. Сильвестров остался
верен себе, хотя его сочинения семидесятых годов звучат, понятное дело, иначе, чем нынешние. Но
сочинения нынешнего периода мне ближе. Трудно сказать, но может быть тогда я счел бы их непонятными
и недостаточно авангардистскими.
Жанр, в котором написано «Посвящение», можно, вероятно, назвать «похвалой романтизма» и но-стальгической попыткой его воскрешения. В этой попытке есть нечто безнадежное, и все же Валентину
удается почти невозможное: он не только приблизился к романтизму, но и заново проникся его духом. Это
слышится в его музыке, – и во многом
222
соответствует тому, что я тоже ищу в современном искусстве.
Валентин принадлежит к тем людям, которых очень трудно удовлетворить. Он слишком точно знает, как
должно звучать его произведение. Исполнителю почти не остается простора для собственной
интерпретации. Идеально же для него воплощение каждой строчки так, как он ее слышит сам. Это, конечно, нереалистично, даже невозможно. Но Сильвестров и не реалист; он скорее – в этом его достоинство —
максималист, фиксированный на своем видении, которое он считает идеальным. Тем более я старался
отнестись к его музыке без предубеждения, как бы раствориться в ней.
Одна из трудностей для инструменталистов состоит в том, что некоторые композиторы перенасыщают
партитуру информацией. В таких опусах в каждом такте несколько различных динамических оттенков, accelerando-ritardando, перемена счета. Запросы в процессе подготовки нужно как бы вобрать в себя, чтобы
потом забыть о них; на это, увы, уходит много времени. Подобную музыку нельзя читать с листа, непросто в
ней забыться, – ты все время должен быть начеку. Здесь возникает, на мой взгляд, известное противоречие.
Музыка Сильвестрова едва ли не постромантическая. Романтизм же требует от исполнителя, чтобы он
пребывал в полусумеречном состоянии и растворялся в музыке. В то же время, сама партитура, ее рисунок, ее графичность не дают возможности отрешиться, требуют максимальной отдачи, величайшего внимания к
смене темпов, настроений, гармонических структур и т.п.
223
Иногда, работая над произведениями подобного рода, я замечаю, что во мне рождается протест против
такой, навязываемой исполнителю «топографии», – и это относится не только к сочинениям Валентина.
Что и говорить, ноты (нет, не содержание, а лишь фактуру текста) каждого из поздних квартетов Бетховена
можно разучить гораздо быстрее, – причем музыкальный строй этих произведений сохраняет свои
таинственно-мистические черты. Я не композитор и не знаю, как можно сделать лучше. Но, играя
определенные пассажи и спотыкаясь о бесчисленное количество технических указаний, невольно думаю —
необходима ли эта запутанность, усложненность? Нельзя ли многое записать проще? Нет сомнений, что тот
же вопрос можно было задать и Стравинскому. Он ведь тоже любил путать карты и едва ли не нарочно
заставлял исполнителя потеть. Отчего бы и ему не понять: зачем все записывать то на семь, то на
одиннадцать, то на пять, если то же самое прекрасно укладывается на три или четыре четверти?
Практический итог такой упрощенной записи можно проверить только путем испытания. То есть, на самом
деле переписать и выяснить. Вопрос остается открытым. У меня тоже нет ответа на него. Вполне возможно, что именно сложность овладения текстом должна эмоционально передаваться слушателю и отождествляться
с сутью произведения. И все же лично мне кажется, что сложность записи в «Метамузыке» Сильвестрова
для рояля и оркестра в конечном счете не слышна, и музыка в определенных сегментах остается статичной, не-224
смотря на то, что композитор мучительно ищет кульминацию. Сама по себе статика, разумеется, тоже
свидетельствует о внутренней драме, как если бы кто-то бился головой о стену. Однако трудно сказать, в
какой степени исполнители способны это передать, а слушатели – ощутить. С подобными трудностями мне
приходилось сталкиваться (недавно – в полном скрытой энергии произведении финского композитора
Кайи Саариахо «Театр Грааля»), – и я неизменно старался их преодолеть. Могу сказать одно: я счастлив, что помог рождению многих сочинений, в том числе и концертов Валентина Сильвестрова и Кайи Саариахо.
Прослушав запись «Посвящения» (с оркестром Мюнхенской филармонии под управлением нашего общего
друга Романа Кофмана), я невольно воскликнул: «Смерть в Венеции», и после короткой паузы добавил:
«Смерть в Киеве». Может быть, это прозвучало провокационно, однако в моих словах не было ни скрытых
намеков, ни, тем более, упрека. Такую фразу мог произнести и сам Валентин. Мне совершенно не хотелось
навязывать этому сочинению плоское или банальное истолкование. В «Посвящении» Сильвестрова в самом
деле слышался Густав Малер, музыкой которого проникнут фильм Лукино Висконти. Она кажется
отпеванием всего, что желанно, неосуществимо и может быть достигнуто разве что в мечтах. Это —








