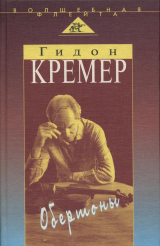
Текст книги "Обертоны"
Автор книги: Гидон Кремер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Еще одна попытка. Облако сна медленно опускается.
Я в океане. Огромный корабль движется к порту и, наконец, достигает его. Теперь остается лишь
64
причалить. Маневр похож на тот, что нередко выполняют самолеты после приземления, неповоротливо
катясь мимо других самолетов, машин, контейнеров, ангаров разных стран, по направлению к входу, неизвестному никому из пассажиров. Маленький верткий автобус с надписью «Follow me»* гораздо более
ловок и подвижен, чем огромный, словно на ходулях передвигающийся лайнер. Здесь, в океанском порту, никакой автобус не поможет. Лайнер сам разыскивает свой причал. Плохо то, что я привязан к борту. Да и
корабль ли это вообще? Нет, теперь мне скорее кажется, что я в грузовике. Я вишу сзади, цепляясь за кузов.
Машина с музыкальной аппаратурой ищет место для разгрузки. Нет, – нет, все-таки корабль.
Необъяснимым образом он разворачивается и наезжает на стену. Охватывает чудовищный страх. Меня же
запросто может раздавить. Видит ли это хоть кто-нибудь? Слава Богу, ничего не случилось. В последний
момент удается спрыгнуть.
Поворот. Монтажный стык. Теперь я в отеле. Быстрее в концертный зал. Вечером предстоит играть второй
концерт Шостаковича, дирижирует Ростропович. (Только пять лет спустя мне действительно случится
играть именно это сочинение под управлением Ростроповича.) Концерт уже начался. В первом отделении
исполняют «Прощальную симфонию» Гайдна. Лишь по пути в зал я замечаю, что не переоделся. Где
костюм? Забыл? Стрелки часов движутся с угрожающей скоростью. Бессмысленный телефонный звонок —
задержка. Может быть,
* Следуйте за мной (англ.)
65
меня на сцене уже ищут? «Нет, позвоните позже, сейчас не могу!», – говорю я и кладу трубку. Скорее, скорее, нельзя заставлять себя ждать. Я втягиваю Анну в водоворот паники.
Пересекая улицу, мы видим музыкантов, выходящих из зала. Они играют темы из «Прощальной симфонии».
Значит ли это, что концерт не состоится? Или антракт закончился? Некоторые оркестранты строят мне
гримасы, как бы говоря: «До тебя очередь вообще не дойдет». Ужасно. Что ужасно? Ростропович? Публика?
Гайдн?
По пути становится понятно, что я, вероятно, должен был играть с Ростроповичем Гайдна. Почему, собственно? Мы же и не репетировали вовсе. Ни Гайдна, ни Шостаковича. Что будет, если я пропущу одно
из своих вступлений? Признаюсь самому себе, что боюсь с ним играть. Мы не встречались «с тех пор».
Чувство неулаженного конфликта продолжает преследовать. Надо было увидеться с Ростроповичем, по
крайней мере, до начала.
Ну вот я и в театре, ищу маэстро. Его уборная полна народу. Пытаюсь найти знакомые лица, узнаю только
кинорежиссера Григория из Москвы. Каким образом он здесь? Может быть, он мне что-нибудь объяснит?
Зову, и не получаю ответа: Григорию, поглощенному разговором, не до меня. Или не узнает? Что
происходит?
Антракт подходит к концу, и тут я обнаруживаю, что мне не хватает черных туфель и запонок. Может, кто-нибудь одолжит? Кстати, где ноты? Их я еще тоже не видел. Настроить скрипку невозможно – колки не
держат струны и просто прокручива-
66
ются... Ростропович не появляется. Публика рассаживается по местам. Что сейчас будет?..
Конец сна оборван, сквозь облако прорезается пронзительный звонок в дверь. Срочная почта от, как всегда, неутомимо-добросовестной Рут. Выпрыгиваю из кровати и замечаю, как ноет от усталости тело. Валерьянка
только начала действовать. С трудом попадаю в рукава халата. С пакетом в руках отправляюсь на кухню и, попивая кофе, чувствую необычайную головную боль.
Отчего это? Корректура? Корабль? Концертный зал? Анна? Шостакович? Понятия не имею. Пора работать.
Рукопись ждет. Первую главу нужно срочно завершать. Убрать «также-и без того-но-или», закончить
«Ленинградское интермеццо» и раскрыть скобки. Как же мне со всем этим справиться?
Москва. Много лет спустя сон повторяется. Но самое смешное происходит в действительности. Вечером
выступаю с концертом на «Декабрьских вечерах». Зал переполнен, духота; вентиляции никакой.
Настраиваю скрипку перед «бисом» – и колки в самом деле проворачиваются...
Розы-неврозы
3накомый предконцертный сон – ожидание выхода на сцену или даже само выступление, во время
которого надо играть нечто, чего не знаешь. Боязнь провала. Откуда она берется? Не оттого ли, что нам с
детства внушали: провал – это позор, это следствие бессилия, провалившегося ждет наказание?
Откуда берется этот страх, которому лишь задним числом можно придать юмористическую окраску? Разве
срывы не естественны? Разве даже боги не ошибаются?
Не следует ли скорее воспитывать в детях большую непосредственность, допуская возможность неудач и
ставя выше всего способность радоваться и быть смелым?
Чаще происходит противоположное. Взрослые переносят на детей свои страхи, свою осторожность, свой
скептицизм, свою усталость, свою пассивность, свои амбиции.
68
Так рождаются разочарования и неврозы. Бесспорно, ничего нового. Но смотрел ли кто-нибудь на сцену, задаваясь вопросом, сколько искалеченных душ ищет самоутверждения в творчестве? Как бы артиста
высоко ни ценили, ни восхваляли и ни любили, – успех не может залечить его глубокие раны. Что же это?
Источник творчества или признак гибели? Торжество искусства или расплата за преданность ему? Так или
иначе, неврозы имеют место постоянно. Этим пользуются и врачи-психоаналитики, и менеджеры. Потому
сны о провале становятся повседневностью, а повседневность превращается в кошмар.
Причуды
Известный немецкий критик Иоахим Кайзер написал однажды в «Süddeutsche Zeitung» о моих «причудах».
При этом имелась в виду всего лишь замена в концертной программе.
Признаю право любого человека возражать против тех или иных, понятных или неожиданных изменений
музыкальных программ; однако должен сказать: ничто не казалось мне в контексте статьи более странным и
чужим, чем понятие «причуда». Мы с моим преданнейшим партнером Олегом Майзенбергом прилагали все
возможные усилия к тому, чтобы выстроить осмысленную драматургию концерта. По ходу турне нам
пришлось убедиться в том, что намеченный нами и опубликованный устроителями репертуар оказался
перегружен. Мы постарались найти более приемлемое решение. Возможность вносить изменения и
поправки – добродетель или причуда?
У каждого из нас свои странности. Одни удается скрыть, другие бросаются в глаза.
70
Вспоминается коллега, который во время напряженных репетиций регулярно подскакивал и требовал
устроить перекур. Слабость другого обнаружилась лишь после нескольких недель совместной работы: в
любом отеле, где бы мы ни остановились, он прежде всего настаивал на том, чтобы сменить номер, независимо от того, был ли новый лучше прежнего. Для него важнее всего оказывалась процедура переезда!
Таким же образом он менял место в каждом самолете. Причина его привередливости осталась невыясненной
– мне казалось неуместным любопытствовать.
Знакомы мне и музыканты, начинающие репетицию лишь после чашки кофе, и пианисты, которым банкетка
всегда кажется слишком высокой или чересчур низкой. (Это как раз еще объяснимо с профессиональной
точки зрения – за годы работы тело привыкает к определенному положению.) Одни непременно должны
придти в зал за час до начала концерта, другие вбегают за минуту до выхода. Кому-то обязательно нужно
поесть перед выступлением, иные каждые два дня отправляются к скрипичному мастеру или к настройщику
роялей, считая, что их проблема – в инструменте. Многим кажется, что «ля» во время настройки дается
слишком низко или высоко, или их выводит из себя слепящий свет прожектора.
Список можно продолжить, но в мою задачу не входит перечень людских слабостей или достоинств. Хочу
лишь напомнить о том, что и так хорошо известно: музыканты обладают чувствительны ми душами, требующими осторожного обращения.
71
У каждого художника взрывчатая психика. Цель должна сводиться к тому, чтобы употребить этот динамизм
на пользу искусству. Нашему окружению надлежит иногда принимать меры предосторожности, как для
защиты своих эмоций, так и оберегая наши.
Знаю ли я целительное средство? Одно, надежное, могу порекомендовать сразу же: не поддавайтесь панике, или – по-американски – «Keep cool!» Другой «эликсир» скорее похож на предостережение: не забывайте, мы не только играем на инструментах, каждый из нас – сам инструмент, зависящий от погоды и
настроения. В отличие от электроники внутри нас нельзя зарядить аккумулятор или поменять батарейки.
Произведение искусства возникает не по заказу, а лишь – и то в случае счастливого стечения обстоятельств
– благодаря исключительной концентрации художника и его готовности к самоотдаче. Внешний мир, люди, непосредственно нас окружающие – нередко оказываются той зараженной и отвлекающей средой, которая не только не сопутствует удаче, но часто препятствует ей. Горе артисту, художнику, попадающему
в трясину всеобщего интереса или в поле негативной зависимости.
Волшебные мгновения творчества, как подлинные драгоценности, – редкость в мире, переполненном

побрякушками.
СТРАНСТВУЯ
Слава
Большей части человечества быть знаменитым представляется целью, к которой надо стремиться, чем-то
весьма желанным и вдобавок приятным. Но неужели вам действительно нравится опасность быть узнанным: на прогулке в чужом городе, во время завтрака в известном отеле, в концертном зале, где часто выступаешь
или в театре, в котором еще ни разу не был, – одним словом, везде? Ни малейшей роли при этом не играет, находитесь ли вы здесь частным образом и предпочитаете остаться инкогнито, или (в соответствии с
повсюду развешанными афишами) выступаете в качестве звезды сезона и, тем самым, как бы отданы на от-куп публике. Неужели вам могут доставить удовольствие эти взгляды, давно знакомые и надоевшие?
Неужели вам может быть по душе ожидание следующего хода в этой игре? Например, приближение
безликой фигуры, возникающей в тот самый момент, когда вы погружены в беседу со своей спут-75
ницей, дабы прервать разговор вопросом: «Не вы ли?.. Не хочу беспокоить, но не могли бы вы...» Автограф
неизбежен – «здесь, пожалуйста, с датой. Вас не затруднит добавить мое имя?..» И даже если все это
происходит вполне невинно и произносится дрожащим от почтения голосом, не захочется ли вам, в конце
концов, надеть шапку-невидимку? Однажды я пожалел об ее отсутствии, будучи узнан посреди Индийского
океана...
С улыбкой вспоминаю господина, заговорившего со мной в фойе одного из концертных залов Нью-Йорка и
не стремившегося получить автограф. Он сказал традиционное: «Вы столько раз здесь выступали, мы так
наслаждались вашей игрой, когда вы снова приедете?..» – и неожиданно добавил: «Простите, напомните, пожалуйста, ваше имя... Вы ведь Аккардо?..» По крайней мере, в тот раз имя коллеги сыграло роль
милосердной шапки-невидимки. Дорогой Сальваторе, я твой должник!
Постоянное место жительства: «Hotel»
Eсли переезжать из отеля в отель, где человека преследуют по пятам самые разнообразные шумы, можно без
труда стать защитником окружающей среды и стремящихся к покою людей. В надежде, что когда-нибудь
возникнет некая общественная сила, типа Greenpeace, способная потребовать остановки ремонта всюду, где
живут люди, не могу отказать себе в удовольствии составить предварительный список звуков, попадающих
в категорию шумов. Хоть мне и доставляет удовольствие писать о них, испытывать их в жизни далеко не
было радостью. Итак:
– движение лифта (пассажирского или грузового) вверх-вниз, с остановкой и без;
– звонок телефона у дежурной в коридоре или у соседа по номеру;
– будильник, которым пользовался предыдущий постоялец и который остался невыключенным;
– звонки – случайные, неправильно соединен-
77
ных обитателей гостиницы, и неслучайные: телефонистка была не в состоянии запомнить вашу просьбу не
соединять до определенного часа;
– телевизор, с недавних пор обязательный в каждом номере и включенный у соседа на полную мощность;
– вздохи или любовные стоны за скорее символической стеной – неизбежность в отелях с малым
количеством «звезд»;
– плеск душа или воды в ванной, которой наслаждается рядом живущий сосед поздней ночью или ранним
утром;
– цветы и пять кило фруктов или конфет, доставляемые в день концерта от фирмы звукозаписи – как раз
в момент, когда, наконец, ложишься отдохнуть после долгой репетиции или утомительного путешествия;
– горничная, одержимая желанием до конца своей смены отдать вам рубашку из стирки;
– служащий гостиницы, обязанный пополнить мини-бар в номере: его настойчивому стуку в дверь
табличка «Don't disturb»* не помеха;
– часы, вмонтированные в прикроватную тумбочку, отмечающие каждую минуту маленьким «тик»;
– кран в ванной комнате, откликающийся на этот «тик» ритмичным «клак» – звуком падающих капель;
– дребезжание трамвая, которое врывается в незакрывающееся окно с утра до поздней ночи;
* «Не беспокоить» (англ.)
78
– кондиционер, хоть и заглушающий трамвай, но издающий звук разгоняющегося самолета на стартовой
полосе;
– холодильник, который, автоматически включаясь и выключаясь, вторит кондиционеру;
– строительные работы, в соответствии с международными, всемирными, не ведающими границ планами
разворачивающиеся именно за углом отеля, в котором вы остановились;
– то же самое под ногами или над головой: ковры укладывают, стены красят, мебель переставляют...
– наконец, перестройка гостиницы как пик заботы о жильцах (будущего).
Тут у меня кончается дыхание, хотя можно продолжить без труда перечень всего, что придает жизни в отеле
бесконечное разнообразие. Защитные меры? Ну, разумеется. Об избавлении нас от шума, – этой
нестерпимой музыки странствий, – заботится современная промышленность.
Уши-беруши
То, что так симпатично названо по-русски, существует и в Инострании. Восковые шарики Ohropax знают
все. На практике это надежный способ борьбы против всякого рода шумов. Фирма гарантирует
существенное ослабление фона при соблюдении правил пользования. В реальности – в лучшем случае
двадцать пять процентов ослабления шума, что, конечно, сильно отличается от двадцати пяти децибелов, обещанных рекламой. Но и двадцать пять процентов – пусть скромное, но существенное облегчение, если к
тому же учесть, что комочек в ухе создает и целительный психологический эффект. Решить, что вы ничего
не слышите – прямо-таки достижение аутогенной тренировки. (Как хочется заткнуть уши и во время некоторых концертов!)
Как бы то ни было, вы лежите, наконец, в постели, наслаждаясь обманчивой тишиной. Хорошо, если эта
штука не давит на ухо изнутри. Если вам
80
повезет, вы найдете удобное положение для головы, в котором комок не выпадет или не переместится. Но
это-то сразу заметно, – аварийная система врывающихся звуков включается, так сказать, автоматически.
Сколько времени еще есть в запасе? С этим вопросом, родившимся в подсознании, вы пытаетесь заснуть.
Опоздание самолета, задержка багажа, затянувшаяся репетиция, невероятно медленное, так и хочется
сказать, на индийский лад, обслуживание в найденном с трудом ресторане, бессмысленное, утомительное
интервью, данное по настойчивой просьбе менеджера оркестра – все это стараешься стереть из памяти.
Если усталость достаточно сильна, и волшебный Ohropax не забыт, то удается уснуть.
Может случиться и по-другому. Просыпаюсь. Где же сегодня проклятый выключатель?! Наконец-то! Почти
шесть вечера! Где я, собственно? Узнаю гостиничный номер: Лондон. Скоро заедет машина. Что там
говорил мой менеджер Терри? Шесть пятнадцать? «A lot of traffic»,* – пообещал он. Концерт начинается в
половине восьмого. Festival Hall – зал, который я не слишком люблю. Зато Риккардо Мути – как хорошо
он сегодня репетировал! Как редко случается, что дирижер уважает солиста и тратит на него время.
Но что за странное ощущение в ухе? Почему так плохо слышно? Проклятый Ohropax! Часть ватно-воскового комка застряла. Что делать? Вынуть самому? Нет, в самом деле – наваждение. Гадкая шту-
* Пробки на дорогах (англ.)
81
ка проваливается еще глубже! Что делать? Быстрее одеться – Терри Гаррисон, мой английский менеджер, уже ждет. Внизу в холле: «I have a problem – a real one».* Едем к врачу. Какое счастье, что приятель
Гаррисона в этот час еще на работе. «Don't worry», – заявляет он, – «I'll fix it... Give me ten minutes».** Ог-ромная порция воды из шприца делает свое дело. Ухо свободно. Быстрее в зал... The traffic... Дождь меняет
представления о скорости. Лондонцы все равно говорят: «Nice day today, isn't it».*** Когда мы приезжаем, оркестр уже играет увертюру... Едва успеваю настроить скрипку. О том, чтобы разыграться, и речи нет.
Аплодисменты при выходе. Звучит вступление -Шуман: гениальный, но все еще недооцененный концерт.
После долгого tutti начинается мое соло. Что такое? Все слышится примерно вдвое громче: каждая
царапина, каждый вздох, каждое прикосновение смычка к струнам. Как мне потом объяснили, шприц со
струей воды удаляет из уха также и естественный фильтр.
С каждым движением смычка растет чувство, что я произвожу только шумы – даже в поэтичнейшей
второй части. Вспоминается шуточное определение скрипичной игры – «трение лошадиного хвоста о
кошачьи внутренности».**** Какая пытка! Наконец-то кода. Овации. Рукопожатие Мути. Концертмейстера.
Заметил кто-нибудь? Надеюсь,
* У меня проблема, настоящая (англ.)
** Не беспокойтесь, я справлюсь. Дайте мне десять минут (англ.)
*** Славный сегодня день, правда? (англ.)
**** Из «Словаря сатаны» Амброза Бирса
82
никто. Публика в этом не может разобраться. Меломаны воображают, что получили удовольствие в
соответствии с высокой ценой билета. Пресса все равно найдет, к чему прицепиться: поздний Шуман,
«критический период»...
Пример не единственный. В Берлине то же самое произошло еще раз. Тут я решил быть хитрее и не пошел к
врачу перед концертом. Решил, что справлюсь сам. Чего только не удается пальцам, так ловко
превращающим в звуки маленькие черные точечки партитуры. Во время второй части концерта Бетховена
пришлось изменить мнение о способностях моих пальцев. Когда я захотел исполнить очередной пассаж
особенно романтично, у меня перехватило дыхание, и я поневоле сглотнул. Тут же стало ясно, что именно
этого и следовало избегать. Вместе с глотательным движением застрявший кусочек Ohropax провалился
непосредственно в слуховой канал. Тишина, которой полагалось воцариться в зале, завладела моим ухом, —
оно совершенно оглохло. Весь финал был доигран на «автопилоте». Интонацию контролировали лишь
пальцы. Музыка разливалась вокруг меня, но могу сказать, что я присутствовал при этом лишь наполовину.
Ситуация была весьма гротескной: теперь я лучше понимал, что приходилось испытывать глухому Бетховену. Так что, в некотором смысле, исполнение оказалось исторически достоверным. А Николаус
Харнонкур, некоронованный король всего аутентичного, стоял рядом, поглощенный дирижированием, не
подозревая о том, что происходит во мне.
83
Длинный шнур – короткие гудки
Изобретатель телефона наверняка полагал, что превращает мечту человечества в реальность. Многие его
современники, вероятно, испытывали совершенно неведомые до того чувства, получив возможность, несмотря на расстояния, стены и границы, общаться друг с другом, – точнее сказать, слышать друг друга. С
тех пор телефон играет в нашей жизни важнейшую роль. Иногда он даже может заменить собаку или кошку.
Телефонные разговоры помогают преодолевать одиночество; мы звоним, спасаясь от скуки или стресса, по
делу и без. Так или иначе, все мы давно рабы сего аппарата. А с появлением факса наша зависимость от
технологии, заменяющей живое общение, только возросла.
Разумеется, давно в ходу усовершенствования, призванные, с точки зрения самих создателей, облегчить
связь: к примеру, кнопка «Ждите», отныне
84
собеседник может прямо посередине фразы внезапно объявить: «Простите, меня вызывают по другой
линии», – и на некоторое время как бы провалиться сквозь землю. Иногда он даже ничего не говорит, – вы
внезапно слышите в трубке концерт Моцарта или полную тишину, и предоставлены самому себе. Ничей
механический голос не докладывает, когда вами снова займутся. Лишь щелчки в аппарате, при заокеанских
разговорах звучащие особенно отчетливо, напоминают о том, что доходы почты, отеля или телефонной
станции продолжают расти и в эти решительно ничем не заполненные минуты.
Почему собеседник покинул вас в одиночестве, остается, как правило, в тайне. Даже если у него важный
деловой разговор, вас это все равно не касается. Тишина в трубке или музыка призваны оказывать
успокаивающее воздействие. Некрасиво только то, что собеседник оборвал общение с вами посреди
разговора. Многие факты внешнего мира могут резко оборвать интимность диалога: грохочущий трамвай, шум на лестнице, входящая секретарша, официант со счетом за обед – все как бы нарочно пущено в ход, чтобы не дать вам высказаться.
Слышу голоса защитников рациональности и деловитости. Они смотрят на все с другой, полезной стороны, и превозносят технику. Скажем им: каждый вправе выбрать, нравится это ему или нет. Что касается меня, следует признаться – как только я слышу «Ждите...», я тут же опускаю трубку. Тогда я обретаю
собственный покой – не тот, который навязан мне кем-то другим.
85
Одиночество в ожидании звонка. Тоска по человеческому голосу. Вспоминаю монодраму Кокто. Кажется, больше никому не удалось так искусно воссоздать связь между отчаянием и телефонным аппаратом. Узнать
на собственном опыте, что такое быть отрезанным от мира, можно по совсем простым причинам —
неполадки на станции, кто-то споткнулся о шнур. И вот аппарат онемел. Такое со мною тоже случалось – в
Нью-Йорке ли, Париже, Цюрихе или Москве. Трясти, пытаться аккуратно соединить концы шнура, взывать
к службе ремонта – тщетно. Зависимость от привычного, пристрастие к коммуникации становились тогда
особенно очевидны. Найти работающий автомат в Америке не составляет труда. Но горе тому, кто отдан на
милость французским или русским уличным телефонам, не будучи счастливым обладателем телефонной
карточки или жетона.
Гульд, Рубинштейн и Набоков предпочитали оставаться недосягаемыми для звонков. Кто знает, может быть, я и приду когда-нибудь к тому же мнению. Пока еще отзываюсь.
С чем невозможно смириться, так это с тройными тарифами на телефонные разговоры в отелях, обременяющих жизнь всех «летучих голландцев», гастролирующих музыкантов и деловых людей.
Владельцам отелей прекрасно известно, как заработать на чувствах вечных путешественников; они
пользуются этим, в буквальном смысле, не зная границ. И все же телефонные счета – всего лишь
прозаическая мелочь по сравнению с агонией чувств, охватывающей того, кто после долгого
86
ожидания слышит все еще любимый голос, хладнокровно требующий не звонить больше никогда...
Был обеденный перерыв. Мы выступали в фабричном помещении. Рабочие с бутербродами собрались
вокруг импровизированных подмостков. Так называемый культчас заменял политчас. Наша бригада – одна
из тысяч – выполняла просветительскую миссию и, к тому же, обеспечивала себе месячное пропитание.
Кроме меня в нее входили певец, певица, танцевальная пара и традиционный пианист, аккомпанировавший
всем. От него зависели все, в особенности танцоры, они исполняли, как было принято в таких программах, вальс Шопена, который по неизвестной причине всегда называли «Седьмым». Чтец иногда выступал с па-триотическим стихотворением и одновременно выполнял роль ведущего – это приносило ему двойной
доход. Сам я, невзирая на титул «Лауреат международного конкурса», был еще студентом и представлял
скорее исключение среди профессионалов филармонии. Зато исполняемые мною вещи,– «Кампанелла»
Паганини и «Мелодия» Чайковского, – в точности соответствовали обычным программам таких бригад. Я
все еще был «невыездным» и использовал всякую возможность для выступлений.
В тот день благородная мелодия Чайковского оказалась буквально смята: звонивший вблизи с подмостками
телефон, к которому никто не подходил, регулярно вмешивался в наше выступление.
87
Тем не менее, мы с пианистом Юрием Смирновым доиграли пьесу до конца. Советская система воспи-тывала в своих гражданах стойкость и чувство долга, музыканты должны были обладать добродетелями
солдат, способностью бороться до конца. Мы были, так сказать, на посту. В данном случае – на
музыкальном. Служил ли час культуры запланированному просвещению рабочего класса, не берусь судить.
Телефон же продолжал звонить.
Двенадцатью годами позже, в 1988-м, я с коллегами играл поздние квартеты Шостаковича в маленькой
церкви в Бостоне. Наше выступление проходило в рамках первого американо-советского фестиваля. К тому
времени мне уже восемь лет как было не дано выступать в Советском Союзе. Но я всегда стремился
перебросить мост к оставленной мною Москве. Организованный, главным образом, американскими
энтузиастами фестиваль то и дело обнаруживал коварные провалы в самодеятельность. Выбранные для
выступлений места, время начала, реклама – во всем не хватало профессионального опыта.
Когда мы вечером, выступая в церкви, начали концерт Тринадцатым квартетом Шостаковича, в
непосредственной близости от сцены пронзительно затрезвонил телефон. Раз, другой, третий, четвертый.
Напряжение этой музыки, проникнутой ожиданием неминуемой смерти, исчезло бесповоротно. Мне не
оставалось ничего другого, как прервать выступление. После того, как все двери были с шумом захлопнуты, мы приступили ко второй по-88
пытке. Уже после концерта мне пришло в голову, что я уже однажды пережил подобную ситуацию.
Вспомнилась фраза из учебника обществоведения студенческих времен: «Два мира, две системы, два образа
жизни». Ничего подобного, мир один и тот же. Звонок телефона всегда означает сбой: в разговоре, в
чувствах или в мысли. Телефон, быть может, полезен во многих областях жизни, – музыке он не нужен.
Ordinario*
Дни и ночи в уединенной части планеты, под никогда не темнеющим августовским небом Арктики, заставляли меня снова и снова задумываться о ритме обычной концертной жизни, несравнимой со здешним
покоем. В самом деле, можно, вслед за Арно Грюном, говорить о «нормальности безумия».
Кристоф фон Дохнаньи сказал мне как-то полу всерьез, полу в шутку: «Ни одна собака нашего ритма жизни
не выдержит – сбежит». Печально, но правда...
* Повседневность (итал.)
Будни
Пробуждение... Кошмары толпятся у выхода. Чье сегодня превосходство? Кому отдается предпочтение?
Немому крику? Гадюке? Удушению? Вам, господин Утопленников? Или вам, mademoiselle Недотрожкина?
Декорация – винтовая лестница без начала и конца – олицетворяет безнадежность. Всюду нагие артисты, трупы...
Вчера увиденная постановка Роберта Уилсона, как всегда насыщенная медленными, отточено корявыми
движениями персонажей, задает тон угасанию мира грез... Постепенно возникающий в сознании свет дня
сопровождаем оглушающей волной едва слышной музыки. Последняя решительная попытка уйти от
преследователей заканчивается тупиком: спасительное движение совершенно невозможно, – все части тела
застыли, голос пропал, дышать нечем. Рука под подушкой, голова под одеялом. Ничему не дано
пространства. Все за-
91
перто, заколочено и неприступно, как государственные границы. И только приходя в себя, ощущаешь, что
еще недавно столь неумолимо реальный железный занавес (до сих пор, правда, давящий своей тяжестью в
до боли знакомом Шереметьево), отдалявший миры друг от друга, все еще стоящий на пути к друзьям, – что
там, что здесь – этот псевдосимвол идеологии, принадлежности, разделения, – постепенно теряет свои
очертания.
«Всего лишь сон». Очередной страшный сон.
Реальность возвращается, тени исчезают. Незнакомый гостиничный номер вечером все-таки «обманул»
своей темнотой. Шторы на окнах остались приоткрытыми и теперь пропускают лучи утреннего солнца.
День заявляет о себе ускоренным движением транспорта в сочетании с нарастающим шумом водопровода за
стеной. Становится ясно, что пора вставать, завтракать, работать, писать, звонить, и... торопиться в
аэропорт.
Школьные годы давно позади, и все же свет зари напоминает об уже тогда навязанной необходимости
просыпаться. Отголосок давних лет. На часах 6:38... Боже мой, счастливцы, у которых есть еще время
потягиваться, грезить, любить...
Бывает, конечно, и по-другому.
Неземным медленным шагом вступающая или упархивающая Аврора решительно прогоняется, призванная
к порядку то ли телефоном, то ли будильником (треножником фабрики «Слава»?!). Техника заявляет о себе, оспаривая право на мечтательность. «Пора, мой друг, пора» прозаически переводится: «Надо, Федя, надо»...
Ее превосходительство
92
Точность выкладывает козырный туз перед утренней феей. Поднятая до небес Futura с электронной
гордостью заявляет о своем главенстве. Ей не до сантиментов.
Седьмое ноября. Когда-то, еще недавно – подобный аксиоме политический праздник в Советском Союзе.
День начинается, суета преобладает: укладка чемодана, перенесение на бумагу (вечерних, ночных, иллюзорных) идей, чтение газеты, правка рукописи (этой!), просьба вызвать такси, две ложки сахара в кофе, оплата счетов за гостиницу. Параллельно прокручивается «магнитофонная» пленка: ему – позвонить, ей —
сказать, это – посмотреть... (Him, her, to do, not forget, il y a des choses, comme toujours...)*
7:49. Все позади. Едешь в аэропорт, сидишь за столом в транзитном зале (с карандашом, ручкой, резинкой), пытаешься зафиксировать уже убежавшие, потерянные мысли; мчишься сломя голову сквозь Duty Free в
обреченной на неудачу попытке купить что-то осмысленное для себя, для друзей в очередном городе, для
дома и семьи к Рождеству... И хотя чемодан уже собран и сдан, предыдущий вечер продолжает настойчиво
преследовать вихрем фрагментов: скомканный пассаж во время концерта, чей-то обидный комментарий, собственная растерянность перед лицом банальности, воинственная размолвка перед сном и неудачная
попытка, подавив чувство вины, заснуть... Вот она – Музыка аэровокзала, насквозь алеаторичная и, как в
аду, – лишенная коды.
* Ему, ей, сделать, не забыть (англ.), есть вещи, как всегда (франц.) 93
Потом в самолете, – поиски места, куда еще можно положить скрипку; просмотр утренней прессы
(рецензия на концерт?); ожидание взлета. Ни безукоризненно вышколенная улыбка стюардессы (не
скрывающая слоев радужной косметики), ни добрая сотня пассажиров вокруг с отглаженными
воротничками и пестрыми галстуками не помогает отвлечься от неумолчного тарахтения души на холостом
ходу неприкаянности. Прохладный, вряд ли когда-нибудь всерьез заваренный чай не поднимает тонус, а








