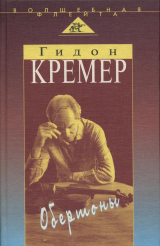
Текст книги "Обертоны"
Автор книги: Гидон Кремер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
– Очаровательные детишки, посаженные заботливыми родителями в первый ряд и неутомимо отбивающие
ножками какой-то алеаторический такт.
– Запоздавшие слушатели, медленно отходящие от стресса. А также те, которым во время последних
аккордов важнее всего без очереди получить пальто в гардеробе.
Нет, поистине: сцена – одно из неуютнейших мест на свете. Кто не верит мне на слово, пусть проверит на
практике.
Пацифизм, юмор и музыка
Путешествие из Мюнхена в Испанию началось с досадной неожиданности. Вскоре после того, как самолет
набрал высоту и нам принесли обед, послышался шум – какой-то странный свист. Самолет трясло, лица
стюардесс и стюардов выражали панический страх, как они ни старались его скрыть. Они носились по
проходам, собирая бутылки и подносы. Пассажиров попросили подготовиться к посадке. Зажглись
таблички: «Не курить».
Примерно через двадцать минут испуганные пассажиры увидели под ногами цюрихский аэропорт Клотен.
Напряженное молчание. Из кабины пилота никакой дополнительной информации не поступало. Вид
приближающейся посадочной полосы с пожарными и санитарными машинами принес некоторое
облегчение, но все еще никто не имел представления о том, что было причиной вынужденной посадки. Это
стало известно лишь позже. Самолет терял топливо; вытекая, оно могло по-123
пасть на какую-нибудь горячую поверхность, – видимо, такая опасность была велика. Сутки пришлось
ждать, прежде чем можно было лететь дальше в Мадрид.
Наша программа заканчивалась «на бис» специальным номером. «Фердинанд», произведение английского
композитора Алена Риду для скрипки и чтеца, сопровождал нас во многих странах. Актерский талант Елены
и ее способности к языкам оказывались незаменимы. Успех сочинению был обеспечен на немецком, французском, итальянском и даже на родном ему английском.
Только не в Испании. Герой истории Фердинанд был юным миролюбивым бычком, предпочитавшим битвам
цветы. Он был, так сказать, пацифистом. То, что во всем мире казалось трогательным или даже забавным, иные испанские слушатели сочли едва ли не оскорблением традиции корриды. Некоторые поклонники
музыки (или боя быков?) с возгласами возмущения покинули зал. Они решили, что мы просто над ними
насмехаемся. Догадались мы об этом лишь после того, как несколько раз услышали с треском хлопнувшие
двери зала. Конечно, большинство публики вопреки всему высоко оценило наш «бис». Пацифизм, юмор и
музыка, – что может доставить людям большую радость и успешнее способствовать преодолению нацио-нальных различий?
В другой раз на гастролях в Испании с Камерным оркестром Европы не меня позабавила публика, а я – и
публику, и моих коллег. В антракте музыканты дали мне бумажную карнавальную ма-124
ску в стиле рококо, которую они в тот день отыскали в одном из магазинов игрушек. Им пришло в голову, что я мог бы, таким образом замаскированный, дирижировать последним произведением концерта, забавным «Moz-Art a la Haydn» Альфреда Шнитке. Согласно партитуре, исполнение начинается в полной
темноте, и только в определенный момент напряжение в первый раз достигает высшей точки, разрешаясь
аккордом при полном освещении.
Дав себя уговорить, и никого об этом не предупредив, я вышел на сцену, в полной темноте натянул маску и
стал ждать. Под маской мне было легко скрыть радость, испытанную мною, когда я увидел, что музыканты
от смеха едва могли удержать инструменты. Слушатели, к которым я стоял спиной, поначалу ничего не
заметили, – только когда я повернулся на поклоны, они стали хохотать.
Тогда, в 1988 году, этим происшествием завершилось первое турне Камерного оркестра Европы, во время
которого я сыграл все концерты Моцарта. Совместная работа с музыкантами, в то время еще совсем юными, была для меня одной из самых больших радостей. Позднее я не раз испытывал счастливое чувство единения
с ними.
На предпоследнем концерте в Мадриде присутствовал и Владимир Спиваков, мой сокурсник по Московской
консерватории, – вместе со своим оркестром, носившим гордое имя – «Виртуозы Москвы». Когда-то
судьба сталкивала нас на международных конкурсах и, казалось, многим нравилось подливать масла в огонь
предполагаемого соперни-
125
чества. Ныне все это в прошлом. Приветствия, поздравления, – все, что полагается при таких обстоятельствах... Назавтра маэстро выразил свое одобрение директору оркестра Джун Мегеннис, сказав ей:
«Очень хороший коллектив, но он мог бы играть гораздо лучше». Наверное, Володя имел в виду:
«виртуознее»?
Картинки с выставки
Чему только – помимо самого инструмента – не находится место в скрипичном футляре: смычки, струны, мостики, карандаши, ластики, очки, талисманы, фотографии...
Я и сам с детства привык хранить в футляре изображения, имеющие для меня особое значение. Портреты
Вэн Клайберна и Жака Бреля, идолов моей юности, фотографии любимых, на чью благосклонность я
рассчитывал. Юмористические открытки (одна с изображением «Св. Интонация»), или фотографии моих
дочерей Айлики и Жижи, – согревали мне сердце. Лика как-то прислала мне открытку грустной обезьянки, вопрошающей: «Пап, ты где?». А фотографии весело смеющейся Жижи, которые все еще занимают
почетное место за смычками, постоянно напоминают о том, чего мне на чужбине недостает.
Так сопровождают нас, музыкантов, те, кто нам дорог, а также пейзажи и символы, сросшиеся с нашей
душой.
127
Между тем, Лика уже выросла и собирается стать актрисой. Это, собственно, и послужило поводом мне и
Александре отправиться с нею на театральный фестиваль в Авиньоне. Хотелось как-то передать юным
дамам восхищение, вызванное во мне постановками Théâtre du Soleil, Арианы Мнушкин и самому увидеть
новые спектакли.
Один вечер все же остался незанятым, и мы, потянувшись к родной речи, собрались на спектакль
театральной студии из Архангельска. Вот уже месяц как они разыгрывали свое занимательное и веселое
представление в рамках фестиваля в Авиньоне.
С опозданием мы вошли в темный зал, спектакль уже начался. Зал, рассчитанный примерно на сотню
зрителей, был полупуст. Мы без труда нашли три места около импровизированных подмостков.
Представление в форме частушек озорно повествовало о деревенской жизни страны, с которой нас
связывает не только язык. У актеров был целый набор реквизита, в том числе, самодельные «музыкальные
инструменты».
Большая деревянная доска с надписью Yamaha, регулярно в конце строфы падавшая на пол, громоздилась
рядом с поющей пилой и создавала если не драматические, то, по крайней мере, акустические акценты.
В конце – ко всеобщему изумлению – актеры направились к нам. В их намерения, судя по всему, входило
познакомить зрителей с жизнью деревни на практике. Высокий актер решительно взял меня за руку и
потянул за собою к сцене. Не подозревая, что я его понимаю, он подбодрил меня словами: 128
«Давай, давай, сейчас Ростроповичем будешь». После чего сунул мне в руки две металлические трубы и
показал, как ими пользоваться. Никому не пожелаю еще раз услышать произведенный мною грохот, ритмически поддержавший самодеятельный оркестр.
У Александры, с энтузиазмом овладевавшей профессией фотографа, был, к счастью, с собой фотоаппарат.
Так что с недавних пор мой скрипичный футляр украшает и снимок, запечатлевший мое выступление в
качестве (мечта моего детства) ударника...
Спектакль, кстати, назывался: «Не любо – не слушай».
При дворе
Публика не всегда состоит только из меломанов и коллег. Туристы, посетившие город, тоже ненароком
оказываются в зале, а иногда – разумеется, реже – принцессы и принцы, королевы и короли. Коронованные
особы не всегда отличаются любовью к музыке и музыкантам. Времена Елизаветы, королевы Бельгии, игравшей на скрипке и бравшей уроки у виртуозов – от Изаи до Ойстраха – остались в прошлом. Хотя
еще совсем недавно владение, по крайней мере, одним музыкальным инструментом было частью
придворного этикета. От этой традиции осталась лишь светская привычка время от времени ненадолго
посвящать себя культуре. Конечно, среди коронованных персон бывают и исключения. Королева Фабиола и
король Бодуэн, например, продолжили традицию музыкальных конкурсов в Брюсселе; королева Испании
София постоянно поддерживает музыкантов. Великая герцогиня Люксембургская, внучка короле-130
вы Елизаветы Бельгийской, которая хорошо помнит свою бабушку-скрипачку, лично выразила мне свою
любовь к скрипичной музыке от Мендельсона до Канчели.
Мои соприкосновения с придворной жизнью были скорее редки. Перечислить их очень легко, хотя короли, князья, первые леди, главы государств, премьер-министры и высокопоставленнные служители церкви
нередко оказывались в числе моих слушателей. Время от времени мне приходилось сидеть с ними за одним
столом, и, разделив ужин, отвечать на стандартные вопросы или рассказывать забавные истории. Что и
говорить, некоторые артисты поддерживают контакты с двором с большим рвением и удовольствием.
Констатирую этот факт вполне объективно, не оценивая его. Случается, такого рода общение бывает даже
приятным, но в целом опыт показывает – все ограничивается непринужденной и поверхностной беседой.
То, что называется small talk, разумеется, на самом великосветском уровне.
Правда, одно происшествие во время такой встречи сохранилось в моей памяти. Случилось оно во время
концерта, посвященного Леонарду Бернстайну в Лондоне. Юбилей композитора почтили своим
присутствием королева Елизавета с супругом, принцем-консортом Филиппом, герцогом Эдинбургским. Нас, музыкантов, после выступления представили высоким гостям. Что к королевской чете следует обращаться
«Ваше Величество», объяснили нам всем, в том числе и милому взволнованному английскому подростку-певцу, солиро-
131
вавшему в Chichester Songs Бернстайна. Появление коронованных особ сопровождалось напряженной
тишиной и вспышками фотокамер. Герцог Филипп и королева шествовали, удостаивая каждого руко-пожатием. «Thank you, Majesty»*. Около юного певца герцог остановился и спросил: «Сколько же тебе
лет?» – «Четырнадцать, your Majesty». «Ну тогда твоя карьера скоро окончится!» Мальчик в замеша-тельстве покраснел, не найдясь с ответом. Королева не слишком улучшила ситуацию, пожелав ему, несмотря на это, всего наилучшего. Высокородным супругам конный спорт был, видимо, ближе, чем
музыка. Для лошади четырнадцать лет, несомненно, более критический возраст, чем для певца.
* Спасибо, Ваше Величество (англ.)
О словах и понятиях
Eстъ известная закономерность в том, что в Америке, стране, называющей вещи своими именами, искусство
– живопись, кино, музыку – относят к разряду «досуг» или «развлечение». Американцы, в отличие от
уроженцев Европы, не стеснены традициями в словоупотреблении. Поэтому информацию об искусстве
американские газеты помещают в раздел «Art and Entertainment»*. В моей японской визе меня уже много лет
называют «Entertainer» (развлекатель). Большая часть поп– и рокпредставлений или бродвейских шоу
идеально подходит под упомянутые рубрики. Тем не менее, примечательно, что в стране, гордящейся
лидерством в области информатики, классическая и современная музыка, как и труд исполнителей, попада-ют в графу «Развлечение».
Чтобы немного прояснить эти рассуждения, хочу подробнее остановиться на понятии «шоу». «То
* Искусство и развлечение (англ.)
133
show» означает «показывать». Для американца «show-off» – «выделиться», «to show off» – «показать себя
в выгодном свете», «удачно продать». Сочетание это нередко используют как выражение восхищения кем-нибудь: «Не really showed off».
То же самое, правда, может оказаться и критическим замечанием в случае неудачи. Оба значения имеют
устойчивое место в разговорной речи. Не заражены ли и мы, представители Старого Света, той же
болезнью? Мы только искуснее скрываем собственную жажду зрелищ и развлечений.
Как-то раз в Аспене (Колорадо) мы выступали в церкви. Плакат, написанный от руки, оповещал, что после
мессы все желающие приглашаются на кофе с пончиками. Мы собирались исполнить гениальный квартет
Йозефа Гайдна «Семь последних слов Спасителя на кресте». Местный организатор, подошедший перед
началом выступления, простодушно поинтересовался: «Guys! When is your show over?»*
* Ребята, когда вы окончите свое шоу? (англ.)
Два мира
В декабре 1975 года я приехал в Таллин. Был канун Рождества. Но не это обстоятельство послужило
причиной моего приезда в прибалтийский город, еще окутанный атмосферой прошлого. Я здесь часто бывал
в гостях, просто любил таллинский воздух и охотно возвращался в этот город, так похожий на мою родную
Ригу. Поводом – как обычно – оказалась моя профессия. Может быть, это звучит слишком официально, потому что немалую роль играла еще и дружба.
Первая симфония Альфреда Шнитке исполнялась во второй раз; как потом оказалось, на ближайшие десять
лет – в последний. Незадолго до описываемых событий эту симфонию партийные чиновники в Горьком
заклеймили как безыдейное сочинение, – на типично советский манер исполнение ее было запрещено.
Эри Клас, наш добрый товарищ и талантливый дирижер, рискнул вставить произведение в программу. В
Эстонии иногда оказывалось возможно то, что в Москве было совершенно безнадежно. По
135
замыслу Альфреда в первом отделении должна была исполняться «Прощальная симфония» Гайдна, – в
качестве, так сказать, Happening'a, напоминания о прошлом. В финале своего сочинения Шнитке, используя
последние такты «Прощальной», как бы цитировал «папу-Гайдна». Мне предстояло исполнить цитату —
несколько тактов из финала, – сидя на балконе среди публики. Программу дополнял сравнительно
малоизвестный двойной концерт Гайдна для скрипки и рояля, темы из которого, вставленные в симфонию, образовывали основу для небольшой импровизации. Оба солиста, Алексей Любимов и я играли по
указаниям Альфреда каденцию, сначала нас сопровождала джаз-группа, которая постепенно должна была
заглушить нас.
Репетиции шли хорошо, ожидание концерта – маленькой демонстрации свободы – казалось, радовало не
только музыкантов. О событии говорили в городе. Симфония уже года два считалась как бы полулегальным, а вернее – даже диссидентским произведением. В какой еще музыкальной столице мира подобное
обстоятельство могло бы стать объектом всеобщего интереса?
За день до концерта ко мне обратился незнакомый человек с просьбой выступить вечером в церкви.
Предложение, которое в любой другой стране можно сделать безо всяких задних мыслей, оказывалось в
данном случае актом почти запретным. В Советском Союзе Рождества официально не существовало, но
праздник, наполовину вытесненный из сознания сограждан, приобретал для многих даже особое значение.
136
Согласившись, я отправился в церковь, так сказать, со скрипкой «подмышкой» (к слову, если в кино кто-то
на самом деле несет скрипичный футляр именно таким образом, я сразу понимаю: режиссер не имеет ни
малейшего понятия о музыке). Было почти шесть вечера и собор оказался полон. Кто-то меня узнал и
показал путь на хоры. Месса началась празднично и торжественно. Как прекрасно звучала «Чакона» Баха!
Мне показалось, что она создана специально для этого случая. Но еще удивительнее оказался контраст с
концертным залом: здесь я был не Гидон Кремер, а сама скрипка, бестелесный голос музыки. На следующий
день ко мне во время генеральной репетиции снова кто-то подошел и прошептал: «Большое-большое
спасибо». Хотя и без этих слов я всегда знал, что делать подарки радостней, чем получать.
Вечер послужил еще одним тому подтверждением. Все мы подарили людям, переполнявшим зал «Эстония», симфонию Шнитке; конечно, это был всего-навсего скромный жест по сравнению с той ролью, которую это
сочинение призвано сыграть в истории музыки.
1977 год. Новый Свет. Майами. Начало моих гастролей с Ксенией Кнорре по США. Наш дуэт выступал в
университете. Жара стояла сильная, несмотря на зимнее время, да и зал казался переполненным. Снова я
играю «Чакону» Баха. И вдруг, внезапно, посреди исполнения, слышу выкрик, второй, третий.
Невыносимый шум вынуждает сделать паузу. Постепенно воспринимаю доносящееся
137
из зала скандирование: «Let our people go, let our people go!»* Кого? Почему?
Лишь позже, за сценой, последовало объяснение: это была демонстрация одной из многочисленных
сионистских групп, требовавших свободного выезда евреев из СССР. В семидесятые годы подобные акции
проходили по всей Америке и отнюдь не являлись редкостью. Я снова заиграл, и снова был прерван. В
конце концов, демонстрантов вывели из зала: полиция? служба безопасности? коллеги? слушатели?
Третья попытка проникнуться музыкой омрачалась напряжением в ожидании новой провокации. Незадолго
до того в Карнеги-Холл на концерте одного из моих коллег на сцену бросили бомбу с краской. Русской
танцевальной группе на подмостки насыпали гвоздей. Я был сосредоточен на исполнении, и все же мне не
давал покоя вопрос: какое отношение ко всему этому имею я? И потом: почему только евреи? В
«социалистическом раю» так много других народов, которые страдают не меньше евреев, испытывают не
меньшее давление системы. Почему же им не иметь такого же права на свободный выезд?.. Кто заступится
за них? Иоганн Себастьян Бах?
* Отпустите наш народ! (англ.)
Размышления странствующего артиста
Постоянно пересекая меридианы и познавая мир в его географическом измерении, имеешь дело с самой
разнообразной публикой. У каждого народа собственный язык, обычаи, опыт и интересы, характер и склад
ума.
Нам, европейцам, трудно понять, что в азиатских странах залы на концертах классической музыки часто
переполнены, несмотря на разницу культурных традиций. Ну, хорошо, здешние жители стремятся к
прогрессу, подчеркивая это с недавних пор массовыми закупками произведений европейской классической
живописи. Культурный контекст, при этом, для многих менее важен, чем капиталовложение само по себе.
Ведь часто цены на произведения искусства растут быстрее цен на золото. Но музыку не назовешь
капиталовложением.
Может быть, японцы, например, уютно дремлют в креслах во имя престижа, чтобы потом иметь возможность сказать своим начальникам: «О, классиче-
139
ская музыка, это так прекрасно!»? Как-то не верится, особенно если вспомнить сосредоточенную тишину в
зале и поистине огромное уважение к музыкантам, какого не встретишь ни в одной другой стране. Толпы
любителей автографов, выстраивающихся рядами ради того, чтобы лично поздороваться с исполнителем за
руку, одновременно завораживают и отталкивают. Зачем только существует этот обычай, иногда
представляющий нешуточную опасность? Недавно мне пришлось на собственном опыте убедиться, каким
болезненным бывает слишком энергичное приветствие. Выздоровление придавленной фаланги пальца
длилось недели. Можно понять некоторых менеджеров, которые оберегают исполнителей, обращаясь к
публике с призывом: «Пожалуйста, никаких рукопожатий». Но это еще не означает, что вам не придется
услышать: «Позвольте снимок!». Недавно в одной книге о Японии я наткнулся на мысль о том, что
потребность в постоянном «щелкании» у представителей этого народа, рождающихся на свет с
фотоаппаратом, ведет свое происхождение от философии Тао. Каждым щелчком они как бы говорят
«Сейчас, сейчас, сейчас». Японцы хотят быть в кадре жизни, лично принимая участие в том, что слышат из
глубины темного зала. Нечто аналогичное, как утверждают, встречается у первобытных племен, где принято
ощупывать чужеземцев. А может быть японские девушки, трепещущие и визжащие от восторга в погоне за
автографом, хотят всего лишь похвастаться перед подругами? Или ведут счет рукопожатиям, которых
посчастливилось добиться? Удивительная, уникальная публика.
140
Я восторгаюсь старательностью японцев, их даром имитации и восприимчивости к чужим культурам, их
невероятным организационным талантом, выраженном не только в пунктуальнейших скоростных поездах
Шинканзен, но и в не менее пунктуальных, за долгое время до гастролей составленных и до тонкостей
продуманных расписаниях для нас. Изменение такого плана становится подчас неразрешимой задачей.
Лишь немногим артистам удается разорвать цепь такой для нас загадочной приверженности к заранее
установленному порядку.
Все это в Англии, не говоря уж об Австралии – отсутствует. Англичане, чьи понятия об уважении
бесспорно не уступают японским, наблюдают за вами весьма внимательно, но обычно на почтительном
расстоянии. Установить контакт с англичанином – как правило, значит долгое время стремиться к этому и, в конце концов, после изрядных усилий быть принятым в определенный круг. А что затем? Затем, по
обиходным представлениям, вы будете окружены теплотой, преданной заботой, обходительностью.
Напряжение, которое я сам, во время посещений Лондона или стремительных проездов через Австралию, вокруг себя распространял, мешало установить более непосредственный контакт. Вполне возможно, что мне
удалось бы лучше понять англичан, если бы я умел перестроиться на «иное летоисчисление». В конце
концов, разве не восхищали меня в юности великолепный «Тристрам Шенди» Лоренса Стерна, а также
Сомерсет Моэм или Бернард Шоу? Не говоря о том, что английский театр я люблю и по сей день, а мой
артис-
141
тический путь начался с романтического концерта для скрипки Эдварда Эльгара и с увлечения операми
Бриттена.
Не хочу быть неправильно понятым: в этих строчках нет попытки охарактеризовать народы, их
темпераменты и обычаи. Боже сохрани! Я пытаюсь всего-навсего безнадежно мимолетным взглядом
путешественника, артиста, обреченного на гастроли и вечные переезды из одного отеля «Interconti» в
другой, разглядеть нечто общее, невзирая на все недоразумения, ошибки, неожиданности, неизбежно
подстерегающие каждого. Я почти никого не знаю, у кого бы нашлось время на более чем беглое знакомство
с театрами Кабуки и Но, или кто посетил бы Британский музей. Последнее мне удалось за двадцать лет
неоднократных наездов в Лондон лишь два раза. Впрочем, всегда есть возможность (легко превращающаяся
в потребность или даже одержимость) познакомиться с национальной кухней. Не только для туристов, но и
для музыкантов. Западные люди – тут нет разницы между японцами, американцами, французами или
немцами – сразу же вслед за жалобами на слишком высокие цены и налоги, – охотнее всего ведут беседы
о ресторанах, которые им довелось посетить.
Говорят, путь к сердцу ведет через желудок. Можно сказать и по-другому: любовь к искусству непосредственно связана со вкусовой железой. Брехт говорил, правда, по несколько другому поводу: «Сперва
жратва, а нравственность потом». У того же Брехта в «Разговорах беженцев» дано понять, насколько сильна
потребность в духовной пище у
142
людей, страдающих от лишений и всякого рода нужды.
Отлично это понимая, я думаю, что мы все слишком избалованы, чтобы оценить подлинное искусство. Не
служит ли концерт попросту поводом для последующего приема? Для ужина, которому присутствие
артистов, зачастую голодных, одиноких или склонных к светскому общению, придает особый блеск, привлекая местных любителей и сообщая унылой провинциальной жизни, как и во времена Островского, долгожданное разнообразие, даже какую-то яркость? Впрочем, если бы я утвердился на сей точке зрения, встреча со священником Йозефом Геровичем никогда бы не состоялась и не родился бы возникший при его
поддержке музыкальный «оазис» Локенхауз.
А аплодисменты? Они выражают одобрение присутствующих, однако и их имеется бесчисленное
множество: бурные или вялые, ритмически организованные или, как реакция на смутившее непонятностью
новаторское сочинение, постепенно затухающие.
Артур Шнабель заметил однажды: к сожалению аплодируют всегда, и после плохих выступлений тоже.
Кроме того, вездесущи и «свистуны», один или несколько; они редко дают о себе знать в концертах и стали
традицией в опере. Однажды я столкнулся с ними в Вене.
Оканчивая небольшое, вполне успешное турне с Польским камерным оркестром под руководством Ежи
Максимюка, я исполнял «Времена года». Этот номер в целом тоже прошел хорошо. И все же после
143
завершающего аккорда (в те две-три секунды, необходимые, чтобы он отзвучал, перед аплодисментами) все
услышали одинокий, но выразительный возглас неодобрения. Что это было? Провокация? Дальний
родственник Вивальди?

Выкрики и свистки. Но и артист может собирать знаки неодобрения. В моей коллекции уже набралось
несколько отличных экспонатов. Этой по-своему почетной реакции удостоились произведения многих
выдающихся композиторов современности – Стив Райх, Гия Канчели, Альфред Шнитке, Артур Лурье, Дьёрдь Куртаг. Обратное – быстро затухающие аплодисменты – пережить труднее, да и понять иногда
нелегко. Не возражать же в самом деле против того, что так называемые Lunch– или Coffee-concerts в
Америке посещают, главным образом, дамы-спонсорши; распоряжаясь финансами и риторически любя
искусство, они, тем не менее, не всегда обладают вкусом или – по причине преклонного возраста —
необходимым для восприятия слухом. Я не утверждаю, что им недостает физической силы, необходимой
для аплодисментов. Совершенно непостижимой остается для меня английская театральная публика. После
превосходнейших спектаклей с лучшими в мире актерами сталкиваешься с распространенной ситуацией —
сдержанно-вежливые аплодисменты. Уважение? К кому? К самим себе?
Во Франции, Голландии или Италии все происходит наоборот. Даже среднее исполнение принимают с
необычайным темпераментом. Невольно спрашиваешь себя: имеет ли все это отношение к
144
самому выступлению, или это просто реакция на легко доступное или популярное произведение? Или на
появление перед публикой носителя знаменитого имени? С общеизвестным вообще нужна особая
осторожность. Однажды в Японии мне объяснили, отчего итальянский ансамбль «I Musici» годами имеет
успех. Оркестр этот может каждый сезон ездить по всей стране, и билеты всегда будут распроданы.
«Почему?» – спросил я в удивлении. Оказывается, запись «Времен года» с «I Musici» принадлежит к
обязательной школьной программе по предмету «музыкальное воспитание». «Промывка мозгов» касается и
вкуса...
А Германия, Австрия, Швейцария – страны, в которых я, покинув Москву, чаще всего и с наибольшим
удовольствием выступал? Благодарность за внимание и поддержку не должны сказываться на
объективности суждения. К счастью, оно (иначе было бы вдвойне сложно об этом писать) во многих
отношениях положительно. У публики, говорящей на немецком языке, все еще существуют интерес к
музыке, потребность слушать, энтузиазм и дисциплинированность. Могу это утверждать, – тем более, что я
и сам отчасти немец по происхождению. Но хотелось бы сказать несколько слов о традиции. Она, как и
всюду, опасна. Непрофессиональные журналисты и общая склонность к предрассудкам легко приводят к
фальсификациям, увы, и в Германии. Журналисты охотно цитируют Адорно, и потому все еще считают
музыку Сибелиуса и Рахманинова чем-то второстепенным. Может быть, я слишком строг? Или слишком
требователен? Мо-
145
жет быть, я забываю, что и в минувшем веке условности определяли повседневную жизнь культуры, – не
менее, чем в наши дни? Что подлинные шедевры были созданы благодаря таким личностям, как князь
Разумовский или Надежда фон Мекк? Много ли еще таких меценатов на свете? Мы, исполнители, подчас
должны быть благодарны именно любителям за то, что вообще существуем, можем творить, рассчитывая на
заработок, а порой даже вести привилегированное существование.
Хочется низко поклониться всем, кому искусство не чуждо. Но это не значит отвернуться от противоречий.
Мы, артисты, привыкли считаться неприкасаемыми, – кроме как для критиков. Мнимая близость, возникающая нередко во время приемов, льстит гостеприимным хозяевам. А мы, слыша потом: «Ах, он так
мил, я, право, не ожидала», невольно думаем: Господи, за кого они нас принимают? За монстров?
Справедливости ради заметим: и публика нам порой чужда. Мы в лучшем случае ощущаем это по степени
тишины в зале. Когда она воцаряется, нам одинаково милы японцы и англичане, французы и американцы, итальянцы и русские. Увы, случается это редко. «Тишина, ты лучшее из того, что слышал...»
ЧАРОДЕИ И МАСТЕРА
Unio mystica*
Бывают люди, которые возникают ниоткуда. Они просто оказываются рядом так естественно, как будто
всегда были. К таким людям относится Арво Пярт. Встретились ли мы впервые на выступлении группы
«Hortus musicus» в Риге, или нас связала друг с другом близость к Альфреду Шнитке; а может быть, в один
из моих визитов в Таллин Арво пригласил меня к себе? Теперь это уже не имеет значения. Важнее другое: Арво остается эстонским композитором, хоть и живет с австрийским паспортом в Берлине. Нет, я не имею в
виду национальной ограниченности. Неторопливо-многозвучная музыка Арво Пярта, родившаяся в
Эстонии, носит интернациональный характер. Для многих людей самого различного происхождения она
звучит едва ли не сакрально.
Чем можно обосновать такое утверждение? Дело может быть в том, что его музыка не просто «волну-
* Согласно лютеранской религии, соединение души с Богом в вере (первонач.: сущность средневековой
музыки).
149
ет». Она требует проникновения в нее слушателя, совместного с ней дыхания. Она не обращается к вам
извне, она действует как бы изнутри, как нечто, живущее в вас самих. Когда Арво еще только задумывал
«Tabula rasa», произведение, которое было как бы декларацией нового стиля, – названного Tintinabuli по
звону колокольчиков и противостоящего прежней, более внешней манере композитора, – он спросил меня, имеет ли он право сочинить что-либо совсем простое, совсем тихое? Разумеется, ответил я с тем доверием, которое следует иметь к друзьям. То, что возникло, оказалось на удивление скромным, почти
провокационно простым и в то же время неожиданно утонченным. Секрет не только в том, что страница за
страницей в одной тональности (главным образом, в ля миноре) следовали замысловатые фигурации, требуя
огромной точности интонации как от солистов – Татьяны Гринденко и меня – так и от оркестра, руководимого Эри Класом; мы столкнулись с тем, что «проглядели» в начале: исполнение требовало
абсолютной концентрации. Ничто не должно было нарушать состояние полной неподвижности во второй
части – senza motto. Ради того, чтобы не повлиять на ведение смычка, приходилось на протяжении семнад-цати минут почти не дышать.
Поначалу мне казалось, что задача не по силам, что Арво просчитался, что нужно сократить текст.
Наверное, так думают и по сей день многие оркестранты во время первой репетиции, когда приходится
играть эти длинные, обманчиво простые цепи пассажей первой части или бесконечные повто-150








