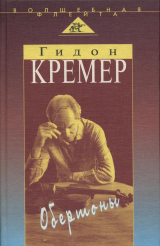
Текст книги "Обертоны"
Автор книги: Гидон Кремер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
премьеры пьесу без магнитной пленки! Его смущало вечное коварство электроники. Я изо всех сил
сопротивлялся, и не только потому, что чувствовал себя неуверенно. Ни за что не хотелось отказываться от
целого слоя музыки, который так меня вдохновил, и в котором Джиджи высказывался так убедительно.
Решение этого вопроса было перенесено на день концерта. По мнению Ноно, у нас была масса времени: почти девятнадцать часов до премьеры! Изрядно истощенные работой, взволнованные, мы в полночь
покинули зал.
Генеральная репетиция на следующий день переубедила Джиджи. К счастью. Сочетание сольного звучания
с пленкой теперь его устраивало. Мы поработали над поиском лучшего баланса, лучших переходов между
скрипкой и множеством обыгрывающих ее голосов. Были заново, более оптимально склеены ноты, размещены по залу динамики. Имело значение и правильное освещение – пьеса требовала полной
сосредоточенности, мы были едины в том, что темнота должна помочь концентрации на тишине. Остаток
времени у меня ушел на то, чтобы лучше освоить свою партию.
248
Вечером во время премьеры я был в высшей степени собран. Джиджи то и дело устраивал мне сюрпризы, модулируя уровень звука, интенсивность которого порой заставляла меня забывать, что главным (по автору) должно было быть ощущение тишины. Возражать было бессмысленно. Ноно сам сидел за пультом, и, в
конце концов, это было его произведение. У нашего диалога сложился собственный словарь, обеспечивавший двусторонние импульсы. Постепенно возникало ощущение сыгранного дуэта. Реакция зала
подтвердила наши ощущения – премьера удалась. Ноно создал, избежав какого бы то ни было пошлого или
избитого звука, никогда прежде не слышанную, неслыханную музыку.
На следующее утро в Филармонии в рамках мини-фестиваля Ноно (уик-энда, посвященного ему) должен
был состояться очередной концерт. Накануне, где-то ночью Джиджи затеял бурную, хотя, видимо, принципиальную дискуссию с коллегой-композитором, который должен был дирижировать в нем. Ноно был
глубоко задет поведением коллеги и намеревался отменить все дальнейшие концерты. Никто не знал, появится ли он вообще. Вся ситуация была весьма напряженной. Ноно чувствовал себя оскорбленным и
покинутым друзьями. Если я правильно помню, только благодаря усилиям Клаудио Аббадо его удалось
переубедить. Эльмар Вейнгартен, представитель Берлинского фестиваля, очень любивший Джиджи и всегда
хранивший ему верность, предложил мне вместо выпавшего произведения исполнить сольную версию
«нашей» пьесы. Я согласился,
249
хотя на самом деле собирался в то утро быть только слушателем.
Когда я ехал в Филармонию, у меня не было ни малейшего намерения напрашиваться. Мне просто хотелось
помочь Джиджи, который, хотя и согласился с предложением, настоящей радости, при этом, не проявил.
Только сказал: «Ну, если тебе хочется...» После бессонной ночи его досада от дискуссии еще не улеглась.
Эксперимент, отклоненный мною еще вчера, завершился ко всеобщему удовлетворению. Я немного
сократил пьесу, – в сольном варианте она казалась мне чересчур длинной, – и еще больше сосредоточился
на отголосках, паузах и переходах. Завораживающее звучание ленты теперь меня не отвлекало, я стремился
еще совершеннее передавать тишину.
После исполнения Джиджи выглядел удовлетворенным. Со своей неподражаемой улыбкой он заявил:
«Прекрасно! Ты можешь играть это, как пожелаешь – покороче или подлиннее, соло или с пленкой.
Замечательно». Он сделал небольшую паузу и объявил: «Оно твое». Мы обнялись.
И еще раз мы играли «Lontananza» вместе. В октябре того же года в La Scala состоялась итальянская
премьера пьесы. И зал, и Джиджи у себя на родине, и опыт берлинского исполнения – все это
способствовало тому, что наш диалог в звуках оказался еще более убедительным, чем тогда, в Берлине. В
многоголосных странствиях звуковых образов мне как бы виделось и слышалось свидетельство нашей
дружбы. Может быть, здесь сочинение Ноно по-настоящему родилось.
250
Болезнь Ноно, помешавшая ему приехать в Локенхауз, представлялась мне не столь уж серьезной. Только
врачи знали, с чем он, страдая от мучительной боли, боролся. Посторонним и даже друзьям его физические
страдания стали заметны у самой последней грани. То, что на этой стадии Джиджи записал на бумагу еще
одно произведение – дуэт для нас с Татьяной Гринденко, я воспринял как знак особой нежности. Ноно знал
о моих московских истоках и о том, насколько важно было для меня иметь возможность снова там
выступать. Я мечтал однажды исполнить новую пьесу в далекой и, тем не менее, всегда близкой для нас
обоих России. Мне хотелось, чтобы он участвовал в подготовке первого исполнения и присутствовал на
нем. В надежде на его выздоровление я отложил премьеру дуэта в Локенхаузе. Смерть Ноно разбила все
планы.
Когда пришла печальная весть, скорбь вызвала потребность почтить память Джиджи моей игрой и его
музыкой. Сольная версия «Lontananza» стала центральным произведением концертов, состоявшихся во
Франкфурте-на-Майне, Париже и Венеции. В то время, когда я всей душой отдавался игре и воспоминаниям
о друге, мне неожиданно стало известно от издательства Ricordi: незадолго до смерти Ноно решил, что
Lontananza должна исполняться только с пленкой. Более того, это указание должно быть отмечено в
публикации пьесы. Пришлось покориться печатному слову.
И еще один сюрприз преподнес мне Джиджи посмертно. Когда несколькими месяцами позже я готовился к
записи на пластинку «Lontananza» и дуэта
251
для нас с Татьяной Гринденко, то, сравнивая манускрипт, которым пользовался в Берлине и Милане, с
печатной версией, я увидел: хотя оба имеют одно и то же название и даже один и тот же формальный и
звуковой план, они принципиально различаются по форме и по нотным знакам. Подготавливая чистовой
экземпляр, который за несколько месяцев до смерти он передал издательству, Ноно (не больше не меньше) заново (!) переписал все произведение. Словом, я снова оказался в ситуации, которую уже пережил в
Берлине, в день нашего первого выступления... Воспоминания о чутком, не знавшем устали ухе Джиджи, о
его поощряющей улыбке, о той радости, которую он испытывал, дерзко бросая вызов судьбе, снова и снова
возвращает меня к мысли об относительной бессмысленности любой цели, и вместе с тем помогает
сосредоточиться на ценности самого пути, на открытии неизвестного.
«Was kommt, kommt – was nicht kommt, kommt nicht». Я часто думаю об этой фразе Ноно. Все, что я смог
пережить и перечувствовать рядом с Джиджи, вместе с ним, благодаря ему – все останется со мной
навсегда. Встреча с его вечно бодрствующим, бескомпромиссным и мятежным духом была для меня одним
из прекраснейших подарков жизни. Точнее – подарком Шарлотты.
Offertorium*
«Нe время проходит – мы проходим во времени». Движение это всегда кажется чересчур быстрым, но чем
талантливее человек, тем драгоценнее для нас каждое мгновение, которому мы становимся свидетелями.
Давид Ойстрах, величайший мастер своего инструмента, был исключением среди коллег. Кому еще удалось
прожить столь интенсивную исполнительскую жизнь и наполнить ремесло золотым свечением?
Неукротимо-мощным должен был быть дух этого человека, чтобы так преданно служить звукам.
Самой замечательной из всех черт Ойстраха была внутренняя гармония. Может быть, ее и нужно считать
ключом к тайникам его артистического таланта. Не умаляя эмоциональности Давида Федоровича, нельзя
забыть, что во всех мною услышанных выступлениях последних лет – будь то премьеры сочинений
Шостаковича, дуэты со Святославом
* Жертвоприношение (лат.)
253
Рихтером или симфонии Брамса, которыми он дирижировал – его исполнение всегда было проникнуто
стремлением к равновесию, к совершенству.
Наблюдателю нередко бросалось в глаза, что мастер перетрудился, что ему необходима пауза, что работа, которой он посвятил себя, его измучила, – сам же он, казалось, ни при одном из выступлений об этом не
помнил. Он жил и жертвовал собой во имя музыки.
Давид Ойстрах стремился сохранить контакт с миром: с нами, его студентами, со своей публикой. Как часто
бывает, что знаменитости стремятся создать дистанцию! На участие Давида Федоровича мы, его ученики, могли рассчитывать всегда. Купаясь в роскоши его постоянного внимания и заботы, мы даже не
задумывались о том, чего это стоит художнику, который каждый день своей творческой жизни стремится
решать новые задачи.
Ойстрах был чужд романтике артистического существования; после напряженных часов педагогической
работы он вечером складывал свой чемодан; а утром отправлялся на гастроли – будни его были полны
утомительных странствий. Как писала Марина Цветаева:
«Я знаю, что Венера дело рук.
Ремесленник – я знаю ремесло».
Удивительно гармоничные, теплые руки Давида Федоровича, руки скрипача. Невозможно представить себе
что-либо более естественное.
В классе, на столе – всегда скрипка. Первым делом – не слова, а звуки ее. Лучшее, надежнейшее
254
доказательство. Но не одни лишь руки – при всей их «покорительной силе» (а сколько есть исполнителей, мечтающих об этом – Veni, vidi, vici*), одни они не способны выполнить миссию, соответствующую
магическому пушкинскому стиху: «...и чувства добрые я лирой пробуждал».
Естественность исполнения Ойстраха соответствовала естественности слушания. «В начале был звук»...
Дивные руки мастера касались его инструмента, его живое общение с музыкантами вселяло в них силу.
Приглашение в мир музыки Давида Федоровича было обращено ко всем.
Тепло его личности притягивало как магнит. Сколько музыкантов перебывало там, в Восьмом классе
Московской консерватории, в нашей мастерской. Иногда казалось – здесь центр скрипичного мироздания.
Как робко переступал порог новичок – и как быстро он сам растворялся в этой неотразимой атмосфере. И
это было заслугой единственно и только Давида Федоровича. Для него был важен каждый. Понимали ли мы
сами, к кому мы приходим за советом и помощью? Скорее всего нет. Мы просто чувствовали: вот тот, кто
всегда сможет помочь. И он помогал – никогда не отделываясь поверхностными указаниями, всегда мудро, без высокомерия и резкости. Тем убедительнее звучали его оценки: «Так сегодня уже нельзя играть, так
играли тридцать лет назад», или трезвое: «Ты просто мало работаешь!»
Какое величие было в другой фразе, которую мы не раз слышали от него: «Я бы так никогда не сде-
* «Пришел, увидел, победил» (лат.)
255
лал, но это твой собственный путь, к тому же ты так часто оказываешься прав».
Я вспоминаю одно его грустное замечание – что чувствует он себя не артистом, а «командировочным». Как
мы часто забываем, что обитатели «Олимпа» искусства – не только «боги», что их тяготят повседневные
заботы, ценим приносимый ими огонь, но бессильно или равнодушно взираем на их трудности. Даже те из
нас, которые, подобно Ойстраху, жили в оппозиции к тоталитарному режиму, не всегда помнили, какой груз
давил на него, – ведь он десятилетиями сталкивался с системой, которая превратила его одновременно в
национального героя и безответного раба.
Недавно я прочел интервью с Исааком Стерном. Он описывает свое недоумение по поводу того, что
Ойстрах, приехав в Америку, развивал безумную концертную активность – тридцать девять концертов за два
месяца. В ответ Ойстрах заметил: «Дорогой Исаак, если я прекращу играть, то начну думать, а начав думать, я умру».
Один из величайших скрипачей века сжигал себя музыкой. Мы оказались современниками пожиравшего
этого горения. Боль и счастье его были дарованы и нам.
Каденции
Идем ли мы в концертный зал или слушаем запись. Какой все это имеет смысл? Чего мы ищем? Прошли
времена, когда исполнители сами были авторами, хотя и сегодня некоторые обладают двойным даром. В
нашем столетии специализация охватила многие профессии – то же происходит и в музыке. Редко
встречается классический артист – если не считать джазистов – который сочиняет, импровизируя. В
больших инструментальных произведениях прошлого для солиста с оркестром единственную возможность
для импровизации предоставляют каденции. Это свободное пространство композитор по традиции оставлял
для себя, если сам сидел за роялем. Обратившись к истории, следует признать, что переход к окончательно
фиксированным текстам производит впечатление потери доверия. В эпоху романтизма, а также в поздний
его период и в годы постромантизма такие композиторы как Чайковский, Сибелиус, Барток или
257
Берг записывали собственные каденции. Возможно, они пришли к выводу, что несостоятельность многих
виртуозов не позволяет предоставлять исполнителям слишком много свободы. Бах, Моцарт, Гайдн или
Бетховен были терпимее. Они сочиняли каденции для самих себя, но оставляли за исполнителем право
выбирать между созданным ими и его собственной импровизацией.
История знает множество более или менее честолюбивых предпринимателей, извлекавших доход из такой
практики: ведь записанную каденцию тоже можно было продавать как сочинение. Некоторые оставались
при этом верны композитору, другие думали только о своих интересах. Попытки обоего рода дошли до нас в
напечатанном виде. И без того слабевшая способность исполнителя к импровизации мало-помалу исчезала.
Музыканты все больше и больше попадали в зависимость от каденций, закрепленных нотным текстом.
Сегодня стремление к точному воспроизведению уже существующего давно превзошло все требования
предыдущего столетия. Тогда подход к музыке, еще не обремененный возможностью сравнения различных
записей, казался более непосредственным. В эпоху переизбытка информации тщательнейшее чтение нот —
одно из проявлений преданности музыкальному произведению.
Однако принцип «дирижирования наизусть» – проявление скорее простейших способностей «музыкального светилы», который любой ценой, всеми средствами добивается всеобщего восхищения. Он
внушает публике представление о том, будто бы
258
партитура рождается из его памяти. Он прав; зрители и слушатели воодушевлены его спортивными
достижениями: «Удивительно! Он дирижирует, ни разу не заглянув в ноты!» Имеет ли сей внешний эффект
отношение к творчеству – это другой вопрос. Пустые глаза может не увидеть публика, сидящая за спиной
дирижера; от оркестрантов же их скрыть невозможно. Звучащую душу музыкального произведения нередко
подменяют собрания аккордов, преувеличенное выделение многоголосия и смен гармонии. Средства
становятся целью. Отто Клемперер дал этому явлению верный комментарий: «Дирижировать надо не по
памяти, а по смыслу» (Nicht auswendig, inwendig müsse man dirigiren).
То же самое происходит с импровизацией, с каденциями. Использовать уже существующий, уже известный
пример – проще. Бесчинство, которое вытворяется, к примеру, с каденциями к скрипичным концертам
Моцарта, попросту неописуемо. Пианисты еще могут оправдаться тем, что они придерживаются
классических каденций Бетховена. Выдающийся последователь Моцарта смог вдохновенно перенести на
бумагу то, что в области каденции сильно превзошло последующие попытки многих композиторов, – даже
если он, живший двести лет назад, не всегда удовлетворяет ожидания нашего времени.
У скрипачей дело обстоит еще хуже. Их праотцы были бесспорно мастерами своего дела. Но в сочинении
музыки они едва ли когда-нибудь достигали уровня творцов, которым посвящали свое умение. Иоахим
никогда не достигает уровня Брамса,
259
Крейслеру далеко до Бетховена и Франко уж наверняка не Моцарт. Несмотря на это, каждый считал своим
долгом создать и опубликовать собственные каденции. Что происходило дальше? Записанное брали, издавали и оно постепенно превращалось в часть самой композиции. Сегодняшние слушатели прямо-таки
ожидают каденций Крейслера или Иоахима в скрипичных концертах Бетховена или Брамса. Такое
впечатление, что проверенными ключами легче отворить двери, ведущие в просторы бессмертия. Все другие
попытки, неважно чьи – Хейфеца, Мильштейна, Энеску, Буша, Менухина или Ойстраха – тотчас
объявляются бессмысленными или излишне-расточительными; зачем они, когда можно использовать
давнюю традицию? Это – печальное развитие, отнимающее у нас возможность «прокомментировать»
партитуру. Полагают, что отказ от импровизации отвечает ожиданиям публики. Лишь немногие решаются
идти другим путем; так, Святослав Рихтер играл каденции Бриттена в фортепианном концерте Моцарта. Да
и я при случае отваживался ступить на эту опасную почву: исполняя концерт d-moll Паганини, я импровизи-ровал каденции, иногда вставляя в него пассажи современной музыки, – однажды это было реакцией на
писк сотовых телефонов, постоянно раздававшийся в зале. Я рискнул вставить в скрипичный концерт
Моцарта каденции Роберта Левина, а в концерт Брамса «ввести» прелюдию Макса Регера, каденции Энеску
и Бузони. В поисках наиболее убедительного решения пришлось сделать и две собственные редакции
бетховенских каденций.
260
Оригинальная партитура фортепианной версии скрипичного концерта стала их основой. Одна вобрала в
себя оркестр и предусмотренные Бетховеном литавры, другая звучащий как бы издалека рояль. Даже если
не все удавалось и казалось убедительным – всякий раз в зале как бы открывалось окно. Так что я
испытываю особенное восхищение перед исполнителями, которые обладают мужеством самостоятельно
творить. Нужно только не противиться Музе, когда она стремится соблазнить нас.
Посланник
«Профессор», «посол», «Ваше превосходительство», «маэстро»: как ни обращались к Хенрику Шерингу, -
он принадлежал к «знати» в среде инструменталистов. Безукоризненное мастерство артиста могло быть
предметом желания для любого скрипача. Вспоминаю его исполнение сонат Баха – сначала только на
пластинке; оно всегда восхищало моего отца – наряду с игрой Пабло Казальса, и производило особенное
впечатление своей уравновешенностью, чистотой интонации, ясностью; исполнение Шеринга было
безошибочным. В годы учебы оно служило для меня масштабом объективной и безукоризненной
интерпретации.
Услышанное позже в Восточном Берлине исполнение Шерингом концертов Баха, Брамса и Бетховена
отличалось знакомой уже законченностью, но мало соотносилось с удивившими меня странностями
поведения маэстро; например, он мог потратить полчаса перед началом репетиции, чтобы уста-262
новить свет. Шеринг мелом обводил место, на котором собирался вечером стоять (рассказывали, что
поступал он так не только в Берлине). Невольно хотелось спросить: зачем ему эти отвлекающие маневры?
Ведь к звучанию свет имеет мало отношения. Во мне исподволь зарождалось подозрение, что он таким
способом хочет обратить на себя внимание.
Для меня оставалось тайной: для чего Шерингу, достигавшему в звучании такого совершенства, все это
было надо?
В тот раз в Берлине мы познакомились в Komische Oper на его репетиции. Представляясь, я сослался на
Ойстраха. Шеринг молниеносно отреагировал: он уже слышал обо мне, он просит ему сыграть. Я вовсе не
собирался это делать, – у меня у самого вечером был концерт. Тем не менее, в присутствии всего оркестра
Шеринг стал настаивать на том, чтобы я поводил смычком по пустым струнам, он, дескать, и по этому
сможет меня оценить. Ситуация создалась неловкая; чем больше я в течение нескольких лет вспоминал об
этом эпизоде, тем мне становилось яснее: подвергая меня испытанию, Шеринг стремился доказать свой
авторитет и укрепить свою репутацию «ясновидца».
Много лет спустя я ехал в автобусе, везшем нас всех после очередного концерта на корабль «Мермоз», место плавучего музыкального фестиваля. В ушах еще звучало, как Шеринг в своей обычной манере
объявлял на восьми или более языках выступление «на бис». Его свободное от акцента произношение могло
считаться прямо-таки образцовым. Мастер, разумеется, гордился этой способностью, 263
дававшей ему, помимо прочего, возможность беседовать почти с каждым из его студентов на его родном
языке. Тот же талант открывал путь в высшее общество. Музыканту, считавшему себя дипломатом, иностранные языки служили своего рода оружием. Церемония объявления в тот вечер, во всяком случае, даже затмила Вивальди. Впереди в автобусе сидел один из музыкантов квартета «Amadeus», Петер Шидлоф.
Только что услышанное исполнение «Времен года» оставило у всех, знавших Шеринга, весьма странное
впечатление. Казалось, он выбился из-под контроля во всем, что относится к темпу и фразировке. Несмотря
на то, что, на мой взгляд, во «Временах года» важны живость и непосредственность, тут и мне, и членам
Английского камерного оркестра сложно было согласиться с произволом, навязанным солистом. Тем не
менее, – из уважения или осторожности, – я постарался подавить недоумение и сказал Петеру: «But there are no problems in his violin-playing». На что услышал лаконичное, но очень меткое: «That's the trouble».*
Невольно рождается вопрос: не стоят ли исполнители, которым неведомы технические и стилистические
затруднения и которые обладают безукоризненной памятью, перед другими испытаниями? Чем они
наполняют свою игру? К чему стремятся?
Исполнение часто производит впечатление только демонстрации умения или знания. Это уже отчуждает от
эмоциональной сферы самой музыки. Но когда исполнитель ищет еще и успеха или
* Но ведь для него нет трудностей в игре на скрипке. – В этом-то и беда (англ.) 264
самоутверждения, разрыв между произведением и исполнением становится совершенно очевидным. Не зря
говорят: «Он хочет играть первую скрипку». Даже в так называемой объективности таятся опасности.
Музыка оставляет нас равнодушными, исполнитель работает «вхолостую». Звукозапись, требуя
совершенства, как это ни парадоксально, способствует и загрязнению мира звуков. «Просто следовать
нотам, – как говорил в интервью один из наиболее преданных композиторам пианистов Владимир
Ашкенази, – еще недостаточно». Объективный взгляд на партитуру не более, чем начало работы.
Разумеется, есть артисты, ищущие определенной гармонии и находящие опору в напечатанном значке. Они
верят в святое слово и сохраняют ему верность, оставаясь прагматиками и педантами. То, что является для
других полнокровным воплощением, они отвергают, как экстравагантность. Творческий подход, для
которого изучение партитуры лишь начало музыкального открытия, им чужд. Их богом является точность; может быть, они именно поэтому будут изгнаны из рая. Мнимое знание сродни греху. Мне всегда
вспоминаются строки Александра Галича:
«Не бойся сумы, не бойся чумы,
Не бойся неба и ада.
А бойся единственно только того,
Кто скажет: я знаю, как надо».
Вернемся к Шерингу. После концерта в Мюнхене я оказался в частном доме, где маэстро играл на рояле
мексиканские и аргентинские вальсы; до то-
265
го он, обратив внимание на мое присутствие, внезапно объявил, что посвящает это исполнение «первому
скрипачу мира» (кого он имел в виду?). Получилось не менее неловко, когда я на том же «Мермозе»
заглянул на его репетицию концерта Моцарта. Профессор демонстративно посадил меня в первом ряду.
После того, как все разошлись, он настоял на том, чтобы сыграть для меня одного каденцию. На следующий
день, когда он отбыл с корабля, я с недоумением услышал от окружающих, что, оказывается, пригласил его
в Локенхауз, и что он собирается принять приглашение. Ни слова об этом не было сказано; как всегда, я был
очень сдержан. Да я бы и не решился его об этом попросить, будучи уверен, что некоторые привычки
Шеринга (как, например, требование обращения «ваше превосходительство») не подходили к непринужденной атмосфере нашего фестиваля. Все новые вопросы бередили мою душу... Призваны ли были эти
выдумки, эта театральность поведения заменить вдохновение, которым не всегда окрылялось его
исполнение? Или Шеринг искал способов довести актерство, свойственное многим из нашей среды, до того
совершенства, с которым он играл на скрипке? Церемонии награждения орденами, дипломатические
миссии, речи, общение с коронованными особами – так сказать, на подмостках театра жизни, – во всем
этом мастер не раз проявлял тот артистизм, которого ему не доставало как скрипачу. Однажды мне
случилось видеть, как королева Бельгии Фабиола на торжественном ужине в Брюсселе восседала между
Шерингом и сэром Иегуди; я
266
сидел рядом, за соседним столиком, и мог наблюдать, как она, нарушая законы вежливости, постоянно
наклонялась к Шерингу. Видно, в беседе он был еще неотразимее своего коллеги Менухина, возведенного в
аристократическое достоинство. Независимо от того, о чем шла речь, «Ambassador of Mexico»* постоянно
вел себя в зале ресторана как бродячий комедиант; здесь актерство управляло его внешним поведением, а не
его исполнительским искусством.
Но так ли уж различаются две эти стороны – игра и манера держаться? В разговоре с Ойстрахом я однажды
упомянул, как чувствовал себя неловко во время концерта в Дубровнике, неожиданно заметив, что в зал
вошел дирижер Геннадий Рождественский с супругой Викторией Постниковой. Зал был очень маленький, Геннадий Николаевич был в светло-сером летнем костюме; он сидел в первом ряду и все время оказывался в
поле моего зрения. Давид Федорович, часто выступавший с Рождественским, лишь заметил: «Что из этого?
Рождественский такой милый человек, это должно было только ободрить! Ему просто дали билет в первый
ряд, сам он к этому не стремился». «Вот Шеринг, – продолжил он, сделав небольшую паузу, – когда я
играл в Париже, всегда намеренно садился в первый ряд». И добавил, неожиданно улыбнувшись: «Знаешь, если я слышу иногда по радио, как кто-то очень хорошо играет на скрипке, но никак не могу понять, кто же
это, в конце концов, всегда оказыва-
* Посол Мексики (англ.) – так Г. Шеринг называл сам себя.
267
ется Шеринг». Рассказ меня тогда развеселил. С тех пор мне самому, как слушателю, не раз пришлось
пережить нечто подобное. И всякий раз приходили на память слова Ойстраха, так точно характеризовавшие
достоинства и одновременно «ахиллесову пяту» Шеринга.
Приведу еще цитату из интервью Шеринга на радио France-Musique. Как мне рассказывали, журналист
упомянул мое имя, на что маэстро отреагировал: «Гидон Кремер? О, да. Выдающийся скрипач. Всегда
производит на меня большое впечатление. Особенно, когда играет Баха. Никогда не забуду наше с ним
выступление в Двойном концерте». Замечу: мы никогда не играли вместе.
Оттенки и отголоски
Hет, с Владимиром Горовицем мне встретиться не довелось, и я пишу эти немногие строки о нем по другой
причине. Восхищение издали: какая прекрасная тема. Она не сковывает свободу фантазии, и потому полна
возможностей. И Данте, и Кьеркегор были вдохновлены тем, что могли воспеть возлюбленную только
издали (вспомним «Vita nova» одного из них и «Дневник соблазнителя» – второго). Рассматривать полотна
в Прадо или ночами лихорадочно читать роман можно и без малейшей надежды на встречу с автором, даже
если он живет в одно время с нами. Но музыкантов или актеров нужно успеть увидеть при их жизни. Ты сам
видел его – или ее – на сцене? Повезло же тебе! До сих пор слышу голоса живых Анны Маньяни, сэра
Лоуренса Оливье, Иннокентия Смоктуновского.
Промедление часто оказывается роковым. Пока чудо еще где-то поблизости, к нему необходимо стремиться.
Такие размышления посетили меня и в
269
конце семидесятых, когда Горовиц еще не бывал в Европе и не догадывался, как горячо его здесь ожидают.
Пусть я не был безоговорочным поклонником пианиста или знатоком его дискографии, тем не менее, и у
меня был личный опыт восприятия Горовица (в первую очередь Рахманинова). Его удивительные
исполнения покоряли даже в записях и вызывали у многих моих друзей-пианистов неизменный восторг.
Олег Майзенберг, мой ближайший партнер, был из тех, кто старался следовать принципам Горовица и в
красках, и в голосоведении. Я не раз испытывал восхищение – как позднее часто от игры Марты Аргерих.
Концерт во имя спасения от гибели Карнеги-Холла, в котором участвовали – и предстали в новом, совершенно неожиданном качестве – многие выдающиеся музыканты: и Менухин, и Ростропович, и
Фишер-Дискау, я знал по записи на грампластинке. Когда еще услышишь троих гроссмейстеров, Стерна, Ростроповича, Горовица, исполняющих первую часть трио Чайковского, – с таким ощущением, как будто
все играется с листа? Я думал тогда дерзко: «Они играют как на еврейской свадьбе». Добавлю, что ничего не
имею как против моих старших собратьев, так и против музыки на свадьбе. Однажды в Тель-Авиве именно
на одной свадьбе мне довелось услышать хасидскую народную музыку в незабываемо одухотворенном
исполнении кларнетиста Гиоры Фейдмана.
Вернемся, однако, к Горовицу. В упомянутом концерте они с Ростроповичем играли еще и вторую часть
сонаты для виолончели Рахманинова, которая
270
захватывала с первого же такта. Глубина, настроение, чувство целого мироздания удавались Горовицу сразу
во вступлении, образуя космос, родственный по воздействию миру мастеров в живописи: тени, цвета и —
возможно, самое главное – оттенки. Звуки парили где-то вдалеке, поддерживая друг друга, – без
малейшего намека на назойливое выявление. Это была музыка в своем высшем проявлении.
Узнав, что Горовиц выступает в Рочестере, я не мог устоять перед искушением услышать этого волшебника
еще при его жизни; и я отправился туда между двумя собственными концертами.
Все билеты были проданы. К счастью, помог наш менеджмент. Четыре часа пополудни – Горовиц, как и
Рихтер в Москве, всегда выступал в одно и то же время. Но удивительно: настроение в зале оставалось
каким-то будничным. Наблюдение-сравнение: Рихтера московская публика ожидала бы не только с
большим интересом – с благоговением. Американцам концерт казался событием повседневным: Горовиц, в
конце концов, жил в Нью-Йорке. Его выступления включались в телевизионные музыкальные программы, с
недавних пор возобновились регулярные концерты. Все же, когда пианист появился на сцене, раздались
крики «Браво!».
Первое впечатление оказалось неожиданным. Инструмент звучал невероятно механически, жестко, безлично. Был ли рояль плох? Американский Steinway? Мне и прежде случалось заметить, что их звучание
невозможно сравнить с благородством гамбургских инструментов. Но разве мастер не иг-271
рал только на собственном рояле? Странно. Тем не менее, беглость в исполнении Скарлатти убеждала, заставляла вслушаться. По-другому воспринимались сонаты Моцарта и Бетховена. В особенности плоским
было исполнение Моцарта. – оно казалось почти этюдом. Был ли Горовиц уже не тот, что прежде?
Потом настал черед Шопена. Тут-то Горовиц заставил забыть, что мы находимся в Рочестере. Это именно
мы танцевали мазурку, совершая немыслимые па вместе с музыкой, мы были на празднике ритма, элегантности, законченности. Во время одного вальса мне казалось, что я на всю его продолжительность








