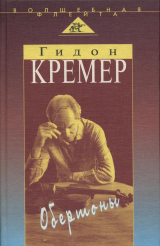
Текст книги "Обертоны"
Автор книги: Гидон Кремер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
трубку. Проявилась еще одна сторона его темперамента, склонного к радикализму. Я никогда не позволил
бы себе такой резкости по отношению к талантливому партнеру или прелестной женщине. И дело не в хо-рошем воспитании. Мне всегда хотелось, что бы я ни переживал, – восторг или разочарование, – диалога.
Еще одна иллюзия?
Память и ее капризы
С Артуром Рубинштейном мы тоже встречались мимоходом. Тем не менее, это было нечто большее, чем
рукопожатие Марии Каллас, снова возникшее в памяти лишь через много лет.
С этим артистом, являвшимся гордостью польской музыки, случай сводил меня несколько раз. Однажды это
имело место в Карнеги-Холл, – Рубинштейн в качестве слушателя вошел в ложу. Его появление стало
более значительным событием, нежели сам концерт. Вероятно поэтому программа безвозвратно исчезла из
моей памяти. Весь зал, стоя, приветствовал мастера. Было трогательно видеть публику, сохранявшую
верность своему идолу и открыто эту верность проявлявшую, несмотря на то, что он уже не выступал.
Личная же встреча произошла в Амстердаме, в 1978. Я выступал с Concertgebow-оркестром под руководством Кирилла Кондрашина. После концерта на частный прием, куда я тоже был приглашен, 174
пришел почетный гость – маэстро на этот раз оказался среди слушателей. Многие из гостей знали его
лично, некоторых вспоминал и он. Меня представили.
«Вы замечательно играли!» – заявил маэстро без околичностей, отчего я невольно покраснел. Можно
предположить, такие похвалы – скорее пустая формальность; но в устах Рубинштейна это звучало
впечатляюще. Еще до того, как сознание отделило истинное от штампа, джентльмен Артур продолжил:
«Знаете, дорогой друг, я вас уже однажды слышал. Дай Бог памяти, что вы играли тогда? Да, да, это было в
Люцерне: конечно, концерт Прокофьева. Очень, очень хорошо! Я никогда не забуду тот концерт. Знаете, там
в зале такие ужасающе жесткие стулья, я так мучился!»
Я вспомнил, как после выступления в Люцерне в семидесятых годах увидел среди публики Рубинштейна. В
моей артистической жизни этот концерт не был событием, и я бы не вспомнил его. Он был одним из первых
моих выступлений на Западе. Но, как видно, и стул может оказаться подпоркой памяти. Важнее, однако, другое: и в этой ничтожной мелочи Рубинштейн излучал эмоции, он и без инструмента оставался
чувственным человеком. Может быть, в наше время, когда рациональность способствует «вытеснению»
всего лишнего, эта его эмоциональность помогает описать ту особенную ауру Рубинштейна, которую нельзя
было не ощущать.
Хотя в тот вечер он со своей неизменной сигарой вскоре перешел к другим гостям. Дым сигары, как
175
и цепь спонтанных ассоциаций (и то и другое зафиксировано в его собственных воспоминаниях) производили в равной степени впечатление высокохудожественной стилизации.
Последняя, вероятно, дополняет портрет каждого необычного человека. Музыканты и канатоходцы в этом
смысле родня. Быть может, не случайно я, оговариваясь, часто называю новое сочинение Софии
Губайдулиной не «Танцор», а «Скрипач на канате»... И то и другое требует парения. Мастера видно по тому, как искусно он шагает над пропастью.
PR*
Mир суперзвезд своеобразен. С каким удовольствием я бы вообще забыл о его существовании. Судьба
распорядилась иначе, соприкосновения с ним случались много чаще, чем мне бы того хотелось. Хотя
внутренний голос противился навязанным правилам, поток популярности втягивал, не спрашивая согласия.
Как сообщал заголовок одной из посвященных мне статей: «He's so much out, that he's in.»**
В связи с этим необходимы некоторые разъяснения. Тот, кого считают VIP***, знаком также и с PR. В
артистическом мире это касается каждого. Но не каждому дано быть VIP, даже если ему этого и хочется: просто без PR не обойтись. Любой выгодно сформулированный контракт гарантирует так называемой
«звезде» определенные преимущества.
* PR – Public Relations (имеется в виду прежде всего реклама)
** Он настолько вне, что оказывается моден (англ.)
***Very important person – очень важная особа (англ.)
177
Само слово promotion становится своего рода синонимом для «проталкивания»: артистов, продукции, определенной фирмы.
Спрашивается: неужели реклама существует все еще ради музыки? Действительно ли популярнейшими
оказываются лучшие? Недавно я споткнулся во французской прессе о фразу, которая сообщала, что некая
пианистка увековечила в записи свою интерпретацию Бетховена. Увековечила! Ни много, ни мало. История
культуры скорее подобна неуклонно растущему кладбищу, на котором все, предназначенное для
увековечивания, – как сочинения, так и их исполнение, – отдано во власть неумолимого распада.
Американское greatest звучит в этом смысле еще убедительнее. Great stuff, great guy, great player – говорят
американцы с восхищением, даже в интимном кругу, задавая тон рынку, в том числе и музыкальному.
В нашей профессии дело тоже идет о природном свойстве рынка: о доходе. С тех пор, как индустрия
звукозаписи владеет акциями музыкального бизнеса, это известно в отдаленнейших точках мира. (Но-стальгический вздох! Сегодня часто рассуждают только о вредоносности тоталитаризма, забывая о том, что
при нем все же была возможность творить чудеса искусства. Диктатура денег безжалостна). В прошлых
столетиях еще иногда ценили композиторов, премьеру, творчество. В двадцатом веке самым ходовым
товаром стал исполнитель, его имя – осязаемый символ успеха. Не последнюю роль в этом процессе
сыграли пластинки, кассеты, видео. Исключением являются лишь бестселлеры програм-178
мной музыки, вроде «Времен года» Вивальди или (в Америке) «Планет» Холста – хотя их продажи и не
сопоставимы с продажами известнейших поп-групп. Успех таких продуктов часто предопределен вне
всякой зависимости от артистических заслуг исполнителя; в адаптированной форме широкую публику
обеспечивают удобоваримым товаром, как бы концентрирующим в себе – наподобие комикса – всю
классическую музыку. Если же новая запись популярного сочинения еще и по-мичурински скрещивается с
именем исполнителя-звезды, тогда серьезная музыка окончательно превращается в развлекательную, в
эдакий классический поп. Рекламе, истинному порождению нашего века, остается только найти нужный
рынок, обеспечить «маркетинг».
Вспомните хотя бы несравненное фото Анны-Софии Муттер, гуляющей по лесу со скрипкой в руках. В роли
наблюдателя за деревом не кто-нибудь, а Герберт фон Караян. Вам внушается представление: вот они —
«Времена года» нашего века, вечные «Времена года». Не говорю ни слова об исполнении. Это – дело
критиков. И мне не хочется злословить о коллегах, а лишь напомнить о самом «базаре», вернее, о том, как
именно на нем торгуют.
Постоянные предметы-спутники «звезд», вроде шарфа Иво Погорелича, белого платка Паваротти, синих
очков Найджела Кеннеди или прозрачной T-Shirt Ванессы Мэй помогают убедительно воздействовать на
потребителя. Будто постоянно просят вас: «Купи меня, послушай меня, я оригинален, мил, артистичен, неотразим». Как тут не вспомнить «Алису в Стране чудес» и волшебные пирожки с
179
надписью «Съешь меня». Имидж как бы формирует объект продажи, которому свойственны: возвы-шенность, скромность, неповторимость, экстравагантность, эротизм.
Возможности здесь неограничены. Фантазия деятелей PR неисчерпаема; они считают удачей любую
находку, – прежде всего вульгарную и дешевую, – если она способствует сбыту. Главное – мобилизовать
массу потенциальных покупателей. Упаковка товара, – то есть его наиболее броская «презентация», —
тоже высоко ценится и хорошо оплачивается. В мире PR выживают те, кто особенно привлекательны.
Впрочем, не всегда это так. Бывают случаи, когда облик необходимо сохранить, когда сам внешний вид
«играет» на товар. При этом немалая роль принадлежит улыбке и обнаженным дамским плечам. И то, и
другое несомненно обладает собственной ценностью. Дружелюбный артист, как правило, притягивает
больше. Существовал, правда, Артуро Бенедетти Микеланджели, из которого выдавить улыбку было невозможно. И что же? В данном случае сумрачность превратилась в часть рекламной тактики – АБМ как
мистик, страдающий от любого несовершенства, фантаст. Когда этого требуют интересы рынка, PR
изъявляет готовность пойти у артиста на поводу.
Удивительно, до какой степени выросла значимость имени исполнителей. Может быть, поп-индустрия
повлияла на рынок – так, что мы этого и не заметили? Не знаю. Могу сказать лишь одно: гуляя по
фестивальному Зальцбургу, столице PR, по его улицам, заполненным толпами туристов, вы вынужде-180
ны рассматривать витрины магазинов, чтобы узнавать о новостях в мире музыки. Невольно начинаешь
подсчитывать, как часто то или другое имя или лицо выставлены напоказ и вдруг задумываешься. Мы все
испорчены. Испорчены и те, кто прилетают на вертолете, подъезжают к фестивальному центру на
«Линкольне» с затемненными стеклами или за рулем сверкающего алой краской «Порше».
Все это ценится невероятно высоко. Можно подумать, что качество возрастает благодаря «имиджу», рекламной шумихе, тиражу дисков и их продаже. Один из моих друзей утверждал, что афиши, программки, биографии, вкладыши в конверты с пластинками читают только сами артисты. Похоже на правду. Так или
иначе, вся реклама создает иллюзию, будто музыка обладает весом. Пусть увеличивается сбыт, растут
гонорары, число интервью, приглашений и автографов – к истинному искусству это отношения не имеет.
Доказательство? Послушаем исполнителей недавнего прошлого: Вильгельм Фуртвенглер, Клара Хаскиль, Дину Липатти, Бруно Вальтер – лишь несколько выдающихся имен. За ними не стояло и сотой доли той
рекламной мощи, которую сегодня может в качестве подкрепления требовать, а также ожидать «многообе-щающий» музыкант.
Хочу, однако, ссылаться не только на былое. Разновидность ценителей искусства и снобов, признающих
только прошлое, хорошо известна. Как часто слышишь именно от таких «ценителей старины»: «Эта
современная музыка мне ни к чему!» И целое столетие, полное гениев как Айвз и Берг, Шостако-181
вич и Ноно, перестает существовать. На самом деле ценность и репутация мастеров, память об их искусстве
сохранились безо всякой PR-шумихи. Почему? Потому что они, да и многие другие (исключения
встречаются и сегодня), верно понимали свою функцию: служить музыке, а не себе или своим продюсерам.
Как величественно искусство анонимных иконописцев. Как прекрасно творчество певицы Кэтлин Ферье. А
ведь за ними не стояло армии торгашей, умеющих ловко сыграть на спросе. Но содержание их творчества
имело ту мощь, какая и не снилась мотылькам-однодневкам сегодняшней армии исполнителей. Там, где
прежде говорили о лунном свете, сегодня, как это описано в книге Клауса Умбаха, речь ведут о блеске
золота. Я вспоминаю замечание одного из бывших продюсеров Deutsche Grammophon: «Реклама
оправдывает себя, только если пластинка и без того хорошо продается». Простое практическое
соображение: утроенная большая прибыль лучше, чем утроенная средняя. Недостает не только скромности,
– может быть стратегам рекламы, «имиджмейкерам», деятелям PR, да и всем артистам, их
поддерживающим, недостает чего-то еще: чувства и стремления к высказыванию. Еще горестнее сознавать, что у исполнителей нет представления об иерархии; представления о том, что их место – позади тех, кто во
все времена был достоин внимания и поддержки: позади композиторов. Разве можно забыть, в каких условиях жили те, кто пытался нас приобщить к лучшему миру: Моцарт, Шуберт, Шуман, Чайковский, Малер, Веберн, Барток. Названные гении еще
182
(пусть и не всегда при жизни) добились известности. А сколько гениев вообще никогда не вышли на свет из
потемков истории! Да, от нас, артистов, зависит судьба сочинения, только это сознание может служить
противоядием от собственного мелкого тщеславия, от силком навязанного нам и все же многими
одобряемого рекламного бизнеса. Освободившись от бациллы рынка, мы могли бы сохранить ум и чувства, достойные артиста. То, что не каждому хочется противоядия, что многим желанно обратное, видно на
примере музыканта, чувствующего себя дома почти во всех салонах мира и чье имя на устах у всех
любителей музыки.
С пианистом Иво Погореличем я был лишь шапочно знаком в Москве. Рекламная истерия вокруг его имени
еще не началась, когда мы случайно встретились в Дубровнике, том самом Дубровнике, где позже, во время
средиземноморского путешествия гид не без гордости демонстрировал достопримечательности, а около
бывшего княжеского двора торжественно объявил: «Здесь недавно выступал наш Иво Погорелич».
Моя история однако не имеет никакого отношения к туризму. Она не связана и с бесцеремонными
высказываниями самого Погорелича, которыми он будоражил и повергал в изумление читателей своих
интервью. Каждый, в конце концов, ищет собственный стиль. Услышав как-то Погорелича в концерте, я
должен был признать: да, у этого экстравагантного парня есть дар, хотя в его исполнении все сознательно
сконструировано. Кое-что казалось мне искусственным. Но ведь и искусственное тоже
183
может – если не убеждать, то хотя бы увлекать. Иво несомненно обладает способностью бросать вызов.
При всей противоречивости, мне это качество кажется более притягательным, чем добросовестное, но
музыкально-бездуховное исполнение, которое занимает в концертной жизни немалое место.
Конечно, искусственность тоже может выглядеть чудовищно и создавать нечто сродни Франкенштейну. Но
это к Погореличу как раз не относится. Он исключительно способный пианист, которому московская школа
весьма укрепила хребет. К тому же Иво умный исполнитель, воздействующий на слушателей своей
отстраненной манерой подачи больше, чем многие его коллеги. Вот мы и подошли к сути «синдрома
Погорелича»: производить впечатление, покорять – спрос на такого рода таланты сегодня чрезвычайно
велик. Иво можно было бы (только в какой весовой категории?) объявить чемпионом мира по музыкальному
воздействию. Хотя и чемпионы блекнут перед лицом Орфея. Очаровывать, зачаровывать, как и
околдовывать, – это другая статья. Истинные художники не меряются тиражами или местом в списке
бестселлеров, фотографиями (в шарфах и без оных), экстравагантными высказываниями, капризами и
манерами. Поиски сущности требуют тишины, риска, оказываются болезненными, но и дарят внезапную
радость. На все это в бизнесе, естественно, спроса нет.
Но моя тема, собственно, не успех (с Погореличем или без него), а простой телефонный звонок. Иво и его
исполнительство – пианизм или артистизм – пришлись по душе. Погорелич превратился
184
в рыночное понятие. О нем говорили, его ругали, им восторгались, ради него брали штурмом концертные
кассы. Разумеется, кто-то из мира бизнеса решил, что надо скрестить это дарование с Гербертом фон
Караяном и сделать запись. Нацелились, так сказать, на ходовой товар. Нормальная идея – ничего
особенного. Она как бы висела в воздухе. Состоялась даже репетиция с Венским филармоническим
оркестром. Но... что-то не получилось. Темп, темперамент, погода или трактовка настроения – короче, дело
не пошло. Вернее, лопнуло. Неважно, кто, когда и при каких обстоятельствах признал себя пораженным.
Слухи ходили всевозможные. В конце концов, если бы все состоялось, появилась бы еще одна запись
фортепианного концерта Чайковского; однако ни соединение двух громких имен, ни число проданных
пластинок не были бы гарантией качества. Доказательство в пользу этого утверждения – в любой фонотеке
классической музыки. Знаменитости можно соединить, но это редко делается во имя музыки и ради ее
расцвета.
Тем не менее, венский скандал вызвал мой интерес. Может быть и потому, что мое собственное сотрудничество с Караяном протекало пугающе противоречиво. Кому бы понравилась ситуация, в которой
вместо хотя бы одной-единственной репетиции внезапно происходит запись, предназначенная на продажу?
Последнюю, но не менее существенную роль в моем любопытстве сыграла, наверное, и солидарность. Хотя
контакта между Иво и мной почти не было, положение, в котором он оказался, вызвало во
185
мне потребность поговорить с ним, возможно, даже поддержать его. (Нужно, правда, заметить, что скандал
длился совсем недолго. Нашлось другое эффектное решение, и не без участия Иво в витринах засиял
новейший хит: его концерт Чайковского с Клаудио Аббадо.) Как бы то ни было – тогда мне хотелось ему
позвонить и спросить у него самого, что, собственно, произошло. Иво явно обрадовался неожиданному
звонку и рассказал мне о той злополучной репетиции-записи, закончив свою тираду фразой:
«Послушай, старик же вообще не способен дирижировать...»
Я не мог удержаться от хохота. И по сей день смеюсь, вспоминая эту фразу. Конечно, я понимаю, это было
эмоциональной разрядкой. Разумеется, мне понятны все сложности сотрудничества престарелого мастера с
поп-звездой, не желающей поступиться своими идеями, невзирая на разницу в возрасте. Ведь нередко
бывает так, что исполнитель навязывает произведению, – иногда в соответствии с традицией, иногда
против нее, – собственное истолкование, дабы обеспечить себе блестящий успех. В таких случаях это
называется «новое прочтение». Но все же: я и сегодня еще остаюсь под впечатлением того, какие можно
средства использовать для самозащиты! Я даже полагаю, что Караян, способный приходить в бешенство и
при этом не всегда стесняясь в выражениях, едва ли мог произнести в Вене: «Погорелич не умеет играть на
рояле». Может быть, его поколение было иначе воспитано, или он избегал высказываний, потому что они
были пустой тратой времени? Свидетельствовало ли его молчание о
186
хороших манерах, об уважении или презрении? Этого мы никогда не узнаем.
Как уже сказано, я все еще смеюсь. Но это печальный смех. Ибо моя история – о нежелании поиска и о
злоупотреблении музыкой во имя успеха. Это история о кокетстве артиста, а за таковое рано или поздно, с
пластинками или без, приходится расплачиваться потерей сущности. Независимо от числа проданных
пластинок. Не все ли равно, – несостоявшаяся запись или перекройка партитуры на свой лад: и то и другое, подобно банальному исполнению, свидетельствует о несостоявшемся диалоге. Что-то теряется навсегда, и
это что-то – звуки музыки. Онемевшую музыку неспособны вернуть к жизни даже громогласные
заклинания PR.
Классическая музыка
Из репродуктора в лондонском такси, в которое садится Миша Майский, гремит музыка. Опять неизбежные, очевидно, «Времена года». Миша пытается вежливо уговорить водителя сменить программу, и делает ему
при этом комплимент, – дескать, тот, наверное, любит классическую музыку. Таксист смотрит
обескураженно: что можно иметь против такой музыки? «Просто мне это слишком хорошо знакомо», —
отвечает Миша. «Вы хотите сказать, будто знаете, что играют?» «Конечно, знаю». «Ну и что же?» Майский
осторожно замечает: «Вивальди...» Таксист оборачивается с громким смехом: «No, no way», – ликует он, обгоняя очередной автомобиль, – «It's none of this stuff. It's Nigel Kennedy».*
Ничего подобного. Это Найджел Кеннеди. (англ.)
Buffone*
Три вечера подряд в Риме я играл концерт соль мажор Моцарта и скрипичный концерт Альбана Берга
вместе с Филармоническим оркестром Санта-Чечилия. Оркестр был явно очень утомлен, – большая часть
репетиционного времени оказалась потраченной на Берга. Моцарту же почти ничего не осталось, так что
артикуляция и общий настрой оставляли желать лучшего. Большого удовольствия сами выступления не
принесли; я был рад, что они позади. Удалось хотя бы попробовать сыграть «своего» Моцарта.
Через десять дней в Вене мы с Николаусом Харнонкуром собирались продолжить работу над моцартовским
циклом. Рим послужил для этого подготовкой, – я мог искать наилучших решений для предстоящей записи.
Вероятно, это усиливало разрыв между моим исполнением и тем, что рутинно играл оркестр.
* Шут (итал.)
189
Конфликту нельзя было отказать в своего рода концертности; ведь в самом понятии concertare заложено
соревнование; так что вряд ли стоило говорить о провале. Прежде всего при исполнении Альбана Берга, которому уделили много времени на репетициях, я чувствовал себя хорошо подготовленным; незадолго до
того я записал его скрипичный концерт вместе с Колином Дэвисом.
В Лондон я отправился со смешанными чувствами. Там меня застал телефонный звонок моего нового
приятеля, Стефано Мадзониса. Возбужденный Стефано непременно хотел выяснить, «почему дошло до
скандала». «Какого скандала?» – спросил я в изумлении. Ну как же, во всех газетах написано, что Уто Уги, известный итальянский скрипач, меня оскорбил. От Стефано я впервые услышал историю так, как ее
излагала пресса. Уги был на одном из моих концертов и кто-то из журналистов видел, как он ерзал на месте, не скрывая раздражения. В конце концов, Уги направился к сцене, поприветствовал концертмейстера и
выкрикнул довольно громко: «Buffone», – чем привлек к себе всеобщее внимание. Публика в партере не
могла не слышать его восклицания.
В моем сознании действительно промелькнуло нечто вроде «Бу!» во время выхода на поклоны во второй
день, но я был не уверен в этом. Кроме того, Уги мне был незнаком, так что история довольно быстро
забылась. Музыканту вообще не следует принимать доброжелательные или злорадные выкрики слишком
близко к сердцу. Но римляне и Уто Уги так вовсе не считали. Двумя днями позже в газете «Tempo»
появилась статья римского коллеги.
190
(Кстати, следует ли мне, скрипачу, называть коллегами всех, кто играет на скрипке?) В письме Уги ссылался
на музыкантов из Филармонического оркестра Санта-Чечилия, среди прочих на концертмейстера, с которым
у нас периодически возникали сильные разногласия, и на свою приятельницу, игравшую в том же оркестре.
Все вместе они выдвигали претензии к моей трактовке Моцарта и утверждали, что интерпретации, не
соответствующие традиции таких артистов как Энеску, Тибо, Аккардо и так далее, вплоть до Анны-Софии
Муттер, следует отвергать. Моя вольная манера играть Моцарта, по их мнению, опасна, ибо может
испортить хороший вкус публики. Некоторые газеты включились в дискуссию и бурно обсуждали, этично
ли развязывать кампанию в прессе против собрата по ремеслу. Разумеется, как всегда имелись «за» и
«против».
Этот бессмысленный эмоциональный взрыв и откровенное желание навредить показались мне скорее
забавными. Но они же вдохновили и на ответную реакцию. К тому же, неделей позже мы с Олегом
Майзенбергом вновь оказались в Риме.
В завершение дневной программы в Teatro Argentino, транслирующейся по радио на всю Италию, я сыграл
«на бис» пародийную пьесу «Сувенир» Ладислава Купковича, перед которой объявил по-итальянски, что
посвящаю исполнение «дорогому коллеге Уто Уги». Шутку поняли, и мне удалось таким способом
действительно примерить на себя карнавальные одежды buffone.
До сих пор не знаю, что было причиной поведения Уги: искренний эмоциональный взрыв или це-ленаправленно-рекламная кампания в собствен-
191
ную пользу. (Через несколько недель ему самому предстояло играть в Риме все концерты Моцарта.) Думаю, этот поступок скорее всего не был спонтанным – что-то в Уги (по каким причинам, сказать трудно) за
долгое время накопилось.
Наверняка этому случаю можно найти объяснение в итальянском темпераменте и нравах; в другой стране он
не привлек бы такого внимания. Лишь в Италии любому соприкосновению (даже конфликтному) с
«красивым» обеспечены неподдельный интерес и (пусть не всегда адекватная) общественная реакция.
Красота самого языка подтверждает это. Bella musica, bella voce, bella donna, bel canto. За тысячу километров
от обремененного страхами советского сознания внезапно оказалось, что существуют и другого рода страхи
и комплексы.
История, сама по себе в высшей степени странная, оказалась для меня не только развлечением; она имела и
другие последствия. По всей Италии интерес к моим концертам необыкновенно вырос. У меня появилось
множество новых друзей, которые обращались ко мне иногда с юмором, часто вполне серьезно, но всегда
сочувственно и как бы извиняясь за Уги. На почве мнимого поражения иногда расцветают цветы признания.
Тем не менее, искренне хотелось бы познакомиться с Уто Уги, но сомневаюсь, совпадает ли такое желание с
его собственными намерениями. Как-то раз мне передали от него привет. Была ли это ошибка или намек на
примирение, осталось невыясненным. К «исполнительскому цирку» принадлежит, в конце концов, не только
buffone, но и конферансье. Иногда тот и другой соединены в одном человеке.
Затакт
Дирижеров можно и нужно судить не только по точности темпа, по избранной каждым из них трактовке, технике жеста и общему впечатлению, производимому оркестром. Что-то сообщает уже первый взмах
палочки. Музыканты Камерного оркестра Европы (СОЕ) заявили мне однажды, что уже по затакту могут
судить, владеет ли прославленный маэстро своим ремеслом. Приговор казался суровым, но соответствовал
молодому возрасту большинства музыкантов этого оркестра. Впрочем, опыт общения и работы со многими
знаменитостями давал им некоторое право на столь безапелляционное суждение. Однако, тут, как и
повсюду, есть исключения.
Коснемся бегло истории музыки. Фуртвенглер был известен весьма своеобразной манерой давать затакт. И
хотя многие вообще не стали бы называть его спиралеобразные движения затактом, именно первым
движением маэстро создавал со-
193
Можно много размышлять о технике, выразительности, знаниях, недоразумениях, отклонениях и благих
намерениях. И все же «речь» моя была лишь о ничтожной мелочи: о затакте. Но как-никак он – начало всех
начал...
«Времена года»
Восхищение «Золушкой» Россини с Клаудио Аббадо во время гастролей La Scala в Москве надолго осталось
в моей памяти. Его исполнение «Реквиема» Верди тоже показалось мне убедительным. Однако моя первая
встреча с маэстро состоялась несколькими годами позже. В августе 1977-го на Зальцбургском фестивале мы
должны были вместе исполнять скрипичный концерт Бетховена.
В июне я играл то же сочинение в Лондоне с Эугеном Йохумом и Лондонским симфоническим оркестром
(LSO). Тогда я впервые за рубежом воспользовался каденциями Альфреда Шнитке, написанными для
бетховенского опуса незадолго до того. Критика была в возмущении. Музыканты, которые порой еще
консервативнее критиков, то негодовали, то смеялись. Лишь старый маэстро Йохум не терял ни
собственного достоинства, ни уважения к молодому солисту: «Будьте верны себе и играйте как считаете
правильным», – сказал он по-
197
cле бурной реакции оркестра на репетиции. Эта фраза напомнила мне моего учителя Давида Ойстраха, который тоже умел с уважением относиться к чуждым ему идеям своих учеников. На прощание я попытался
привлечь концертмейстера оркестра, с которым предстояло выступать и в Зальцбурге, на свою сторону, и
сказал, улыбаясь: «Let's surprise Claudio in Salzburg!»* Последствия моей наивной конспирации не заставили
себя ждать.
В перерыве администрации было чем заняться. Полетели телеграммы из Лондона в Зальцбург -фестивалю.
Оттуда был послан телекс в Москву. Цель же была проста – уговорить меня играть другие каденции. Но то, что написал Альфред, мне пришлось по душе, и во мне проснулось упрямство. К тому же некоторые
дирижеры, с которыми я их тоже играл – например, Кондрашин или Ловро фон Матачич – были в
восторге от идеи конфликтного обращения со стилем венского классика. В первой части подхватывались
темы и ритмы из скрипичных концертов, возникших после Бетховена, но исторически связанных с его
шедевром. Я остался верен именно этому подходу. Разумеется, нашлись и противники, посчитавшие
попытку такого вмешательства чистой спекуляцией. Как всегда, непонимание близких друзей задевало
больше всего, но я, раз поверив в идею, рационально оправдал ее наличием свободного пространства для
каденции. И, хотя они были далеки от стиля Бетховена и в высшей степени рискованы, они лучше всего
должны способствовать пониманию бетхо-
* Давайте удивим Клаудио в Зальцбурге! (англ.)
198
венского духа. К тому же, все это было не просто современной музыкой, но и тем, что в те годы особенно
привлекало – музыкальной «акцией».
Уже на первой зальцбургской репетиции некоторые музыканты в оркестре снова громко смеялись. Аббадо, прослушавший каденции еще до того, в артистической, не скрывал своего раздражения. Меня снова
спросили, не могу ли я играть что-нибудь иное. Даже после генеральной репетиции просьба-требование
прозвучала еще раз. Столкновения хотелось избежать любой ценой, но о том, чтобы сдаться, не могло быть
и речи. Я просто заверил, что ничего другого не выучил, а в самый день концерта, наполовину в шутку, наполовину от подлинного отчаяния, сослался на Хельсинкскую декларацию прав человека: каждый солист
имеет право сам выбирать каденции. Вечером ожидался скандал. Несмотря на бесповоротно принятое решение, мне становилось все беспокойнее. Исполнение, тем не менее, прошло «на ура». Публика бушевала, и
даже критика, раздираемая противоречиями, постановила, что мы с Шнитке Бетховену вреда не причинили.
Все это, конечно, радовало, но столкновение с Аббадо не забылось. Меня, молодого скрипача, особенно
задевала его явная забота о том, как бы все обезопасить. Нейтральные и часто безликие интерпретации
известных дирижеров встречались мне, юноше из Москвы, в первые годы на Западе неоднократно. Лишь
постепенно я понял, как тесно здесь все сопряжено с логикой коммерции и стал искать собственные
способы противостояния.
199
С идеалистическими представлениями артиста, выросшего в Москве, это было очень мало связано.
Заголовки с превосходными степенями, бесчисленные фотографии музыкантов в витринах, разодетая
фестивальная публика – неужели в этом и был весь Зальцбург? Успех все же порадовал; ведь не ждал же я, что каденция Шнитке придется по вкусу каждому. Бессмысленно было обвинять и одного маэстро, – в
конце концов, он пытался демонстрировать свою верность Бетховену, и в этом смысле был серьезным
партнером. Как обычно, я пытался задним числом усомниться в себе и своем вкусе.
Встрече в Зальцбурге через несколько лет суждено было продлиться. Фирма Deutsche Grammophon хотела, чтобы мы с Аббадо и Лондонским Симфоническим оркестром записали «Времена года» Вивальди. У
Аббадо в то время был контракт с LSO, предусматривающий совместную запись определенного количества
пластинок. Хоть я никогда не слышал музыку барокко под управлением Аббадо, да и сама идея записи
Вивальди с симфоническим, а не камерным оркестром (еще и без предварительного «обыгрывания») была








