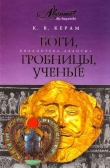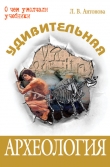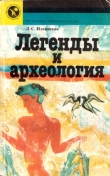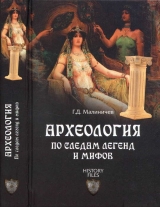
Текст книги "Археология по следам легенд и мифов"
Автор книги: Герман Малиничев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Тут сразу следует пояснить, что работа академика В. Георгиева была подвижнической. Надо было перечитать все труды по выбранной проблеме, проанализировать горы информации на разных языках, определить корни ошибок и искать свой собственный путь к истине. Разумеется, путь был не гладким и не стремительным. Были у болгарского ученого свои драматические тупики, дни отчаяния, недели напряженной внутренней мысли. Для дешифровки нужен огромный комплекс знаний – археология, история, лингвистика, математика, морфологическая статистика, комбинаторика.
В один из дней исследовательской работы в библиотеке он натолкнулся на факт, который после обдумывания принял, условно говоря, за нить Ариадны. Если другие дешифровщики упорно твердили о необходимости здесь билингвы, то есть древнего двуязычного текста вроде Розеттского камня, болгарский академик отважился обойтись без такой удобной подсказки. Ведь работал же он с этрусским и иллирийскими языками без билингвы и получил международное признание. Его перу принадлежат оригинальные труды по сравнительным морфологическим моделям хеттского и этрусского языков.
Словом, о легкости разгадки диска не приходится говорить. Проникать в пласты истории древних народов всегда сложно. Тем более что существуют пессимистические прогнозы и табу корифеев, которые всегда являются серьезным препятствием. Например, в научном труде, вышедшем в Лондоне в 1952 году, категорично утверждалось, что сейчас ни у кого нет исходной точки зрения на языки древнего Крита.
Какую же исходную нашел В. Георгиев? В трудах древнегреческих историков им найдено краткое сообщение о том, что на Крите задолго до прихода сюда греков с континента жил народ, называвший себя терминами. Эти термины пришли из Малой Азии, а затем переселились по каким-то причинам обратно, где образовали Ликийское царство.
Вот вам и нить Ариадны, ибо ученый мир хорошо знаком с историей и религией ликийцев. Их язык стал понятен после того, как были найдены и прочитаны надписи на камнях, относящиеся к VI веку до н.э. Надписи оказались на лувийском языке, близком к ликийскому.
Сейчас ликийский язык ученые относят к хетто-лувийской группе, имеющей явные индоевропейские корни. Все это и позволило болгарскому ученому выдвинуть перед собой гипотезу, согласно которой Фестский диск, вероятнее всего, содержит письмена терминов. А если это так, то появляется реальный подход к дешифровке посредством уже известной лувийской письменности.
Прежде чем приступить к конкретной работе, академик В. Георгиев разработал следующие фонетические и, соответственно, логические принципы своей дешифровки диска:
1. Всякий отдельный знак – рисунок диска должен означать СЛОГ, то есть сочетание гласных и согласных звуков речи, как это принято в ликийских и лувийских письменах.
2. Поскольку письменность лувийцев была основана на принципах АКРОФОНИИ, то каждый знак должен иметь свое фонетическое значение по первому слогу лувийского слова, исходя, естественно, из названия предмета, изображенного на диске (рыбы, воины, орудия труда и др.).
3. Знаки, которые подобны крито-микенским знакам линейного письма или рисункам лувийских пиктографических письмен, должны здесь иметь одинаковое фонетическое значение.
4. Во внимание следует принять комбинаторное соображение, то есть метод объяснения и толкования надписей на основе определенных закономерностей, полученных из самого текста этих надписей и опыта других дешифровок.
5. Установленные фонетические значения знаков рисунка должны давать возможность читать лувийские фразы, естественно, с определенным смыслом и логикой текста.
6. Фонетическое значение одного знака с Фестского диска можно считать точно установленным, если оно будет отвечать по крайней мере трем вышеизложенным принципиальным положениям дешифровки.
Вот два примера приложения принципов академика В. Георгиева при определении фонетического значения некоторых знаков. Знак «голова собаки» имеет соответствие в лувийском пиктографическом письме, где он означает слог «су» (слово «собака» по-лувийски звучит как «сувана»). Значит, можно выбрать слог «су» с достаточной точностью. Фонетическое значение «су» дает возможность читать лувийские фразы, то есть отвечает третьему принципу. Вот так один слог определен.
Знак «летящая птица» имеет соответствие в критском линейном письме, где он означает слог «кху». В то же время слово «птица» в хетто-лувийских языках звучит как «хува». Следовательно, можно выбрать слог «ху». Он дает возможность читать лувийские фразы. Значит, в данном случае и он приемлем.
Но прежде чем приступить к полной дешифровке, болгарский ученый долго думал о том, что в тексте могут встречаться личные имена и географические названия. В тексте Фестского диска имеется 13 групп знаков, которые оканчиваются двумя знаками. Например, несколько раз за знаком «круглый щит» следует рисунок «голова воина в шлеме». Академик решил, что тут речь может идти о двуосновных личных именах, характерных для многих индоевропейских языков. Для сравнения он приводит славянские имена: Борислав, Владислав, Святослав.
Выбрав для расшифровки определенную группу рисунков диска, болгарский лингвист установил фонетическое звучание 10 слогов. Они помогли сдвинуться с места, ибо было найдено с большой степенью достоверности несколько собственных имен. Так, из знаков «рог», «хвост», «летящая птица» и других было составлено имя «Тархумува». Удача здесь в том, что личные двухосновные имена хеттов и лувиицев довольно часто оканчивались именно на слог «мува». Академик не мог не быть довольным таким совпадением. И как тут не вспомнить слова Шампольона, разгадавшего древнеегипетские иероглифы: «Вдохновение разгадки – вот настоящая жизнь».
Еще раз В. Георгиев убедился в правильности своей исходной точки и методики, когда нашел на диске второе имя: «Ярамува». Такое имя хорошо известно ученым по хетто-лувийским надписям на известковых камнях и мраморных плитах, найденных французскими и американскими археологами в юго-западной части Турции.
Из другой группы знаков, куда входили изображения «печать», «хвост», «голова собаки» и другие, получилось имя «Сармасу». Оно тоже известно по лувийским надписям. Всего академик вычислил 11 собственных имен.
Конечно, работа длилась не один месяц и не один год. Все проверялось и перепроверялось, но постепенно складывался силабар письменных знаков Фестского диска.
А кто же такие лувийцы? Это ближайшие родственники хеттов, жившие в Малой Азии и поэтому попавшие в летописи древних греков. Лувийской проблематикой много занимался итальянский профессор Мериджи. Он доказал индоевропейскую принадлежность лувииского языка, и соответственно ликийского. Мериджи, например, считал, что в Трое говорили на языке, близком ликийскому, а само название этого города можно перевести с лувииского как «процветающий город». Кстати, забегая вперед, скажем, что Троя упоминается в Фестском диске.
В трудах итальянского лингвиста содержится доказательство, что ликийское слово «термили» означает «ликиец». Древнеликийский язык он называет термильским. А термильский язык – это в какой-то степени и язык лувийцев. Скорее всего, ликийский язык – поздний диалект хетто-лувийского. Причем он ближе к лувийскому, нежели к хеттскому.
В журнале «Балканское языкознание» вышла статья академика В. Георгиева, где им дается окончательный вариант дешифровки Фестского диска:
Сторона А
Когда Яра готовился в поход против Лилимувы, то не успел отправиться, ибо Ярамува отстранил своего любимца и сам уничтожил Лилимуву
Тархумува, однако, решил насчет Яра, чтобы тот отошел на отдых. Тархумува был в плохих отношениях с Лилимувой. Тархумува решил, чтобы сам Яра находился на отдыхе во дворце.
Сандания и Апупимува убежали на Самос.
Упарамува встречал всех во гневе за свой ущемленный интерес. Рунда, однако, прибег к силе и оттеснил его. Сармасу отступил ближе к Ярамуве.
Сторона Б
Сарма замыслил и открыто выполнил свой план – он науськивал других. Его же подстрекала Троя, но я ее сторожил.
Сарма, разгневанный на Эфесос, выиграл дело в свою пользу. Троя его подстрекала.
Сармасу, когда освободился, подошел и воздействовал силой. Троя его поощрила.
После победы над Яриной он отошел к Ялисосу, обложил тяжелой данью, но проявил снисхождение и ушел в Газену.
Но Яра разгневался за унижение. Яра собрал зерно, обеспечил мне счастливое пребывание и поклялся, что не станет создавать неприятности, поскольку это не в его интересах.
Сандатимува.
* * *
Итак, как утверждает академик В. Георгиев, содержание пиктографического текста, нанесенного на глиняный диск, – это краткая историческая хроника или же доклад, посланный царю в Фестос. Автор текста – Сандатимува. Он рассказал о сложных событиях в Малой Азии, происходящих между различными племенными вождями и их полководцами.
* * *
На одном из симпозиумов по фракеологии в Софии мне посчастливилось поговорить с академиком В. Георгиевым.
Болгарский ученый пояснил, что дешифровка диска, собственно говоря, не была самоцелью. И лувийский язык был выбран неслучайно. Он хотел показать, что ахейские сказания о диких племенах Крита лишь льстивые легенды придворных рапсодов для ушей их правителей. Да, они завоевали остров, покорили народ, но там тогда не было диких племен. У критян был торговый и военный флот, прибрежные крепости, воины сражались бронзовыми мечами. На острове был союз племен, культура их была гораздо выше ахейской. Земледелие имело тысячелетнюю традицию. Они разводили оливковые и ореховые деревья и даже розы. И у них было три вида письменности. Эти племена академик отнес к протофракийской линии, к индоевропейцам, создавшим на острове свою весьма своеобразную цивилизацию. Ахейцы с Пелопоннеса отстали от них на добрую тысячу лет.
Почему для дешифровки выбран именно лувийский язык? Во-первых, академик долго занимался этим языком по надписям из Малой Азии. Из трудов древнегреческих историков IV и V веков до н.э. известно, что лувийцы долго жили на Крите. Именно у них ахейцы заимствовали знаковую письменность А и Б, строительное дело, метод кладки крепостных стен из мегалитических блоков, что обнаружил Г. Шлиман в Микенах и Коринфе.
Академик считает, что расшифровка фестского диска помогла ученым по проблемам фракийских древностей до какой-то степени прояснить роль лувийцев в истории Крита. Их малоазиатские полисы поддерживали связь с соплеменниками на острове.
В дальнейших языковедческих работах болгарский ученый доказал близкое родство лувийского языка с хеттским, карийским, лидийским, мидийским и другими из группы индоевропейцев фракийской общности, которую отец истории Геродот назвал «многобройным народом, воинственным, хозяйственным, умелыми коневодами».
Кстати, маститый английский археолог Колин Ренфрю, специалист по древним культурам Малой Азии, заявил, что считает Георгиева выдающимся языковедом и историком, в работах которого можно доверять практически каждому выводу.
ГРАНДИОЗНОЕ ЗОЛОТО МАЛЫХ ФАРАОНОВ
По записям древнегреческих купцов и путешественников было известно, что египетские фараоны XXI династии правили землями в нижнем течении Нила, где находилась и их столица, окруженная мощной крепостной стеной. Увы, ни один источник не указывал точного места, где располагался древний город Танис, если не считать адреса из Библии – к северу от Фив.
Где же находятся руины всеми забытого города? В 1928 году на разведку в дельту Нила отправился парижский археолог Пьер Монте. Он и не предполагал, что его поисковые работы в Египте с вынужденными перерывами продлятся более 20 лет.
* * *
Первое, на что опирался Монте в своих изысканиях, это слова из Библии о том, что в дельте Нила был город Тсани, где жили варвары и богохульники, во время набегов грабившие и разрушавшие храмы. За эти грехи город ушел под землю и был залит водой Нила.
В деревушке Сан-Эль-Хогар арабы поведали французскому ученому старое поверье, будто под одним из песчаных холмов Аллах, чтобы фелахи не были ленивы, приказал закопать старые камни. И вот уже 300 лет они копают песок и добывают кирпичи и плиты для домов и мечетей. Это был уже важный след, хотя без точного направления.
Третью легенду распространяли подпольные гробокопатели, связанные с дельцами черного рынка. Они утверждали, что в округе есть холм под названием «Спрятанные камни». Под ним водятся ядовитые змеи. Они живут там столь долго, что пропитали своей отравой всю землю. Соваться туда не резон!

Деталь инкрустированной гривны из саркофага Шешонка I
Четвертая легенда исходила из уст служителя местной мечети. Он поведал: по поверьям местных крестьян, под холмом с камнями много древних кладов, зарытых язычниками. Но он давно своими молитвами упросил небо не выдавать их людям, ибо случайное богатство развращает правоверных, удаляет их от праведного труда. Кстати, глаз ученого отметил, что минарет сложен здесь из очень древних камней.
Монте понял, что имеет дело с клубком мифических легенд и поверий с гиперболами, импрессионизмом и даже сюрреализмом. «Ребус можно разгадать, если именно в этих местах как следует покопаться», – сделал для себя вывод археолог перед возвращением в Париж.

Золотой скарабей из саркофага Шешонка I
Планомерные раскопки он начал в конце 1930 года. Тут же откопал гранитного сфинкса на известковом постаменте. Первая удача! Археолог прекрасно знал историю египтологии – такие львы с головой человека устанавливались на дороге к заупокойному храму. Через месяц упорных земляных работ он убедился, что сфинксов тут много – целая аллея, но… Чтобы докопаться до храма, пришлось бы перелопатить миллионы кубометров слежавшегося песка и выкачать море солоноватой и мутной воды…
Он отступил, принялся рыть в другом месте и был вознагражден – сбылась легенда о кладах! Под массивным камнем в ямке оказались аккуратно сложенные вещи – ритуальная утварь храма, мумии кошек, оружие стражников, скульптурки богов, дощечки, инкрустированные серебром и мелкими рубинами. Конечно, все это запрятали жрецы, когда враги окружали город.
Второй клад содержал всего одну вещь – запеленутую в тряпки гранитную скульптуру египетского бога с головой лисицы. Сделана она была с большим изяществом и старанием. Ее удалось переправить в Лувр.
Еще один клад нашли прямо у передних ног небольшого сфинкса. На этот раз он состоял из керамических черепков, осколков жреческой посуды. На каждом в один ряд стояли иероглифы, нанесенные темной краской. Что это? Оказалось – названия соседних племен, стран и народов.
У древних египтян названия стран отождествлялись со всем их населением. В смутное время военных противостояний чаши с географическими надписями жрецы разбивали на алтаре с магической целью погубить противников державы. В данном случае это были нубийцы, ливийцы и жители Палестины. Словом, черепки оказались не пустячком, а своеобразной исторической справкой о жизни страны малых фараонов. Не было лишь имен владык дельты Нила. Однако в Париж ушла телеграмма о первом грандиозном успехе в раскопках. Еще бы: найдены иероглифы VIII века до н.э., когда на Египет сыпались волны катастрофических набегов ливийцев, нубийцев и народов Малой Азии. Перенесение столицы в глухие места дельты Нила не было случайностью. Это был исход многострадального египетского народа в глухое место, которое обживалось несколько веков. Танис – это его древнегреческое название.
Потянулись годы утомительных археологических работ под многометровой толщей песка и камней. Подчас ученый чувствовал себя заправским горняком. Он был уже уверен, что трудится на месте Таниса. Но нужны были веские доказательства для парижских чиновников от науки. Монте обнаружил и вычертил точный план оборонительных стен города, раскопал фундаменты нескольких храмов и дворца, нашел следы искусственного озера в центре города. Его рабочие обнажили часть каменной кладки, укреплявшей некогда берега песчаного полуострова. Следовательно, тут было не временное торговое поселение, а именно столичный град. «Это грандиозное открытие!» – так прокомментировал Монте обнаружение массивного гранита кладки в своей телеграмме в Париж. Но там знали, что археологу пока не удалось обнаружить ни одной гробницы. А без нее успех был не полным. Монте нужны были иероглифы на стенках саркофагов, подтверждающие, что раскопаны останки именно властителей Египта XXI династии.
Некоторые пессимисты из его команды нашептывали, что все египетские фараоны захоронены к югу от Каира. В дельте он ничего не найдет. Но археолог был уже уверен в другом. Ведь неслучайно древние греки называли Танис «роскошным городом с садами и парками», «северными Фивами с портовыми сооружениями и бесчисленными мастерскими ремесленников». Монте находил такие мастерские, но ему было необходимо решающее доказательство.
Весной 1939 года на долю упрямого археолога выпал наконец волнующий момент. Утром он читал свежие газеты, заголовки которых не оставляли сомнений: «Вторая мировая война у порога». Но, вместо того чтобы сворачивать работы, он приказал рабочим копать глубже и быстрее. Он сам спустился в новый раскоп и остолбенел – лопаты стучали о камни. Это была солидная вымостка из плит известняка. И он сразу догадался, что это такое: дорога к подземному склепу! Через два дня он достиг цели, сам работая кайлом вместе с рабочими. Перед ним был склеп с саркофагом. Иероглифы говорили: тут захоронение фараона Осоркона I. Он был известен историкам как один из правителей XXI династии. Но, увы, гранитный саркофаг был разграблен в глубокой древности, исчезла даже мумия…
Монте посвятил день размышлениям. Интуиция подсказывала, что в этом месте не может быть один саркофаг. Он вычертил план трасс, по которым следовало продолжать работу.
Мысль опытного археолога сработала правильно. Через год были обнаружены южные стены погребального комплекса, затем ритуальные вазы и бронзовые светильники. И вот перед ним стенка, на которой проступают очертания замурованной двери. Монте приказывает ее разрушить, ждет, когда осядет пыль, и входит в узкий коридор. Фонарики высвечивают статуи богов и богинь Египта, бронзовые и алебастровые сосуды. А вот и сам склеп с саркофагом!
Археолог открывает крышку из розового гранита, видит иероглифы и читает: «Псусенес. Сын Ра, жрец Амона, живой и вечный».

Александр Великий
Пьер Монте осторожно приоткрывает серебряную оболочку мумии и видит массивную золотую маску. «Образ такой же, как у Тутанхамона, – говорит он помощникам. – Посмертный портрет фараона. Сработан с расчетом на вечность!»
Не теряя времени, принялись разбирать и переписывать вещи и вещицы, уложенные в гроб для путешествия фараона в загробный мир. Тут и золотые гривны, и маленькие изящные вазочки, и бронзовые колеса – символы Солнца. Много перстней, браслетов, священных жуков-скарабеев из лазурита и ярких драгоценных камней. Рядом оказались золотые колпачки для пальцев владыки. Золотая фольга покрывала всю его мумию. Но… бренное тело фараона из XXI династии не сохранилось – грунтовая влага полностью его разъела…
«Захоронен Псусенес по древним обычаям, – заключил Монте. – Золота здесь больше, чем у Тутанхамона. Но для нас важнее иероглифы. Мы наконец нашли то, что было нужно».
Монте поручил дальнейшую разборку помещения помощникам, а сам с рабочими принялся копать песок у западной стены. Там через месяц удалось откопать еще три захоронения малых фараонов, в том числе и Шешонка I. Это тот самый фараон, деяния которого удостоились упоминания в Библии. Во времена царя Соломона его отряд из 1200 воинов на боевых колесницах ворвался в Иерусалим, перебил сопротивлявшихся, разрушил храмы, ограбил казну и увез с собой реликвии иудеев.
Шешонк не был египтянином. Он выдвинулся из среды ливийских наемных полководцев. Став фараоном, он первым делом укрепил Танис каменными стенами. Объявив город столицей нового Египта, он принялся украшать его храмами и дворцами. Чтобы добыть золото и рабов, сделал ряд успешных военных рейдов в Малую Азию.
Шешонк был лихим воякой, но мирным и мудрым во внутренней политике. Он пригласил из стран Средиземноморья хороших ремесленников и мастеров каменного дела. Он не вывозил священные скульптуры из Фив, как это делалось до него, а организовал их изготовление на новом месте. Как убедилась команда Монте, малый фараон проявил большую тактичность: он не требовал, чтобы мастера нарушали вековые традиции ритуального искусства. Он понимал, что и в дельте Нила был Египет с его многотысячелетней культурой. Он не нарушил и веры египтян в своих древних богов, олицетворявших силы неба и земли.
* * *
До этого открытия Монте девять лет копал траншеи и туннели в отложениях Нила. Свои раскопы он пробил на площади в 250 гектаров. Подчас работы велись на глубине 30 метров. Он все эти годы верил, что работает на месте Таниса, но лишь в начале 1940 года он официально известил французскую археологическую службу, что столица малых фараонов наконец найдена. В тот год он вскрыл несколько неразграбленных захоронений знатных египтян, и в Париж полетела телеграмма об окончательном успехе эпопеи. Конечно, с термином «грандиозный».
Понимая, что с открытием склепов фараонов XXI династии в историю Египта вносится новая страница, Монте на вопросы журналистов заявил:
– Разумеется, тут грандиозные открытия. Сфинксы, стелы, бронзовые ритуальные вещицы и много, много золота!
– Можно ли сравнить с сокровищами Тутанхамона?
– Золота извлечено на свет больше. По своим художественным качествам драгоценности изящнее, выразительнее. В них больше жизненной радости и меньше религиозной суровости.
Пьер Монте был полон новых планов, но летом 1940 года его отзывают в Париж. Сказывалась военная обстановка. Археолог собрал ящики с драгоценностями в караван грузовых автомобилей, который под охраной военного конвоя отбыл в Каир.
* * *
Весной 1945 года – сразу же после безоговорочной капитуляции фашистской Германии – Пьер Монте помчался в Египет на крыльях надежды. Но горькое разочарование охватило его в первый же день пребывания в Каире. За годы войны его ценнейшие находки не были разобраны и классифицированы, хотя арабы клятвенно обещали это сделать. Более того, часть их была украдена, а все, что оставалось в ящиках, пострадало от подвальной влаги и пыли. Но Монте недолго предавался печали. Оставив двух верных помощников возиться в музейном склепе, он устремился в дельту Нила на место своих прежних работ. Но и там его ждал удар: с 1941 по 1943 год, как ему поведали местные чинуши, в его раскопах ковырялись подпольные гробокопатели, продававшие находки английским и другим офицерам и солдатам…
Пьер Монте быстро успокоился, ибо принялся за свое любимое дело. И вскоре в Париж полетела первая телеграмма: «Грандиозная находка, неразграбленный склеп Ундебауда – полководца фараона Псусенеса. Он полон сокровищ высокой художественной ценности».
Через год упрямому французу опять повезло – его команда вскрыла некрополь IX века до н.э. И опять обилие погребального золота, серебра, бронзы, слоновой кости. Пора было думать о грандиозной выставке в Париже, показать миру уникальные сокровища малых фараонов. Но…
Это «но» было неожиданным и странным. С каким-то восточным упорством чиновники египетской службы древностей решили держать находки из Таниса на нелегальном положении. Они не были научно описаны и не выставлялись в Каире. Более того, каирские искусствоведы пускали слухи, будто золото Шешонка и Псусенеса ничего не стоит по сравнению с тем, что найдено в подземном склепе Тутанхамона. Работы ювелиров и ремесленников эпохи XXI династии носят упаднический характер, лишены оригинальности и древней обаятельности. Словом, древнеегипетский декаданс с элементами эклектики…
Совсем другого мнения был французский египтолог Жан Йот. Ему довелось кое-что увидеть в ящиках, забитых еще руками Монте. Он считал, что искусство X—VIII веков до н.э., конечно, отличается от классических образцов, но оно самобытно. Некоторые статуэтки просто уникальны по художественной выразительности. Называть все это декадансом нет никаких оснований…
Между Парижем и Каиром завязалась длительная переписка. Не обходилось без французской эмоциональности и восточной увертливости. В конце концов выставка состоялась, но, увы, лишь 48 лет спустя после открытия Пьером Монте саркофага Шешонка и других малых фараонов. Сам первооткрыватель древних сокровищ покоился к тому времени на кладбище в родном Страсбурге…
Египетский департамент культуры разрешил провести выставку в столице Франции в течение 5 месяцев, выбрав из шести тысяч находок в Танисе всего 600 экспонатов.
Европейцы были поражены всем увиденным. Шедевров древнего искусства было множество. Поражало изобилие золота и тонкость его обработки. Восторженные отзывы дали итальянцы и англичане. «Это волнует так же, как и золото Тутанхамона. Уровень искусства высочайший», – писал итальянский журнал «Эпока». Лондонские газеты охотно употребляли в качестве оценки словечко «грандиозно». Несколько хладнокровнее оказались немцы и швейцарцы. Они отметили предметы VIII века до н.э. как этап развития египетского искусства, условно сравнив его своеобразие с эллинизмом в греческой культуре. Конечно, хвалебные гимны пела французская пресса, называя результаты работ Пьера Монте выдающимся открытием в дельте Нила. А вот египетские газеты упорно молчали об успехе выставки в Париже.
Так что же скрывается за всеми этими «восточными тонкостями»? Думается, ничего мистического здесь нет. Просто были соответствующие указания заманивать в Каир туристов на старую и проверенную приманку – золотую маску Тутанхамона. Обывательский вкус хорошо клюет на знакомый фетиш. Но, с другой стороны, нельзя не учитывать и феномен инерции: прославление сокровищ Тутанхамона длится более 70 лет. Из него создали фетиш, и реклама оказала свое влияние на публику. Золото малых фараонов, несмотря на свою огромную историческую ценность, до сих пор остается в тени от блеска посмертной маски Тутанхамона, который, кстати, как историческая фигура гораздо бледнее Шешонка.
«Грандиозная несправедливость!» – сказал бы Пьер Монте…