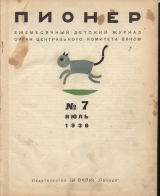
Текст книги "Голубой берег"
Автор книги: Георгий Тушкан
Соавторы: Михаил Лоскутов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
– Вот как оно стреляет, – сказал Джалиль Гош, с волнением протягивая мне ружье. – Охотник Джалиль убил из него очень многих зверей. Он убивал из него и человека, без промаха… Я хочу, чтобы ты взял это ружье… Я должен заплатить за больницу. У меня больше ничего нет. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь думал, что Джалиль – свинья…
– Джалиль, – закричал я. – Как тебе не стыдно! Ты думаешь, что я могу оставить охотника без ружья! У меня есть свое ружье.
Джалиль удивленно и сердито оглядел меня, потом, ни слова не говоря, опять повернулся и пошел. Я вернулся в дом.
Мои новые караванщики говорили между собой:
– Река Сурх-Об разлилась, снега тают, кишлак Катта-Карамук отрезан: он на том берегу. А нам через него ехать. Как быть?
Это был повод, чтобы попытаться отказаться от поездки, Я начал их уговаривать, мы заспорили.
В этот момент дверь открылась. На пороге стоял опять Джалиль Гош.
– Ты скверный человек, – оказал он мне. – Ты отказался от подарка. Ты жалкий посланец от власти шакала. Тебя нужно убить… Но я тебе обязан, и я не хочу, чтобы ты думал, что Джалиль – свинья… Я знаю короткую дорогу в Катта-Карамук и броды через Сурх-Об. Я не знаю, зачем ты ездишь и знать не хочу: мои глаза этого не видят, уши не слышат, мне нет дела до этого… Я бы дал тебе свою лошадь, но у меня ее нету… Мне по дороге с вами до Катта-Карамука…
– Ого! Джалиль, садись! – воскликнул обрадованно Саид, подвигаясь, и все подвинулись, освободив место для нового участника каравана.
Но Джалиль посмотрел презрительно на собравшихся и на остатки празднества и сплюнул.
– Мне по дороге с вами только до Катта-Карамука, – упрямо повторил он. – Я не ел консервов шайтана. Я Джалиль Гош
Он скинул халат, шапку и положил их в сторонке, в углу.
Дверь раскрылась, и с улицы вкатился мулла Шарап.
– Кто это стрелял, кто это шумел, и чем дело? – с тревогой и любопытством затараторил он.
В это время с улицы донеслось унылое завывание. Где-то мулла творил вечерний намаз.
Не отвечая Шарапу, Джалиль Гош расстелил в сторонке халат и опустился на колени. Он стал молиться, глядя прямо перед собой, подняв голову, забинтованную марлей. Губы его шептали что-то. Он ни на кого не глядел. Ружье при этом лежало у него на коленях.
При завывании муллы все притихли. Шарап смущенно ерзал и смотрел на нас. Потом он тихо начал шептать что-то. Вечер сгущался за окном. В это время издалека, в тишине опять донесся неясный гул, как тяжелый вздох гор.
– Все так. Пусть падают камни, – сказал мулла Шарап вздохнув.
Джалиль Гош встал и отряхнул колени.
– Пусть падают камни, – сказал он Шарапу, не глядя на него. – Я тебя убью, ты служишь двум богам. Ты болтаешься между солнцем и месяцем…
Он лег на полу, ни на кого не глядя, положил под голову ружье и завернулся халатом. Мы все стали готовиться ко сну, чтобы завтра выехать пораньше.
ЛАЙЛИ-ХАНУМ
Необыкновенная белизна долины, утро, длинная цепочка каравана, тишина, нарушаемая лишь однообразными криками:
– Вперед! Хош! Вперед! – эти выкрики сливались в один гортанный и торопливый гул.
Так наш караван отправился дальше, пополнившись новыми людьми. Было в нем теперь больше пятнадцати лошадей, несколько ишаков, и по-прежнему – одна собака – веселый наш Азам. Далеко катился он впереди, мелькая черной точкой среди снежного пространства.
Мы продолжали пересекать долину, дорога понемногу начинала подниматься в гору: караван приближался к перевалу Катта-Карамук, за которым был расположен кишлак Катта-Карамук. За кишлаком был «Голубой берег», вход в Каратегин.
В долине стояла тихая, безоблачная погода. Оглядываясь назад, мы видели бескрайнюю белую пелену, переходящую вдали в синеву и горы, как бы висящие над синим туманом, а над ними – поднимающийся огненный шар. Необъятная долина сверкала миллиардами искр. В этой синеве где-то затерялись базары Дераут-Кургана, Барон, Палка Моисея и совсем далеко – на противоположном склоне гор – «смешной кишлак» Кашка-Су… Все это было теперь позади.
Утро было прекрасно, и невольно хотелось радоваться и петь.
«Лайли-Ханум-м-м-м», – тянул Карабек. покачиваясь передо мной на спине Кутаса.
«Лайли-Ханум, – подпевал ему Саид за моей спиной, – Аукат Майли-ю-у-у-у…»
«Ой-й, Ханум-м-м-м…», – вдруг раздавался где-то сбоку, всегда невпопад, козлиный, дребезжащий голос: это просыпался Шамши.
– Ах, я сказал молчи, Деревянное ухо! – кричал Карабек, не терпящий когда кто-либо нарушал его пение. В подобных случаях он свирепел.
– Почему молчи? Почему молчи? – кричал старик, сдерживая свою лошадь и увертываясь от плетки Карабека. Старик горячился и брызгал слюной, они оба размахивали руками, потом старик отставал и они некоторое время ехали молча.
– Концерт продолжается, – наконец, говорил Карабек. – «Лайли-Ханум-м-м-м…»
Но при звуке песни старик опять начинал лезть вперед. За все это время вся наша компания привыкла уже друг к другу и даже Шамши ни за что не хотел отставать от нас, но ему доставляла много хлопот его лошадь: это было древнее, облезлое и лукавое животное, такое же сонное, как сам старик. Она ни за что не хотела идти быстрее. И вечно залезала куда-то в сторону от всего каравана.
За нами цепочкой растянулись остальные: Асан, Джолдывай, Турдубек, Мустафа и другие караванщики. Все время они оглядывались назад, смотрели на небо.
– Вперед, вперед! – поминутно кричали они по-киргизски, подгоняя этим криком коней, и своих и едущих впереди. Эхо стояло все время в ушах назойливым и тревожным гулом…
Только один человек ехал одиноко и молчаливо – Джалиль Гош. Он был далеко впереди всех. Он ни разу не оглянулся на нас, как будто он ехал один и до нас ему не было никакого дела. Но и он непрестанно подгонял своего коня. Этого было достаточно, чтобы остальные киргизы начинали еще больше торопиться.
– Вперед, вперед! – кричали они и хлопали плетками. Можно было подумать, что караван ожидает сзади погони.
Это тревожное настроение понемногу усиливалось и передавалось всем. Я знал причины этого беспокойства. Но мне уже начинало представляться, будто все темные и злые силы долины собирались догнать нас при выходе из нее вместе со снегами, буранами, муллами, контрабандистами и даже японцем Оси-Яма. Я засмеялся при этой мысли и оглянулся. Тут я увидел нашего Саида и невольно умолк, так поразило меня его печальное лицо. Он больше не пел, мрачно понурился и поминутно оглядывался назад, на синеющую полоску тумана. И тут я понял, что не все оставляют эту долину с таким легким сердцем, как я, пришелец из чужих городов. Родина, привязанности, любовь – все оставалось позади. Девушка Сабира, там, в далеком кишлаке Кашка-Су, – когда ее снова увидит пастух? Мне стало жалко нашего Саида, и я тачал придумывать слова утешения и надежды.
Только Карабек был невозмутим.
«Лайли-Ханум-м-м…» – тянул он гортанно, обрывая, как бы глотая, концы фраз.
Голуби, со свистом рассекая воздух крыльями, вырвались из ущелья в скалах и понеслись над нами. Вдруг Карабек задержал лошадь и сбросил ружье.
– Нема, что такое? – спросил я.
– Кеклик, – ответил Карабек и, соскочив с лошади, пополз, прячась за камнями.
Перед ним, по дорожке вверх, на гору, убегала большая стая горных куропаток.
Сейчас они жили по низинам гор, спускаясь к долинам. Весной, когда сойдут снега, они будут держаться высоко в горах.
Грянул выстрел – куропатки взвились, за ними с лаем погнался Азам. На месте осталось четыре птицы. Одна бежала по дорожке вперед, припадая на перебитое крыло.
Собрав кекликов и перерезав им глотки, чтобы спустить кровь, Карабек вскочил на лошадь, догнал убегающего кеклика и ударом нагайки по голове убил его.
Этой охотой заинтересовался Джалиль Гош. Душа охотника не выдержала. Он держал лошадь и молча, склонив голову на бок, наблюдал действия Карабека. Потом поехал рядом с нами.
– Вперед, вперед, хош! – закричали опять киргизы, наезжая сзади.
Привязав всех кекликов к седлу, Карабек еще веселее затянул:
«Лайли-Ханум… м…м… Лайли-Ханум-м… м…» – Чего не поешь, начальник?
– Не знаю песни, не умею.
– Учи песню. Когда много ездишь и песню поешь, душа радуется. Когда скучно человеку, надо много ездить, тогда много видишь и веселый будешь. Я тебе расскажу, – продолжал Карабек, – это такая песня. Жил один бедный пастух, работал он у богатого бая; много овец, кутасов, коз и кобыл было у бая: никто ик не мог сосчитать. Много жен и много верблюдов.
…Но лучше всех была прекрасная Лайли-Ханум. Больше всех любил ее отец и исполнял все ее капризы. Много женихов приезжали к Лайли-Ханум, но никто не нравился красавице. Увидел ее раз пастух и полюбил, очень сильно полюбил. Был он красивый и сильный, но лучше всего у него был голос. Он пел так, что выдры вылезали из реки по ночам его слушать. И много он видел выдр в лунные ночи, а кто видел выдр – очень богатый человек будет.
И боялся бай этого пастуха и не пускал его к себе во двор. Не хотел, чтобы Лайли-Ханум его слышала.
Пастбище того бая было у высокой и крутой горы.
Так любил пастух, так любил Лайли-Ханум, что спать не мог. Целую ночь лазил он на гору и рано утром, когда разжигают костры в юртах и девушки идут за водой, вот в такой час он запел. Он так пел, что внизу было слышно, очень сильно слышно.
Так рано, рано утром лазил он на гору и пел:
«Лайли-Ханум-м…м…м… Лайли-Ханум-
М…М…»
– А ну, тяни, начальник, пой за мной: «Лайли-Ханум…м…м…»– и конец тяни, сколько хватит духу.
Я набрал побольше воздуху в грудь и запел: «Лайли-Ханум…м…м…», – и это «м» я тянул до тех пор, пока хватало воздуха и, затем, набрал снова, допел вторую строку: «Лайли-Ханум…м…», – оборвав на «м», как будто подавился.
– Хорошо, – сказал Карабек, – ну только он в тысячу раз больше тебя пел. Очень длинно пел. Понимаешь?
– …Вперед, вперед, хош!..
– …И услыхала его Лайли-Ханум и очень слушала. Каждое утро слушала. А потом позвала старуху и спрашивает, кто он такой? Старуха говорит:
– Это бедный пастух, он у твоего отца работает.
– А, а, – говорит Лайли-Ханум, – ну ладно. Пойди к нему и скажи, пусть приходит завтра ко мне. Отец и мать уезжают, я одна дома буду…
Пастух рано утром пришел; она его вымыла, одела: очень хороший халат дала.
Саблю дала. Слышит – отец идет. Она его спрягала в сундук.
Сама села на сундук и сидит. Приходит отец, много гостей приходит, все садятся, едят, пьют. И ее подавать заставили. Заперла она сундук замком, чтобы кто-нибудь не открыл его, чтобы пастуха не увидали.
Ну, только сидел, сидел в сундуке пастух – скучно ему стало. Нет Лайли-Хзнум. Совсем скучно стало. Петь стал. Гости сидят и слушают. Старик от удовольствия все забыл, чмокать губами начал: так хорошо кто-то поет. Курдюк в олове застыл, чай холодный стал, никто ее ест, не пьет, все слушают…
Вдруг Карабек оборвал рассказ и прислушался. Впереди послышался говор, стук копыт, и вдали показались два верховых; одну лошадь они вели на поводу.
Когда подъехали ближе, к нашему удивлению, всадниками оказались мулла Шарап и Барон. Барон вел в поводу серую кобылу.
– А-а-а! – закричал Шарап.
– Саламат, – махнул я рукой. – Что всех вьючных лошадей собрали в Карамуке?
– Все, все! – закричал Шарап. – Там все лошади собрались, тебя ждут в Каратегин ехать. Только ждать надо. На перевале дороги нет.
– А утром?
– Теперь там утром тоже дороги нет.
– Кобылу где взяли? – спросил Карабек.
Тот замялся.
– Это Барона кобыла, – ответил он.
– А ты, Барон, где взял?
– Мы купили.
– А он говорит, что твоя.
– Наша, наша! – закричал Барон и свернул в глубокий снег, давая дорогу.
Мы проехали.
– Ну, а потом? – спросил я Карабека.
– Потом продаст кобылу, жеребенка себе оставит…
– Нет, что потом сделал отец Лайли-Ханум?
– А-а, он открыл сундук, увидал пастуха. Сначала рассердился, а потом через час согласился, чтобы они женились.
Тут Джалиль Гош кивнул на Саида и сказал:
– У Саида тоже так. Он Сабиру любит. Барон Сабиру не даст Саиду. Саид тоже пел Лайли-Ханум Сабире. Я знаю. Барон Сабиру продал. Я сегодня слышал. Теперь Сабира в Каратегин едет с Туюгуном. Он в кишлаке Дувана живет. Мимо ехать будем. В гости заедем.
Мы даже остановились от неожиданности. Несомненно, Джалиль не выдумывал. Но, как это могло случиться: Сабира, значит, была в Дераут-Кургане, когда и мы там были?!
– Скажи, Джалиль, Туюгун уже увез Сабиру?
– Ты же видишь, Барон с лошадьми проехал. Он посекретно ехал, на дороге, чтобы в Дераут-Кургане вы не знали. Он лошадей взял, пять тысяч взял. Теперь они далеко. Может быть, по другой дороге поехали…
Я взглянул на пастуха. В его глазах стояли слезы. И он молча отвернулся, сжав поводья в кулаки. Мы тоже обернулись вслед удалявшемуся Барону и Шарапу. Хотелось догнать их, остановить, что-то предпринять для спасения Сабиры, как будто она была спрятана у них в мешке. Я вспомнил эту славную девушку, ее песни в кибитке Шамши, ночную суматоху, смех. Теперь какой-то Туюгун грубо тащил ее куда-то, как вещь…
– Пора ехать дальше, – оборвал эта мысли Джалиль Гош. Он показал плеткой на небо. – Солнце тебя не ждет. Плохо будет.
И он опять уехал вперед.
Остальной караван тоже напирал сзади, сгрудился. Отдельные кони сошли с тропинки, вылезли вперед, подхлестываемые плетками.
– Вперед! – кричали киргизы.
Я тоже понимал, что нужно было спешить: это было бегство от солнца. Все зависело от очень короткого промежутка времени: либо нам удастся проскочить по ту сторону тор либо все пропало: и ячмень, и возвращение вовремя назад с пшеницей, и посевная…
– Джалиль! – закричал Саид. – Может быть, мы их еще впереди с Сабирой догоним?
– Они утром ехали, дорога еще была.
– Сделаем дорогу, Джалиль, а?
– Посмотрим, – ответил уклончиво Джалиль Гош.
Сзади напирал караван.
– Вперед! Вперед! – кричали киргизы и хлестали плетками лошадей, они оглядывались назад: солнце, однако, шло быстрее лошадей: оно неумолимо поднималось уже над нами. Это сулило большие неприятности впереди.
БОЛЬШАЯ ИНСОЛЯЦИЯСолнце вылезло из-за гор и разогрело снег: лошади начали проваливаться на снежной дорожке.
– Плохая дорога, очень плохая, ночью надо ехать.
Лошади проваливались по живот в снег, с трудом выбиваясь на дорожку.
– Поедем по речке, – сказал Джалиль Гош и свернул лошадь влево в снег, к речке, находившейся в двадцати метрах от нас.
Эти двадцать метров мы ехали полчаса. Мы спешились и лошадям пробивали дорогу в снегу.
Река ревела и пенилась. В некоторых местах она представляла собой сплошной водопад. Временами мы переезжали с берега на берег, что было очень опасно и каждый раз требовало очень больших усилий.
Лошади были очень сильно перегружена продуктами и устали.
В кишлаке Джикинды мы должны были их покормить. Вскоре мы подъехали к этому кишлаку.
Здесь было много растительности и гораздо теплее.
В кишлаке, у кибитки, где помещалась канцелярия ТОЗ, ржали лошади. Сидели кучками киргизы на корточках и оживленно разговаривали.
– А-а-а! – закричали они, встречая нас, помогая спешиться, поддерживая нас под локти.
Саид принял лошадей.
Приветствия «A-а-а!» имеет несколько оттенков.
Их можно передать так:
– А-а… – это кислая мина; или А-а… – здравствуй, здравствуй, очень рад тебе! – А-а… равнодушно: приехал, значит; или– А-а… сколько лет, сколько зим! Я не верю своим глазам, неужели это ты? – если кто против тебя, то я твой друг, или – А-а, в восторге, – не может быть, наконец-то! Хвала аллаху, я так рад, так рад! – я твой раб, повелевай! – А-а! – в безумном счастье, – я захлебываюсь от восторга при визе тебя!..
Какое было на этот раз «А-а»? Мне показалось, что оно было немного насмешливое.
– Большой караван, хорош караван…
– Кандый сиз тынч кельдыз? – спросили нас. – Как доехали?
– Тынч, тынч-якши, – ответили мы, – хорошо доехали.
– Келинь, – сказал председатель ТОЗ, – заходите.
Мы вошли в кибитку: женщины бросились в сторону, и мы сели, поджав ноги, не глядя на женщин и не здороваясь с ними.
Тон был выдержан. Один только Джалиль Гош остался на улице, присев на крылечке и играя плеткой.
Аксакалы вошли следом. Нам подали вареное мясо и затем чай.
– Аксакалы, – сказал я, – нам надо дорогу.
– Аллах не дает дороги. Весна идет. Несколько киргизов уже живут здесь десять дней, ждут дорогу, – ответили те, поглаживая бороды, – пороги нет.
Тут я понял, наконец: «Вот и новые госта, – думали, небось, киргизы, – больно уж разогнались куда-то, тоже засядут теперь тут…»
Караванщики, посланные искать дорогу, возвратились, чтобы сказать, что надо ждать дорогу. Это мы и без них слышали
Я спросил:
– Проезжали ли тут Туюгун с Сабирой?
– Ничего не видали, – ответили мне Тогда я позвал местного пастуха.
– Ты родом откуда? – спросил я
– Из Гарма, – ответил он.
– Ты пастух, ты знаешь эти дороги
– Знаю, – ответил пастух.
– По какой дороге нам ехать?
– Нет дороги, начальник.
– А скажи, ты Туюгуна знаешь?
– Знаю. Этот Туюгун из Каратегина и вот недавно проехал по какой-то дороге через перевал… С девушкой из Кашка-Су..
– Что? Что? С Сабирой? – вскочил Саид.
Он потупил голову.
– Мерзавец Барон! – сказал он. – Я не сколько лет даром работал на него. Он бандит и контрабандист. Я хлеб ломал, что буду молчать, он на коране клялся, что отдаст мне Сабиру и не отдал… Слушай, начальник…
Он замолк, но по его лицу я видел, что он готов был умолять меня, чтобы ехать дальше, сейчас же…
В комнату вошел Джалиль Гош. Аксакалы опять заговорили о трудности пути.
– Ну, начальник, ты остаешься здесь? – спросил Джалиль, ни на кого не глядя. – Лучше отдохнуть и подождать, конечно…
Я понял, что его задели разговоры о том, что мы останемся, и особенно насмешки при встрече.
– Нет, Джалиль, если я сегодня же не перевезу ячмень через перевал, то завтра уже придется сесть тут на всю весну, вместо того чтобы сеять… А ты, разве, остаешься? – спокойно спросил я.
Джалиль Гош вспыхнул.
– Я тебе говорил, Джалиль едет до Катта-Карамука! Я клятву ломал.
– Хорошо. Ты клятву ломал. Есть пять «носов» – дорог – на перевал. Ты знаешь контрабандистскую дорогу. Но там, где проедешь ты, проедет ли караван? С людьми и такой груз – ячмень?
– Я не аллах. Я не знаю, проедет ли Как хочешь, мне нет дела: твой ячмень..
– Поехали!! – сказал я.
– Дороги нет, – начал Шамши – «Деревянное ухо». – Шамши боится: у него лошади, самовар…
– Шамши останется здесь: у него самовар! – сказал я, вставая. – Поехали.
Мы сели на коней и тронулись. Шамши продолжал ворчать: «Пусть безумцы только и слепые едут по такому пути», – говорил он, однако тоже ковылял вслед за нами на своей коняге, продолжая причитать и хныкать…
Мы выехали из кишлака.
– Ай, большая инсоляция! – сказал Карабек, показывая вперед плеткой.
Это слово он слышал от меня: инсоляция означает освещение солнцем земной поверхности.
Прежде чем говорить о дальнейших событиях, необходимо объяснить, что означает этот термин для Алайской долины в апреле.
С каждым новым даем весны все сильнее подтаивает снежная масса, покрывающая долину и склоны гор. Ло снегу утоптана тропа. Сперва проваливается снежный наст вокруг тропы – это первая стадия.
Вторая стадия – начинает таять дорожка. По ней начинают ездить только в определенные часы: сперва лишь утром и вечером, потом – только на рассвете, потом– только ночью. И, наконец, третья стадия– проваливаются все дорожки, все огромное пространство долины покрывается рыхлой массой, жидкой снежной кашей: все кишлаки и селения отрезаны друг от друга. Никакого движения. Только потоки воды мчатся в реки.
Это работа солнца. Сила ее такова, что можно в одно и то же время на северном, теневом склоне гор найти суровую зиму, а на южном – жаркое лето.
Однако мы застряли между зимой и летом…
Вообразите себе незамерзшее море, а по морю ведет узенькая, ненадежно замерзшая дорожка, с плотным, утоптанным снегом под ней. Вы едете как бы по гребню стены. Если свалитесь с нее в сторону, попадете в воду, на глубину 2–3—4 метров. Причем дно может быть ровным, а может быть и покатым. Тогда придется скользить еще по крутой покатости дна на неизвестную глубину, особенно если дело происходит на склоне гор.
Представьте себе встречу на тропе. По тропинкам постоянно ездят, и поэтому снег на них утаптывается. Шириной тропа в 35 сантиметров, а по бокам трясина.
Если снег неглубок, разъехаться нетрудно, но если глубок, стоят друг против друга два всадника на такой дорожке и ругаются, кому сбивать коня в снег. И, не решив мирным путем, стегают лошадей, те бросаются друг на друга, стараясь сбить грудью противника.
Несчастный побежденный, пытаясь вывести из глубокого и вязкого весеннего снега своего коня на дорожку, долго бьется в снегу, пока не вытянет измученную вконец лошадь.
Когда же дорожка окончательно теряет упругость под влиянием теплых, весенних солнечных лучей, тогда считают, что дороги нет.
С трудом дошел караван наш до реки и пошел вверх. Река была небольшая, и ехать против течения очень большого затруднения не представляло.
Далеко растянулся наш караван. Ишаки, которые находились в нем, тормозили наше продвижение.
Пройдя километра три вверх по течению, мы свернули влево, на снежную тропинку. Тропинка шла у скалы. Тень скалы прикрывала ее, и снег на тропинке не успел растаять. Утром морозы, хоть ненадежно, но сковывали дорогу и по ней можно было идти. Двигались мы с трудом: сегодня утром было тепло и тропинка не очень затвердела. Лошади попадали ногами в дыры и выбоины, но благополучно выскакивали из них.
Я оглянулся на кишлак. Далеко внизу все население кишлака вылезло на крыши и следило, удастся ли нам пробиться или нет.
Караван сильно растянулся. Задерживали ишаки: вместо того чтобы вскочить, как лошадь, или стараться выкарабкаться, попав в выбоину одной или двумя ногами.
ишак спокойно лежал и ждал, пока подойдут караванщики, один возьмет его за голову, другой за хвост и поставят его на ноги.
Впереди вел свою лошадь Джалиль, за ним Карабек, Саид, за Саидом – я, затем, шли караванные лошади, одна за другой, не связанные между собой, за ними ишаки и сзади еще какие-то лошади и люди. Оказалось, что это путники, которые ожидали дороги, но, видя, что мы так смело поехали, увязались за нами.
– Эге, да ведь дорога совсем не такая уже безнадежная! – решил я, ведя Алая в тени скалы, по тропинке.
Мы свернули влево, обошли еще один «нос» и въехали на него.
Мы были уже очень высоко. Вдали черными полосками на белом, снежном фоне виднелась Сурх-Об, местами превращаясь как бы в широкую черную ленту.
Эта лента местами белела: то воды Сурх-Об разбивались о пороги, преграждающие путь в узкий глубокий каньон, через который Сурх-Об врывалась в Таджикскую республику.
Лошади были покрыты испариной и тяжело дышали.
– Да ведь мы скоро будем на перевале, – сказал я Саиду, показывая на высившуюся седловину перевала.
Саид ничего не ответил. Он смотрел на север: оттуда по горам к перевалу также двигалось несколько точек.
В бинокль можно было различить лошадей и людей.
«Не Сабира ли там?» – подумал я.
– Вперед! Вперед! – кричал, задыхаясь, Джалиль Гош, пробираясь ко мне. – Солнце идет, очень плохо будет!
Не успели мы сделать несколько шагов, как лошадь Саида провалилась сразу всеми четырьмя ногами. Саид потянул ее за повод. Она забилась, рванулась и сорвалась с тропинки в снег.
– Держи, держи! – закричал Карабек и бросился к Саиду. Был пологий склон, и понятно, что лошадь, предоставленная самой себе, обязательно свалится, скользя под снегом вниз.
Лошадь оскалила желтые зубы, глазами она косила в сторону. Мы начали бить ее камчами, она вздрагивала и не двигалась, наконец, рванулась, прыгнула вверх и, пробив грудью стену тропинки, застряла в снеговой трясине по ту сторону дорожки.
Весь караван стоял, ожидая.
– Вперед! Вперед – закричал Карабек, и Саид помчался по дорожке, натягивая изо всех сил повод. Лошадь бросилась за ним, выскочила на тропинку и сейчас же всеми четырьмя ногами провалилась в колдобины на тропинке. Таким образом она лежала на тропинке животом и грудью. Ноги были в ямах.
Мы позвали ближайших караванщиков; прижимаясь к лошадям, чтобы не упасть с тропы в мягкий снег, они подошли к нам.
Некоторые, сорвавшись с тропинки, барахтались в снеговой трясине, безрезультатно стараясь выкарабкаться и вопя о помощи.
За хвост и голову лошадь подняли и поставили на ноги. Она была вся мокрая и тяжело носила боками.
Не успел Саид провести ее и пяти метров, как голова ее опять торчала из снега, а все туловище было погребено где-то сбоку, в снеговой трясине.
И это было только начало тех мучений, которые сопровождали путь к перевалу.
Алай мой водил ушами, и, когда я его подвел к тому месту, где лошадь Саида сломала тропинку, он уперся и не захотел идти. Бедняга Азам жался к ногам коня. Когда Алая сзади огрели камчой, он толкнул меня грудью и прыгнул. Я очутился в том месте, где за десять минут перед тем была лошадь Саида, а Алай, попав передними ногами в выбоины на тропинке, задом сполз в сторону ската и напрасно бил ногами, стараясь оттолкнуться. Я застрял в снегу по уши, очутившись в каком-то боковом положении. Рядом со мной барахталась собака. Это было и смешно и трагично. Упрешься рукой в снег и по плечо проваливаешься, упрешься ногой в снег – снег под ногой проваливается, и залезаешь еще глубже. Повернешься – снег под тобой скрипнет, сядет, и вновь опускаешься. Снег был, по крайней мере, в два раза глубже моего роста.
Мне бросили аркан. Я обвязался и, делая плавательные движения, подтянулся к тропинке и влез на нее.
Я стал совершенно мокр.
Первым делом было сбросить тулуп и полушубок. Азам подпрыгнул и встал на тропинке, дрожа. Он жадно хватал зубами снег и проглатывал его.
Двинулись дальше, но через десять минут все лошади лежали: часть в снеговой трясине, часть на тропинке. Об ишаках и говорить ее приходится: по дырам в снегу у тропинки можно было судить, что часть их лежит где-то там.
Еще через полчаса караванщики потребовали, чтобы мы свернули назад. Уже все были раздеты до нижней рубашки, и нар облаком клубился над каждым. «Не возвратиться ли?» – подумал я.
Первые попробовали повернуть назад попутчики, увязавшиеся за нами.
Сначала двинулся старый таджик на своей серой тяжелой лошади. Под брань и крик наших караванщиков он осторожно повернул лошадь, и она сразу загрузла в снегу. Начали бить ее, бедное животное вытягивало шею, закатывало глаза и, сделав несколько шагов, совершенно разрушило тропинку и, наконец, вытоптало глубокий колодец и само упало туда. Я наклонился над развороченной снежной ямой.
Лошадь искалечилась и подыхала. Старик, сев на корточки, жалобно причитал, раскачиваясь.
– Прирежь, прирежь, мясо будет! – кричали караванщики, но старик не слыхал.
Карабек подошел к яме и, заложив патрон с пулей, прицелился.
Все кругам затихло.
Выстрел грянул и раскатился эхом по всем горам и скалам. Лошадь затрепыхалась. Путь был только вперед.







