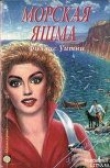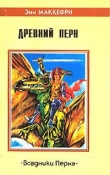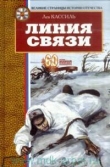Текст книги "Горький мед"
Автор книги: Георгий Шолохов-Синявский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Боль отпустила отца, он повеселел и ободряюще погладил меня по голове.
– Езжайте, Ёра, домой, а меня сейчас отправят в больницу. Да на пчелушек посматривайте, прислушивайтесь, как они там, гудят или нет? Может, корму надо будет им дать. Там, в запечке, я медку для них припрятал.
Я киваю головой, обещая все исполнить в точности.
Отец торопливо простился со мной.
Почему он отдавал такие распоряжения? Неужели не надеялся скоро вернуться домой?
Но он вернулся не через месяц, как грозили ему в железнодорожной амбулатории врачи, а спустя две недели.
Темным ненастным вечером мы с матерью и сестренками грелись у печки, слушая, как гудит разгулявшийся низовый ветер и стучит по толевой крыше хибарки дождь. Вдруг дверь отворилась – и вошел отец. Он словно с неба свалился. Девочки опрометью кинулись к нему, а я застыл в ожидании, глядя на все еще забинтованную и лежавшую на марлевой подвязке руку, пока не догадался помочь ему снять замасленный ватник.
Необычно и грустно было это возвращение. Отец незнакомо горбился. Он весь был какой-то измятый, может быть, потому, что одежда его, пока он лежал в палате, валялась где-то в дезинфекторе. Он провел правой рукой по волосам присмиревших девочек, сунул им и мне по яблоку, сказал:
– Дядя Иван передал гостинец. Он проведывал меня в больнице.
Мы с тревогой смотрели на отца, а он тихонько и почему-то виновато рассказывал, как зашивали иголкой рваную рану, как медленно она заживала. Самое печальное заключалось в том, что, по мнению хирурга, пальцы теперь сгибаться не будут, дееспособность руки утрачена более чем наполовину и вряд ли можно будет работать на ремонте.
– Еще с месяц придется ездить в город на перевязку, – вздыхая, говорил отец. – А после, когда рука заживет, позовут на комиссию и определят пенсию…
Во все последующие дни отец ходил по двору как потерянный, не зная, за что приняться, пробовал что-то делать одной рукой – не получалось. Сердился, вздыхал, а иногда, нечаянно ушибив искалеченную левую, глухо стонал.
Украдкой издали я следил за ним и однажды увидел, как он после неудачной попытки копать одной рукой землю в палисаднике зло отшвырнул лопату, опустился тут же на камень, стал что-то смахивать с усов рукавом. Я подошел к нему ближе и увидел: впалые щеки его были мокры.
– Вот даже вспотел, – словно оправдываясь и тяжело дыша, смущенно сказал отец. – Всю жизнь… с двумя руками… И вот на тебе – надо же было случиться такому горю.
Он взглянул на меня так, будто просил совета, и, чтобы подбодрить себя и не подать виду, что ему тяжело, улыбнулся, свел горестные слова к шутке:
– Ну что ж. Если не поправится рука, приладим деревянную с крючком и поедем с тобой рыбу ловить. Видел я когда-то такую. А пока, сынок, помоги свернуть самокрутку.
Он подал мне жестяную коробку с махоркой, и я принялся неумело скручивать цигарку. Однако я теперь не верил, как в детстве, что отец, если раненая рука окажется непригодной к работе, сумеет сделать новую – деревянную, рабочую, хоть он когда-то и сооружал для меня самые затейливые игрушки – то молотилку, точную модель настоящей, то ветряную мельницу с крупорушкой, которая вертела на ветру крыльями и постукивала всамделишной снастью…
Не знаю, кто внушил отцу мысль предъявить к железной дороге судебный иск о взыскании крупной денежной суммы за увечье. Помню только, что отец с самого начала относился к этой затее с усмешкой. Но мать ухватилась за нее со всей серьезностью и все время подзуживала отца искать адвоката, который согласился бы возбудить иск. Ей кто-то рассказал невероятную историю о пострадавшем при крушении поезда рыбаке, который с помощью ловкого адвоката якобы высудил у железной дороги крупную сумму денег и построил на них рыбный завод…
Слушая ее, отец только усмехался в усы…
Тем временем отца вызывали на медицинскую комиссию, долго вертели его, мяли, выслушивали, заставляли выжимать силомер и даже несколько раз подпрыгнуть, в конце концов признали потерю трудоспособности только на пятьдесят процентов. Комиссия нашла, что отцу достаточно и одной здоровой руки – с таким изъяном можно пойти и в сторожа, и в рассыльные, и в подметайлы…
Отец уверял мать, что, узнав о заключении комиссии, о к тотчас же направился в юридическую часть к адвокату. Адвокат будто бы, ознакомившись с заключением комиссии, задумался, повертел бумажку туда-сюда и глубокомысленно изрек:
– Дело это трудное, любезный. Потеря трудоспособности небольшая, но можно попытаться… Для начала есть у тебя сто целковых наличными?
В этом месте рассказа отец, по обыкновению, начинал лукаво щуриться.
– Откуда же у меня такие капиталы, господин хороший? – будто бы спросил он. – Я и в два года столько не заработаю. А в долг разве нельзя высудить?
Юрист покачал головой.
– Нет, милейший. Расходы нужны. А так дело не пойдет. Тут риск, а риск всегда требует подмазки. Всякую машину, перед тем как пускать в ход, смазывают, понял? – без обиняков сказал адвокат.
На том хлопоты отца и закончились. А пенсию ему все-таки назначили, хотя и не такую, как он рассчитывал.
Ровно через месяц после врачебной комиссии из управления дороги пришла бумажка и жиденькая пенсионная книжка. В сопроводительной за подписью начальника пенсионного отдела сообщалось, что рабочему службы пути такому-то назначена пенсия в сумме трех рублей одиннадцати копеек в месяц, которую и следует получать ежемесячно в станционной кассе.
– И то – на хлеб, – разочарованно вздохнув, тут же смирилась мать.
Отец задумчиво и долго перелистывал талоны пенсионной книжки.
– Но почему еще одиннадцать копеек? Не десять, а именно одиннадцать. За что прибавили копейку? Не возьму в толк, – недоумевал он.
Мать сердито вразумила:
– А чего тут понимать! Силомер показал на лишнюю копейку – вот так и вышло. Для нас и копейка – капитал.
Аккуратно каждое двадцатое число отец ходил на станцию и исправно получал положенные ему три рубля одиннадцать копеек, оставив себе мелочь на махорку, молча вручал их матери.
В поисках дороги
В одно морозное, но все еще бесснежное декабрьское утро отец оделся во что мог – потеплее, засунул за подпояску топор, собрал в мешок разобранную на части продольную пилу, рубанки, стамески и прочий плотничий инвентарь, взял в руки палку и ушел к армянам в село Чалтырь делать ульи.
Уходя, он сказал мне:
– Вы, Ёр, сходите на станцию к мастеру, узнайте насчет работы. Хлопотал ли он перед мастером соседнего околотка.
На следующее утро я встал пораньше и, коротко сказав матери, куда иду, побрел на станцию. На меня вдруг напала робость. И вообще я не отличался смелостью там, где нужно было о чем-то просить.
Мастера я застал у входа в казарму, когда он распределял артель по разным рабочим местам на линии. В те годы путевые ремонтные бригады назывались еще артелями, а бригадиры – артельными старостами… И сам мастер был из старых артельщиков, без всякого технического образования. За долгую работу в службе пути он узнал все, что до него знали дорожные мастера, не из учебников, а из опыта. Звали его Архип Григорьевич Данченко. Был он малограмотен, писал чуть ли не каракулями, но ремонт пути и простейшие расчеты знал назубок.
Да и вообще состояние железнодорожного пути, несложные трудовые приемы и первобытная техника – лопата, кирка, лом и костыльный молоток – не требовали от дорожного линейного мастера особенно высоких знаний.
Архип Григорьевич был к тому же аккуратный службист. Недавно за безупречную сорокалетнюю службу ему вручили золотую медаль, и это придало ему еще больше важности.
Это был низенький, сухопарый старичишка с зелеными глазами и ехидно торчавшей вперед рыжеватой седеющей бородкой.
В левой руке он держал какое-то стальное приспособление, похожее на линейку с ручкой или на кочергу, загнутую с обоих концов. Как я узнал потом, это был шаблон – простейший инструмент для измерения ширины рельсовой колеи.
Я даже не подошел, а робко подкрался к мастеру, и это показалось ему особенно непочтительным.
– Тебе чего? – грубовато спросил он, ощупывая меня зелеными глазами лешего.
Я пробормотал в ответ что-то невнятное, сбился, покраснел до самых ушей, опустил голову, стыдясь поднять глаза и прямо взглянуть в узкое и острое, очень недоброе и насмешливое лицо мастера.
Все дни я только и думал о том, как буду просить его устроить меня на работу. Я знал: у нас уже с неделю не было денег, мать выпрашивала у соседей в долг то краюху хлеба, то гривенник, за это я отрабатывал писанием писем на фронт. Теперь я был готов согласиться на любой заработок.
Мастер наморщил высокий, продолговатый, тыквой вытянутый кверху лоб, отчего длинное лицо его с желтоватой козлиной бородкой стало казаться еще хитрее.
– Да, да… Так это ты Филиппа Бортникова сын? Еще бы не знать. Хороший был костыльщик твой батька. Он у меня работал еще двадцать лет назад… В девяносто пятом году, вскорости после большой холеры, до того, как пошел в садовники. Да, да… Как же? Первый был костыльщик, а вот попал в беду. Староват, староват стал шпалы ворочать. Предупреждал я его. Вот и повредил руку. Так чего же ты, хлопец, хочешь?
– Вы обещали… на работу… – промямлил я.
– Ничего я не обещал. Мальчишек у меня хватает и без тебя. Кирку, лом не подымет, а туда же лезет – плати ему деньги.
– Вы у мастера какого-то хотели похлопотать. Я и киркой сумею… И дрезину гонять…
От боязни, что переговоры с мастером окончатся неудачей, у меня развязался язык. Я, как утопающий, цеплялся за соломинку. Но мастер скучливо смотрел куда-то в сторону, на станционные пути, небрежно отвечал:
– Нет, нет, и не проси. Малой еще! Сколько тебе лет?.
– Четырнадцать! – Я не умел лгать и не догадался прибавить себе хотя бы один год.
– Ну вот, а принимаем с пятнадцати. Погоди годок. Погуляй.
– Я дрезину… – опять начал было я.
Но мастер перебил с досадой:
– В город ступай, там на заводы и десятилетних принимают, а у нас железная дорога… Не полагается…
Старый служака повернулся и зашагал прочь, но вдруг остановился, о чем-то подумал, добавил:
– Погоди… Вспомнил я… Отец твой просил куда почище тебя устроить. Ведь ты двухклассное училище кончил, кажется. Ну, так вот в табельщики, а либо в телеграфисты надо, чтобы тебе исполнилось пятнадцать с половиной. А костыли забивать научиться и в двадцать лет не поздно. Гуляй, паря!
Мастер, видимо, желал мне лучшей участи, а я воспринял слова его как насмешку. Что я скажу матери, с каким ответом приплетусь домой?
Упреки и сетования ее надоели мне до отчаяния. Характер ее портился с каждым днем все больше. Ворча на отца, она нападала теперь и на меня: в глазах ее я был хотя и не взрослым мужчиной, но за нужду в семье нес, по ее мнению, такую же, как и отец, ответственность.
Я поднимался по крутой тропинке по каменистому взгорью, раздумывая, что же делать – идти ли домой и выслушивать жалобы и упреки матери теперь же или сперва зайти к кому-нибудь из своих друзей – бывших одноклассников, чтобы поделиться огорчением от неудачи.
Дойдя до половины горы с разбросанными по ней рыбацкими хатенками, я огляделся и впервые подумал, что стою на затерянном среди огромного мира маленьком островке. Казачий хутор, несмотря на его большую протяженность, занимал в этом мире ничтожное, микроскопическое место. За его пределами, за туманными далями, лежала неизвестная земная ширь – моря, реки, горы, леса, многолюдные города и села, неведомые страны…
Я мог пока вообразить их себе только по учебнику географии, по книгам о путешествиях и приключениях. При одной мысли о них я, со своими домашними неурядицами, нуждой и бедностью, казался самому себе беспомощной букашкой, которую может раздавить всякая нога…
День был хмурый, морозный. В воздухе кружились первые снежинки. Облепивший каменистые склоны хутор затянуло скучной мглой. Внизу, прямо от железной дороги, на юг тянулось займище с желтыми кулигами вызревших непроходимых камышей, свинцово отсвечивали начавшие подмерзать на мелях у берегов ерики и протоки. У причалов черными краюхами прижимались байды и опрокинутые вверх днищами каюки…
Моря за снежной пеленой не было видно, мир казался окутанным со всех сторон плотным пологом. Тяжелая, до звона в ушах, тишина, лежала вокруг. И мне подумалось, что я вот-вот задохнусь под этим пологом, под непробудной тишиной, никогда не вырвусь из свинцовой мглы, так и пропаду здесь, ничего не узнав и не повидав. Это ощущение было столь сильно, что я готов был закричать, как кричат во сне, когда кто-то невидимый и страшный наваливается на грудь и душит за горло.
Внизу по путям загремел товарный поезд. Я подумал: не сбежать ли с горы вниз, не вскочить ли на первую же тормозную площадку и не укатить ли в самом деле в город?.. Там, как сказал Архип Григорьевич, принимают на работу и десятилетних.
Но боязнь оторваться от дома и даже от полуголодной жизни сковывала меня. Я перебрал в памяти всех недавних соучеников, при виде опрокинутых каюков вспомнил Степку Катрича, мой первый выезд в донские гирла, гибель Степкиного отца. Не пойти ли к Степке – он такой мужественный, упрямо-суровый, настоящий морской волк наподобие стивенсоновских героев.
Нет, не получится из меня рыбака! Степь приучила меня всегда чувствовать под собой твердую землю. О чем не переставал я упорно мечтать – это о возможности учиться. Вот на что я согласился бы! Перед этой мечтой все отступало: и работа, и романтика приключений. Такие слова, как «гимназия», «реальное училище», «учительская семинария», «университет», отдавались во мне музыкой, манили в неясное солнечное будущее… Гимназисты и студенты казались мне необыкновенными существами.
Я уже знал двух студентов в хуторе – веселого, влюбленного в Дасечку Панютину поповича и сына хуторского купца Муромского Павла – коренастого технолога в черной тужурке с бархатными наплечниками и фуражке с темно-зеленым околышем. Он проводил дома только летние каникулы, сторонился хуторских парней и девушек, появлялся на улице лишь в обществе сынков и дочек попов и лавочников… Ходил он в расстегнутой темно-синей косоворотке под небрежно накинутой на плечи тужуркой, из-под сдвинутой на затылок фуражки беспорядочно торчали пепельно-русые, давно не стриженные кудри.
Иногда я заставал его в библиотеке; он подолгу рылся в книгах, набирал их целую охапку, и новый библиотекарь – Вукол Александрович, не разрешавший никому брать на дом более двух книг, позволял студенту уносить их десятками да еще провожал почтительным поклоном.
Я испытывал к студенту благоговейную зависть. Студент казался мне воплощением недосягаемого ума, начитанности и мудрости. Однажды я столкнулся с ним в дверях библиотеки; он взглянул на меня, как на подвернувшуюся под ноги кошку, и бесцеремонно отстранил локтем.
Мне хотелось заговорить с ним, услышать от него хотя бы одно слово. Мне казалось, слово это раскроет какой-то секрет познания всего сущего на земле, станет путеводной звездой на всю жизнь. И вот я осмелился, проследил, когда он останется у библиотечной полки один на один со мной, и, подойдя к нему вплотную и делая вид, что ищу какую-то очень нужную книгу, задыхаясь от волнения, тихо попросил:
– Дядя, скажите, пожалуйста, Вуколу Александровичу… Пускай он позволит мне взять почитать сочинения Брема.
Студент взглянул на меня удивленно, в упор, поморгал светло-голубыми глазами и вдруг, тихо подмигнув, произнес странную фразу:
– Пойди к моему отцу в лавку, купи фунт фасоли, фунт кишмишу и полфунта горчицы, свари все это и съешь – тогда получишь Брема. Понимэ?
Он еще раз глумливо подмигнул, не очень сильно стукнул – меня книгой по носу и, поправив на плечах тужурку, подхватив под мышку стопку старых журналов, чихнул от пыли и исчез за порогом: библиотеки… «Вот тебе и секрет познания!» – с обидой подумал я.
…Поднявшись на гору и уже выходя на широкую хуторскую улицу, я вдруг услыхал за собой быстрые шаги и шумное дыхание – кто-то, запыхавшись, догонял меня.
Я обернулся и увидел перед собой знакомые горяче-карие глаза.
– Фу, Ёрка! Я чуть не запалился, догоняя тебя. Здорово, дружище!
Передо мной стоял Трофим Господинкин, бывший работник Рыбиных.
Я обрадованно кинулся к нему, и мы обнялись. Труша очень изменился – это был как будто и тот и не тот парень. Робость его исчезла, фигура распрямилась, в узком, когда-то очень бледном, измученном лице появилась мужественная уверенность, совсем исчезло заискивающее выражение, а на верхней губе трогательно и вместе с тем совсем как у взрослого мужчины пробивалась темная щетинка уже не раз бритых усов.
И одет Труша был неузнаваемо – в новый суконный ватник с барашковым воротником, в суконные брюки и добротные, без единой латочки, хромовые сапоги.
– Труша! Да тебя не узнаешь – гляди, как вырядился! – воскликнул я.
– Какой же это наряд? Просто обыкновенный, рабочий… А ты… – Трофим с сожалением, как мне показалось, оглядел мое потрепанное ученическое пальтишко, дырявые сапоги, – все учишься? Или бросил? Как там Рыбины?
Я рассказал что знал о прежних хозяевах Труши – о Матвее Кузьмиче, о Неониле Федоровне, об Аникии, Фае. Мне казалось, что он прервет меня, спросит о Домнушке, но он не спрашивал.
Мы шагали по завешанной тонкой изморозной мглой улице хутора, и Труша, как бы стесняясь за пережитое у Рыбиных, рассказывал:
– Ну, я, как только приехал в Ростов, зараз же пошел наниматься, куда примут. Мне так обрыдло у Рыбиных, что было все равно, куда кидаться, хоть к черту на рога. Проскитался я месяца три. Где я только не начинал тянуть лямку! И все чернорабочим. В грузчики меня не взяли – слабый. Так я то уборщиком, то землю ковырял на канализации, то в ремонте вагонетку гонял. Потом человек хороший попался, слесарь, посоветовал бросить грязное дело и поступить в железнодорожные мастерские. И там я долго был подметайлом, стружку да гайки на тачке возил, потом пригляделся к станку. Добрые люди, слесари, помогли. Ухватился я за станок, как за гуж, раскумекал, что к чему, и через полгода сдал слесарную пробу. Перевели меня в подручные. Ну, тут я и получил разряд. Теперь я слесарь, как полагается, получаю рубль двадцать в день…
– Неужели рубль двадцать?! – удивленно воскликнул я.
– Да, целковый с двугривенным, – улыбнулся Труша, – А что, разве много? По теперешней-то дороговизне? Видишь – приоделся. Там же, на Темернике, у рабочего квартирую, хожу в столовую, смотрю картины, любительские спектакли. Культура! – Труша как-то очень горделиво ухмыльнулся понизил голос: – Даже за барышней ухаживаю. Городская такая, славненькая, чистенькая…
Мне стало обидно за прежнюю любовь Труши.
Я спросил:
– А как же Домнушка?
Труша сразу опустил голову, глубоко вздохнул.
– А она еще живая? – вместо ответа спросил он и густо покраснел.
С минуту мы шли молча, и вдруг Труша тихо, застенчиво спросил:
– Так она еще тут? Домна-то?
– Тут. Видел ее недавно.
Трофим отвел глаза в сторону, закусил нижнюю губу:
– Жалко все-таки девку…
Он сказал это как-то уж очень просто и душевно. Нет, не выветрилась еще живучая первая любовь!
Мы поравнялись с подворьем Каханова.
Я спросил:
– Куда же ты теперь, Труша?
– К своим. Отца и мать проведаю. Деньжонок им чуток привез, гостинца…
На возмужалом лице Труши отразилось горделивое удовлетворение.
– Ты тоже валяй в город. Там в люди скорее выйдешь, а тут пропадешь. Кому ты тут нужон? Ведь ты грамотный побольше меня, а вот тычешься, как кутенок. В городе, там люди умнее – далеко видют, а тут темнота, неволя… Я уже кое-что узнал в городе…
– А что? Скажи, Труша! Скажи, что ты узнал? – пристал к нему.
Мне так хотелось открыть еще неведомое окошко в другой, широкий мир!
– Ну что тебе сказать? Малой ты еще, – туманно отнекивался Труша.
– Почему малой? Мне уже четырнадцать лет.
Меня взяла досада: Труша, которого я когда-то учил читать и писать, оказывается, опередил меня в чем-то важном и жизненном, чего я еще не знал.
– Одно скажу, Ёрка, так жить, как жил я и живут зараз в хуторе, дале нельзя, – став очень серьезным, заговорил Трофим. – Может, кому эта жизнь и в охотку. Атаманам, купцам, прасолам. Но таких, как они, – раз-два и обчелся, а таких, как мы – мильёны. И все нищенствуют, бьются, как рыба об лед… до седьмого пота за кусок хлеба, за копейки… Вот я получаю рубль двадцать. Я – слесарь. Ты думаешь, это много? А ты спроси: сколько я работаю часов в день? Двенадцать часов. Вот и получается – гривенник в час. А хозяева наши от каждого нашего гривенника наживают рубль…
– Кто тебе про это сказал? – наивно спросил я.
Труша снисходительно усмехнулся.
– Люди… Знакомые… Ну ладно… Мне, кажись, сюда, в этот проулок… Заговорился я о тобой.
Труша помахал рукой, крикнул уже издали:
– В город подавайся! В город! Там все узнаешь!
Я смотрел вслед ему, пока он не скрылся в переулке. Идти домой и рассказывать матери о своей неудаче у мастера по-прежнему не хотелось. Машинально, сам не зная куда и зачем, я зашагал по затянутой снежной мглой улице. И вдруг меня осенило: не пойти ли к своей прежней наставнице, Софье Степановне? Не рассказать ли ей о своих думках, не попросить ли какого-нибудь совета?