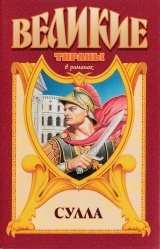
Текст книги "Сулла (илл.)"
Автор книги: Георгий Гулиа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
8
Рим снова направил к Сулле своих военных трибунов. Марий и сенат вполне оценивали военную силу, расположенную в лагере близ Альба-Лонги. Не вести переговоров с Суллой не разумно. Никакого удовольствия, разумеется, от этого не могли ожидать ни сенат, ни тот же Марий.
Противоестественность наступления римлян на Рим ощущали многие в «вечном городе». В каком свете предстанет республика перед миром, если римляне не могут уладить добром внутренние разногласия? Одно дело, когда на Рим идет Ганнибал, и совсем другое – когда городу угрожает свой собственный полководец. Можно представить себе, какую это вызовет радость при дворе Митридата, или где-нибудь в Армении, Вифинии, Киликии, или в тех же Афинах. Или на Рейне. Или на неспокойном Севере Галлии, в отдаленной Испании. Да нет, что там рассуждать – наступление Суллы на Рим надо предотвратить, даже ценою некоторого самоуничижения.
Так полагали на Палатине. И такую линию поведения принял Марий – правда, не без давления сената и ближайших друзей. «Надо смотреть на вещи трезвым взглядом, – убеждали его. – Ныне военная сила, с которой нельзя не считаться, находится в руках Суллы. И нет никакого резона делать вид, что это не так». – «Послушайте, – отвечал Марий, – вы не очень точно представляете себе, на что идете, затевая переговоры с этой лисой. Никакого мира с Суллой быть не может! Либо вы пойдете к нему в полное услужение – постыдное и низкое, или он вас раздавит своим кованым башмаком. Середины он не знает». Сенат и друзья советовали Марию: «Возможно, что в этих твоих словах и есть доля истины, но только – доля. Едва ли римский народ примирится с Суллой, который начнет давить его башмаком. Этого не будет никогда, пока жива республика!» Марий говорил: «Если это потребуется для его честолюбивых замыслов – Сулла удушит республику». Поскольку это казалось чудовищным, сенат полагал, что столь суровая оценка Суллы идет от личной враждебности к нему Мария.
Прибытие римских трибунов в Альба-Лонгу было уступкой Мария сенату.
Трибуны Брут и Сервилий прибыли в лагерь в пышных одеяниях, обшитых пурпурными лентами, в новой обуви, в сопровождении ликторов, несших фасции. Военные трибуны были облечены большими полномочиями, ибо в Риме справедливо полагали, что только такая делегация может успешно разговаривать с Суллой. Последний должен понять, что с ним желают вести переговоры весьма серьезно, что Рим придает им огромное значение и в соответствии с этим посылает достойных лиц, облеченных полным доверием и могущих маневрировать по своему усмотрению.
И Брут и Сервилий люди немолодые – обоим за сорок лет, образованные, искушенные в дипломатических делах. Они, по всей видимости, были вправе рассчитывать на успех. Если только, – и это многие подчеркивали в Риме, – если только Сулла не сошел с ума, если осталось в нем чувство реальности и патриотизма. Ибо ни один истинный римлянин не должен идти на заведомый позор. А таким позором явится сражение римлян под стенами собственного города…
Сулла встретил трибунов в самом затрапезном виде: заспанный, непричесанный, с мешками под глазами. После ночной пирушки он выглядел помятым, бледным. Его голубые глаза сделались водянистыми, злыми, как бы ничего не видящими. Его не первой свежести туника несла на себе следы чрезмерных возлияний. Да и соусы оставили на ней след. Одним словом, Сулла и пальцем не пошевелил, чтобы показаться более опрятным, чтобы подостойней встретить римских посланцев.
На предложение Эпикеда сменить тунику Сулла заметил, что не намерен метать бисер перед свиньями из Рима. Эпикед пожал плечами и не стал увещевать своего господина. Вполне возможно, что Сулла и был прав. Полководец заметил слуге, чтобы его слышали и другие приближенные:
– С людьми, которые топчут республику и ее традиции, я намерен разговаривать в том виде, которого они заслужили.
Когда военные трибуны вошли в палатку, Сулла спросил их, не поздоровавшись:
– В чем дело?
Сервилий поклонился подчеркнуто почтительно.
– Я не иностранный правитель, – грубо сказал Сулла, – и не нужны мне эти ваши идиотские почести. Обойдусь без них! Я простой солдат, сердце которого обливается кровью при виде безобразий, творящихся в Риме. Друзей моих там избивают, сбрасывают с Тарпейской скалы, мучают в Мамертинском застенке. Унижают на каждом шагу людей из самых знатных, старинных родов. Это – величайшее преступление против великого римского народа. Разве таких правителей заслужил народ? Для того ли существует Рим вот уже шесть веков, чтобы на Палатине и на Капитолии правили старые шлюхи вроде этого Мария? Ответствуйте мне, для того ли?!
Сулла кричал, размахивал руками, топал ногами, ругался последними словами. Он не дал и рта раскрыть Бруту и Сервилию. Сулла повторял:
– Для того ли?
Голос полководца был слышен далеко за пологом его палатки. Его военачальники внимали ему с почтительной улыбкой, между тем как римские посланцы в холодном спокойствии стояли перед ним. И молчали. Молчали, молчали, молчали. И это особенно бесило Суллу.
– Молчите?! – кричал он. – В рот воды набрали?! А что у вас, собственно, за душой? Что вы можете сказать в свое оправдание или в оправдание тех, кто вас послал сюда? Что?!
Эпикед подал Сулле чашу с холодной водой и тот с размаху бросил ее на землю.
– Вы почему явились сюда? – продолжал Сулла, неистово напрягая голос. – Для чего? Чтобы почтить приветствием мое войско? Чтобы выразить ему свое уважение? Как бы не так! Вы явились для того, чтобы хитростью и лестью ввести нас в заблуждение, чтобы лишить нас чести воевать с Митридатом и добыть славу для Рима и для себя, богатство – для Рима и для себя. Вот зачем вы явились! Передайте вашему старикашке, что мы не продаемся за деньги, не поддаемся лести и не верим лживым словам! Человек, который задушил республику, оплевал древние наши обычаи, залил кровью улицы Рима – кровью лучших сынов народа! – не имеет никакого морального права предлагать мне что-либо, кроме своих извинений. Это вам ясно?
Брут сказал спокойно, с достоинством истинного римского патриция:
– Ты можешь приказать своим солдатам убить нас, как это сделал совсем недавно в Ноле…
– Я никому не приказывал, – перебил его Сулла.
– Допустим. Я повторяю: ты можешь убить нас здесь, в Альба-Лонге. Это твое дело. Но прежде, я полагаю, надо выслушать нас. Ибо свидетели боги: мы не успели еще и рта раскрыть, а ведь мы явились с разумным предложением.
– С разумным? – усмехнулся Сулла и спросил Фронтана, стоящего справа от него: – Ты им веришь?
Фронтан сказал:
– Ни капельки.
– Видите! – злорадно произнес Сулла, обращаясь к посланцам.
– И все-таки, – заметил Фронтан, – я бы их выслушал.
Сулла уставился на него водянистыми глазами. Не шутит ли этот военачальник? Вполне ли серьезно это он?..
– Да, – произнес Фронтан.
– Ну что ж… – Сулла уселся на скамью. Небрежно бросил: – Подайте скамьи трибунам…
Римляне не обращали никакого внимания на этот высокомерный тон, на желание Суллы унизить их, нанести им преднамеренное, заранее рассчитанное оскорбление.
– Так что же вам надо? – прохрипел Сулла, глядя куда-то в сторону.
Брут сказал:
– Мы бы желали, чтобы сейчас на этом месте возобладал рассудок над страстью. Страсть в политике, доведенная до злобы, – плохой советник. (Сулла скривил губы.) Мы уполномочены сенатом…
– …и этой старой шлюхой, – добавил Сулла, скрипнув зубами.
– …сенатом, – невозмутимо продолжал Брут, – сделать тебе продуманные, достойные предложения. Эти предложения не должны, разумеется, ронять чести и высокого авторитета Римской республики перед всем миром. (Сулла, казалось, едва сдерживает себя, чтобы не расхохотаться.) Рим при всех обстоятельствах – насколько это во власти его сынов – должен сохранить свой непоколебимый авторитет. Народы мира должны в нем по-прежнему видеть монолит, а не организм, снедаемый противоречиями и подтачиваемый изнутри тяжелым недугом.
Сулла не выдержал:
– Послушай, как твое имя?
– Брут.
– Послушай, Брут, ты разговариваешь со мной, как с персидским правителем. Ты не хочешь понять, что я плюю на церемонии. Я – солдат, мне важно существо дела, а не риторика. Для словесных упражнений лучше всего отправиться в Афины, в Академию. Там теперь только и болтают за неимением подходящего дела и вследствие полной импотенции. Ты меня понял или нет? Философия не для меня. Понял?
Брут выдержал паузу и продолжал:
– Конечно, вы можете убить нас…
Сулла сказал:
– Никто не собирается вас убивать. Кому вы нужны, между нами говоря?
Брут изложил предложения Рима, которые сводились к следующему: надо покончить дело миром, всякое военное столкновение поведет к междоусобице, а это выгодно только врагам Рима; любые законные требования Суллы будут удовлетворены; вопрос о командовании экспедиционным войском должен быть решен благоразумно, к общему согласию и на благо республики.
– Все? – спросил сквозь зубы Сулла.
– Пока – все, – ответил Брут.
Сулла оборотился к Фронтану:
– Ты желал услышать то, что услышал только что?
Фронтан молчал.
– Разве не ясно, что эти господа с Капитолия морочат нам голову? Они полагают, что у нас задницы вместо голов. Покажи им, Фронтан, где у нас головы и где задницы.
Фронтан доподлинно точно продемонстрировал анатомию своего тела.
– А теперь ясно? – спросил Сулла римлян.
– Вполне.
– Извините нас за грубость, но мы – солдаты, – сказал Сулла. В его глазах начал гаснуть ярко-голубой оттенок.
– Нам все ясно, – сказал Сервилий. – Мы не в обиде, ибо мы пришли не затем, чтобы обижаться.
– А зачем же?
– За ответом на наши предложения.
– Но ведь такие предложения означают, что вы имеете дело с побежденными…
– То есть?
– А очень просто! – Сулла сжал кулаки. – Можно ли вовлекать нас в переговоры, не обещая ровным счетом ничего?
– Как так – ничего? – удивился Сервилий.
Сулла выставил кулаки напоказ:
– Вот – мы. А вы хотите, чтобы мы расслабили пальцы и подали вам руку. И тогда вы зажмете нам пальцы деревянными, неумолимыми тисками, какие употребляют палачи в Мамертинской тюрьме. Вы будете смеяться, а мы – рыдать от боли. Вот что вы предлагаете.
– Это не так! – запротестовал Брут.
– А как же? – Сулла размахивал кулаками.
– Я снова повторяю во всеуслышание: все законные требования твои будут вполне удовлетворены.
– Законные! – воскликнул Сулла, и кулаки его сшиблись в воздухе. – А кто определит их законность?
– Мы вместе с тобой.
– Голосованием, что ли?
– Может, и так. Способ в данном случае неважен. У нас в этом смысле богатые традиции.
– У вас – да, – двусмысленно произнес Сулла»
– Я снова могу повторить…
– Не надо!
Сулла задумался. Медленно-медленно тер себе щеки. Тер себе лоб. Покашливал. Не глядя ни на кого.
Брут и Сервилий почувствовали, что ничего путного из этих переговоров не получится. Суллу окружали тупые, одеревенелые лица. Истые солдафоны. Готовые на все по первому приказанию своего начальника. Ссылаться в беседе с ними на высшие принципы государства, общества или личности – пустая трата времени. Это видно по их рожам – раскормленным, скотским. Взывать к их человечности и благоразумию – значит рассчитывать на милосердие льва, целую неделю проведшего в жестоком посте. Эти люди признают один закон – закон меча. Если меч острием своим приставлен к их кадыку – это одно дело. Если же, наоборот, острие упирается в глотку их противника – дело совершенно другое. Закон в их сознании претерпевает метаморфозу только и только в зависимости от направления меча. При таком положении вещей успех переговоров маловероятен. Надо надеяться, что здесь не все зависит от желания этих солдафонов, что Сулла, как бы он ни был жесток и коварен, может понять кое-что, хотя бы из самых крайних эгоистических соображений. Из шкурных, как говорят в Остии.
Сулла глухо промычал:
– А много моих друзей убивают в Риме?
Брут ответил с готовностью:
– Все эти слухи преувеличены.
– Как?!
– Были прискорбные убийства. Не без этого. Все это случается, когда возникают беспорядки. Не всегда разбирают, где правый, где виноватый.
– Ложь! – процедил сквозь зубы Сулла.
– В Риме сейчас царит порядок…
– Ложь!
– За несправедливое кровопролитие закон строго карает виновников…
– Ложь!
Римляне были тверды:
– Сенат принял строгие меры к наказанию убийц…
– Все ложь!
Брут развел руками:
– Я даже не знаю, что и говорить…
– Потому что сказать нечего!
– Я могу поклясться богами.
Сулла сощурил глаза. Он как бы мысленно рассчитывал, что лучше: выкинуть этих трибунов со всеми их потрохами за порог или выпроводить их с большим или меньшим почетом?.. Или же отдать на растерзание толпе солдат?
Его продолжительное молчание наводило страх на окружающих. Но римские трибуны, казалось, были совершенно безразличны к тому, что происходит в глубине души этого полководца. Они ждали. Они ждали его решающего слова.
А Сулла все молчал. Казалось, что полководца теперь уже ничто не волнует. Его мрачная душа мысленно находилась в Риме. Взору рисовался зеленый Палатинский холм, высокий и гордый Капитолий, где он никогда еще не был подлинным хозяином. Но сейчас, в эту минуту, как человек многоопытный, изощренный в делах хитроумных, всем сердцем чувствовал себя на высоте Капитолия. Перед ним великий город, и нет преграды, которая остановила бы его. Надо ли это доказывать? Кому-нибудь или самому себе. Видимо, нет. Он почему-то вспомнил Филениду. Много их, филенид, было, и многое бывало. Но подобной, пожалуй, нет. В этом молодом существе женского пола скрывалось нечто особенное. Никто бы в мире не смог объяснить, что есть это «нечто». Оно тем и прекрасно, что необъяснимо. Необъяснимо, – значит, непонятно. Но непонятно – не значит плохо. Напротив, непонятное, необъяснимое очень часто бывает столь притягательным, что больше не хочется жить без этого «нечто».
Было бы смешно объяснять какому-нибудь опытному мужу, сколь прекрасна Филенида, что в ней необычного… Может, проще все объяснить, сосчитав, например, количество лет ее жизни? Это же очень просто. И в то же время – разве Сулла не знал женщин этих лет? Разве только года определяют достоинства прекрасного?
Он так увлекся своими мыслями, что поманил к себе Эпикеда и шепотом спросил его, где эта прелесть, эта душа его – Филенида?
– Она здесь, недалеко от лагеря, – ответил слуга.
– Я хочу ее видеть.
Эпикед удивился.
– Возможно ли? – спросил он. – Возможно ли сейчас?
Сулла словно бы пришел в себя. Оглядел своих собеседников. Махнул рукою. И сказал Эпикеду:
– Ладно… Передай ей слова любви. Немедленно!
И снова махнул рукою. И вперил усталый взгляд в Брута.
– Что ты сказал? – прохрипел Сулла.
– Ничего.
– Мне послышалось?
– Возможно.
Сулла мизинцем прочистил правое ухо.
– Послышалось? – переспросил он.
Брут пожал плечами, – дескать, ведать не ведаю.
– Ты что-то хотел сказать? – обратился Сулла к Фронтану.
– Нет.
– А ты? – Сулла протянул руку, словно пытался дотронуться до Сервилия.
– И я, – проговорил Сервилий решительно.
– Значит, мне послышалось… – Сулла продолжал неистово ковырять мизинцем в ухе.
Потом скрестил руки на груди. Опустил голову. И сказал едва внятно:
– Ну что, эта ваша сволочь ничего более путного не придумала?
Трибуны восприняли этот вопрос как пощечину. Видимо, их терпение истощилось. Они разом, как по команде, поднялись с места.
– Что? – усмехнулся Сулла. – Обиделись? За этого старикашку обиделись? А? – Он повысил голос: – Видишь, Фронтан, как оскорбились эти господа? Очень, очень обиделись. Разумеется, слух их привык к другим словам. Их ухо ласкали слова, которые без конца льются из уст ораторов на римском форуме, в сенате, на Капитолии. Какие воспитанные!
Сулла вскочил с места. Прыгнул к Фронтану.
– Нет, ты видишь? – кричал он неистово. – Ты видишь?
– Успокойся, Сулла, – сказал Фронтан. – Мы поговорим с ними за твоим порогом. Здесь неудобно.
Сулла поднял вверх правую руку:
– Нет, Фронтан, нет! Так не будет! Самое большее – это разорвать на них тоги… Вернее, сорвать эти пурпурные ленты. И дать им пинка под зад. Только не очень. Слышишь? Чтобы душа с другого конца не вылетела!
Его желание вскоре было исполнено. В точности.
9
Возвращение Брута и Сервилия в Рим с пустыми руками вызвало глубокое уныние всех мыслящих квиритов, а то место в их рассказе, где говорилось о надругательстве солдат над посланцами, вызвало огромное возмущение. Сенат заседал непрерывно в храме Беллоны, что на Марсовом поле близ цирка Фламиния. Проекты выдвигались различные: одни предлагали немедленно ввести чрезвычайное положение, а Суллу объявить врагом отечества; другие советовали, несмотря на все, не жалеть усилий для мирных переговоров, во что бы то ни стало уладить дело миром.
Марий колебался: ему не хотелось провоцировать Суллу на внезапный бросок на Рим. Ему казалось, что и Сулла колеблется в выборе тактики. По всему было видно, что римляне клеймили презрением нового Ганнибала, нет, не Ганнибала, хуже, ибо этот угрожает кровопролитием своему родному городу.
Все это, несомненно, говорило в пользу Мария. Однако Марий прекрасно понимал и то, что для такого человека, как Сулла, все средства оправдывают цель. Что ему до мнения квиритов? Что ему высокие идеалы республики? И какое для него имеет значение, что станут говорить о его походе против Рима историки или поэты? Ровным счетом никакого! Марий знал его, как никто другой, знал как облупленного и не заблуждался на этот счет. Военное превосходство имело в данном случае для Суллы решающее значение. Разве посчитается он при таком положении с какими-нибудь моральными соображениями? Вопрос стоит так: сейчас или никогда! Если Сулла и медлил, то не потому, что испытывал угрызения совести. Марий знал цену этим угрызениям. Дело затевалось слишком большое, и Сулла, по-видимому, не желал рисковать. Его, как видно, устраивали только все сто процентов военного счастья.
Марий много и мучительно размышлял. Он еще больше поседел и постарел за эти последние дни. Понимал, что не должна быть допущена малейшая оплошность. Нельзя давать в руки Сулле никакого преимущества. В ответ на его разглагольствования о республике, которую, дескать, оседлали тираны, необходимо показать власть сената, власть народа. Если бы кто-нибудь мог влезть в душу Суллы, тот наверняка бы ужаснулся сходству ее с мрачным подземельем, в котором кипят самые низменные страсти. Только Марий может обо всем атом судить безошибочно. Только он по-настоящему может оценить беду, которая нависла над Римом, над всей республикой. А сенат, по мнению Мария, интересовался главным образом непосредственными последствиями открытого столкновения с Суллой и его приспешниками. И мало кто думал о судьбах самого римского народа, о будущем, на которое могут иметь самые пагубные воздействия события сегодняшнего дня.
Один из ораторов говорил в сенате: «Мужи многомудрые, взгляните на поступок Суллы глазами галла или испанца, тевтона или скифа. Что они подумают о нас, узнав, что один римлянин, собрав войско, идет походом на Рим? Разве не учтут сего ужасающего дела в Египте или в Мавритании? Даже грекосы, – проведав обо всем этом, – и те подымут голову».
Другой оратор сказал: «Я обращаю ваше внимание, о сенаторы, на главнейшую сторону сложившейся ситуации. Междоусобица всегда ослабляет государство. Если не погасить огня в самом зародыше, мы проиграем нашу кампанию в Малой Азии. Ибо Митридат попытается извлечь всю возможную для себя пользу из наших ошибок. Поход Суллы на Рим, даже едва скрываемая военная угроза Риму, есть, несомненно, грубая ошибка. Наш долг сделать все возможное, дабы скрасить неприглядность его поступка».
Из этих двух цитат видно, сколь поверхностно, по мнению Мария, оценивали вызов Суллы сенаторы и даже сенат в целом. Трагедия состояла в том, что мало кто смотрел далеко вперед, а если и смотрел, то не видел смертельной угрозы ни для Рима, ни для себя лично. Это было просто удивительно!
Когда же Марий требовал более быстрых, более решительных мер, ему мягко советовали отбросить личную неприязнь к Сулле, подняться над нею и мыслить только в государственном масштабе. Все это очень огорчало Мария. Люди – а среди них были и проницательные, казалось бы, – не могли уразуметь истинной сущности происходящего. Это не взрыв обычного тщеславия обычного полководца. Речь идет не об уязвленном самолюбии полководца, считающего, что он заслужил больше славы, более достойного триумфа. Дело значительно глубже, значительно опаснее. Будет ли время для раскаяния? Если верх одержит Сулла, то, полагал Марий, мышеловка прочно захлопнется и выхода из нее больше не будет. Многие убеждали Мария в том, что он слишком мрачно смотрит на вещи, слишком субъективен, – настолько, что сам лишает себя трезвой оценки действительности.
Марий предвидел трагедию. Так ему казалось. Он говорил; «Трагедия неминуема. Боюсь, что это будет концом республики. И чем больше Сулла твердит о демократии и корит «римских тиранов», тем страшнее становится мне».
Само собою разумеется, что Марий ненавидел Суллу. Сулла распускал слух, что Марий просто-напросто завидует его военной судьбе, что не может простить ему пленения Югурты и многого другого. Была ли в этом доля истины? Вероятно, была. Как издревле говорили в Вавилоне, все люди – человеки. В любом римском квартале были осведомлены о том, что Сулла и Марий – это собака и кошка. А на Палатине были известны все тонкости их взаимоотношений.
Бедный Марий! Он делал все, чтобы казаться немного помоложе и покрепче. Занимался гимнастикой на Марсовом поле, играл в юношеские игры (во всяком случае, пытался), соблюдал некую омолаживающую диету, скакал верхом. Вставил себе прочные зубы, для чего ездил к какому-то прославленному врачевателю в Диррахиум, красил волосы египетским зельем, на груди и на ногах удалял волосы особым персидским порошком, который наподобие грязи, если размешать его на воде (поэтому порошок этот называют еще и персидской грязью). И это не все: Марий покрасил розовой краской ногти на руках и на ногах, словно сквозь них просвечивала молодая, розовая кровь. В Риме знали эту его слабость и втихомолку подтрунивали.
Старинная знать, обосновавшаяся на Палатине, пыталась разобраться в развертывающихся событиях. Если бы речь шла об иноземном нашествии или восстании рабов или италийских народов, то положение было бы предельно ясным. Каждый патриций поступал бы соответственно со своими обязанностями. Они, эти обязанности, давно известны, освящены веками, передаются из рода в род. А здесь? Как поступить сейчас?
Если послушать Суллу – он всей душой, всем сердцем за сенат. У него вроде бы одна забота: вернуть сенату все права и ни в коем случае не ущемлять их. Если верить Сулле – он истый оптимат, сторонник крупной аристократии, и все помыслы его направлены на сохранение и укрепление патрицианских привилегий. Одним словом, свой человек.
А Марий? Этот не скрывает, что он – популяр. Он нравится ремесленникам, крестьянам, мелкой знати. Но если уж говорить откровенно, он и крупную знать не особенно притесняет.
Наверное, все-таки предпочтительней Сулла. С точки зрения патрициев, сенаторов. Но можно ли полностью доверять его словам? Это человек своенравный, крутой характером. Кто поручится за то, что слово его не расходится с делом?
Но еще важнее другое: кто победит – Марий или Сулла? И как отразится все это на латифундиях, на виллах, на доходах? Это – главное.
Мантика была пущена на полный ход. Восточные и прочие мудрецы – нарасхват. Этрусские таинства и премудрости ожили необычайно. Всех волнует одно: что будет? Какого образа мыслей держаться? Сулла или Марий?
Если бы можно было преобразиться в существо бесплотное и если бы пройтись по палатинским дворцам в эти дни, – много любопытного можно бы услышать и увидеть. Что только не пророчили!
Некий старец, выдававший себя за потомка известного египетского жреческого рода, гадал на свежей печени ягнят. Не каждая печень, оказывается, годилась для мантики. Бывало и так, что за вечер закалывали небольшое стадо в десять – пятнадцать голов. Прежде чем приступить к прорицанию, требовалось съесть всех животных, коих заклали. А уж потом – после таинственных возлияний – приступали к гаданию.
Разгоряченное вином воображение рисовало самые причудливые картины. Слушатели, тоже возбужденные вином, сами дорисовывали то, что почему-либо упускал прорицатель.
Вот что нагадал этот гадатель во дворце Юлиев: «Кровеносный сосуд, явственно обозначенный на гладкой поверхности печени, раздваивается. Одна жила ведет к краю, который зовется в просторечии Чистое поле, а другая – вовнутрь, туда, где начинаются желчные протоки. Это не совсем хороший признак. На этот бугорочек, разделенный надвое углублениями, как бы дольками печени, взойдет человек очень желчный характером. Он будет править с этого бугорка, в котором легко признать Капитолий». На вопрос: кто же этот человек? – гадатель ответил: «Желчный характером». После чего впал в полное беспамятство.
Другой гадатель, явившийся с гор Этрурии, предсказал: «Марий разбивает Суллу. Сулла бежит на Север. Галлы его хватают, обезглавливают, и голову его торжественно преподносят Марию на форуме». Это прорицание мигом облетело весь Палатинский холм. Все было сказано столь точно, недвусмысленно, что не допускало двух толкований. Ни одно прорицание последнего времени не было столь определенным. Этот прорицатель был известен во всей Сицилии своими предсказаниями: из девяти его крупных гаданий сбылись восемь. Именно столько раз восставали рабы в течение одного года на крупных латифундиях.
А Марий не верил. Не подпускал к себе друзей, которые шли к нему с разными слухами и прорицаниями. Ему уже под семьдесят. Жизнь была прожита немалая. Не раз доверял ему римский народ консульскую власть. Он служил Риму верой и правдой. Ему несли сведения не прорицатели, но – что важнее – соглядатаи. А сведения эти были довольно плачевные: Сулла день ото дня становится сильнее его. Военное превосходство его совершенно явное. Отзывать легионы из Испании или Галлии – напрасный труд: они все равно не поспеют. Марий отдавал себе отчет в положении вещей. А сенаторы просто раздражали: каждый из них молол несусветную чушь…
Когда однажды сенаторы особенно горячо обсуждали создавшееся положение и никто не мог предложить панацеи, глашатаи вдруг известили о прибытии гонца от Суллы. И на кафедру был положен довольно большой пергаментный свиток. Он содержал послание сенату от Суллы.
Сулла писал:
«Многоопытные и уважаемые римские сенаторы! В тяжелые дни пишу я это послание: великий город, великое государство ждут нашего общего согласия на благо республики, а мы, полные взаимного недоверия и подозрительности, ищем часа удобного, дабы схватить друг друга за глотку.
Будучи предан традиционным идеалам республики, я пришел теперь к выводу, что нам действительно следует по здравом размышлении найти общий язык с тем, чтобы, избежавши кровопролития, сойтись на дороге мира. Что может сулить нам иной путь? Давайте подумаем вместе, ибо мир с надеждой взирает на нас и ждет благих вестей из этого великого и вечного города.
Подписал: С у л л а».
Марий был приглашен на заседание сената. Он прочитал послание Суллы. Перечитал его. Не проронил ни слова. Слушал внимательно выступления сенаторов. Говорить ему вовсе не хотелось. Но все ждали его слова. Наконец взошел на кафедру и задал вопрос:
– Все читали это послание?
– Все! – раздались голоса.
– Вы верите этим словам?
Наступило неловкое молчание. Сенаторы сидели строгие, встревоженные. Марий потирал влажной ладонью свой высокий, чуть нависающий над бровями лоб. Он ждал. Но сенаторы молчали.
– Я скажу за себя: я не верю этому посланию. Ни на асс не верю, – сказал Марий.
– Почему? – понеслось из зала.
– Чтобы поверить – надо знать человека, подписавшего это письмо. На словах – за вас. Дай ему власть – первыми полетят ваши головы. Ваши! Слышите?
Сенаторы продолжали хранить молчание. Чувствовалось, что Марий не убедил их в чем-либо, не доказал неискренности послания.
В конце концов, что плохого предлагает Сулла? Переговоры? Но ведь это и есть то, чего добивался сенат. Следует ли сеять сомнения, если Сулла принимает предложение сената?
Марий начал свою речь следующим образом:
– Сейчас не время для торжественных славословий, для пространных заявлений и маневрирования. Бьет час: либо мы сейчас же, немедленно примем решение и приложим все силы для его быстрейшего исполнения, либо сдадимся на милость того, кто рвется сюда и жаждет власти. Я бы сказал так: диктаторской власти. Вы спросите меня: откуда все это мне известно? Ведь в руках у нас документ, подписанный Суллой. Все это так. Но вас ничего не смущает?
– Что именно? – спросил один из сенаторов.
– Скажу что: где те люди, которые привезли это послание? Ждут ли они нашего ответа? Каковы их полномочия?
Никто не ответил на эти вопросы. А магистраты не смогли сыскать гонца, привезшего послание.
– Кто же доставил письмо? – спросил Марий.
Но так и не получил надлежащего ответа.
– Вот видите, – сказал он с укоризной. – Меня смущает это обстоятельство. И я задаю себе вопрос: а нет ли здесь подвоха, самого банального, рассчитанного на дураков?
В зале послышалось шарканье ног. Сенаторы недоуменно переглядывались: неужели Марий идет на оскорбление? Марий понял их.
– Я никого не желаю обидеть, – продолжал он. – Я не люблю, когда кто-нибудь надеется найти во мне дурака, человека недальновидного. Так можно поступать только тогда, когда перед тобою дети, а не опытные мужи. Но, кажется, нас принимают за дураков или несмышленых детей. Я не буду касаться будущих планов Суллы. Своими предсказаниями кой-кому уже изрядно надоел. Повторяться не хочу. Да и не нужно это. Я разрешу себе привести здесь рассказ одного испанца, живущего за Пиренеями. Говорят, что Ганнибал попытался склонить на свою сторону жителей горного городка. И он сказал им: «Вот вы – сильный и красивый народ. Живете по своим обычаям, и нет над вами власти ни у кого, кроме богов. И нет силы, которая могла бы подчинить вас себе, ибо доступа к вам нет. Только боги вольны над вами. Я предлагаю вам свою дружбу и с этой целью приглашаю весь ваш народ на пир. На пир по нашему карфагенскому обычаю, когда пируют за одним столом сотни и тысячи. Или вы сойдите к нам в долину, или мы явимся к вам». Предложение на первый взгляд хорошее, доброе. Нельзя его не принять. Но вот загвоздка: идти ли в долину или звать в горы, в собственный город? Одни говорят: «Не надо в город, это все равно что пустить в крепость без боя. Лучше спуститься в долину». А другие говорят: «В долину, – значит, добровольно лезть в полон. Это очень глупо – отдаваться во власть Ганнибала. Лучше позвать его в город». Поднялся спор. Победили те, которые стояли за то, чтобы Ганнибала пригласить в город. Вот и все.








