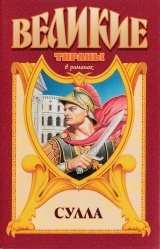
Текст книги "Сулла (илл.)"
Автор книги: Георгий Гулиа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
2
Актеры Полихарм и Милон явились не одни: они привели с собой некоего бородача по имени Буфтомий, родом из Мавритании. Архимим Полихарм шепнул на ухо Сулле, что этот Буфтомий преуспевает в различного рода гаданиях, он был бы, дескать, великим мантиком, если бы не врожденная лень, от которой нет избавления.
Сулла присмотрелся к худощавому Буфтомию, как видно давно не посещающему бальнеумы. Такой невзрачный, молчаливый человечек в обветшалой тоге неопределенного цвета. А лицо у него не то чтобы черное, но достаточно темное, чтобы не спутать его с жителем италийских земель. Ничего особенного, за исключением глаз: глаза действительно странные, на них нельзя не обратить внимания. Что-то притягательное в них. Они – словно финикийские стекляшки на лунном свету. А на самом деле – черные-пречерные. И в них светится неприятный огонь. Именно на этот огонь обратил внимание Суллы архимим как на главную особенность Буфтомия.
– Такие глаза, – шептал Полихарм, – видят очень много…
Сулла чувствовал себя в лагере в полной безопасности. Это не то что в Риме, где каждую минуту ждешь предательского удара.
Да, были там денечки! Как выражаются самниты, вполне пригодные для печения, то есть жаркие, когда можно испечь любое блюдо. Сколько раз за последнюю декаду подвергалась смертельной опасности жизнь Суллы? Даже не счесть! Но не случалось беды чернее той, которую готовил Сульпиций со своими головорезами. Не будь Мария, не будь его приказа, голова Суллы уже красовалась бы на форуме. Особенно благодарить Мария не за что. Едва ли убийство Суллы принесло бы ему много пользы, скорее – наоборот. И совесть, наверное, заговорила в нем: вспомнил, какую неоценимую помощь оказал ему Сулла в Африке, в Югуртинскую войну…
Сейчас, когда опасность миновала, не мешало бы подкрепиться хорошим ужином и щедрой порцией вина…
Архимим Полихарм – сицилийский грек. С малых лет подвизается он на сцене. Поначалу играл покинутых матерями мальчиков, потом – бессловесных воинов с дротиками и щитами в руках. К сорока годам полностью развернулся его талант. Полихарм сделался любимцем публики. Не раз приветствовала толпа Полихарма в Риме. Особенно удавались ему роли трагические: мастерски вышибал слезу у зрителя, да так, что долго, долго вспоминали Полихарма. Сказать по правде, и рост высокий, и голос густой, словно мед, во многом способствовали его успеху. При такой наружности да при его мастерстве не мудрено прослыть великим актером.
Что же до Милона – этот, конечно, уступал архимиму. Он особенно любил роли в греческих комедиях. Комедия веселит душу, но трагедия вроде бы выше, чувства, которые она вызывает в тебе, остаются надолго, может быть на всю жизнь. Правда, надо отдать должное и Милону: народ покатывается со смеху, глядя на его ужимки, – ну, обезьяньи воистину! Или играет, например, он и такую роль: жена обманывает мужа, а муж, дурак, ничего не замечает. Более того, потчует вином и жареной рыбой любовника своей жены. Потешно смотреть на все это. Вдобавок у Милона кривые ноги и рожа такая, что одна она способна забавлять весь театр с утра и до вечера.
Эпикед принес вина в большом этрусском кувшине, на глиняных тарелках подал холодной рыбы, креветок, мяса заячьего и прекрасных олив. И хлеба пшеничного, тонкого нашлось вдоволь.
Буфтомий преломил хлеб первым, обмакнул в вино солидный кус и поднес к губам, шепча что-то невнятное. Милон приложил палец к губам: дескать, давайте помолчим.
Сулла обожает всякого рода гадателей. Недаром говорят, что хлебом его не корми, но подай какого-нибудь гадателя, особенно восточного.
Буфтомий молча разжевал хлеб и сделал знак приступить к трапезе.
– Он потом все объяснит, – сказал архимим и налил себе вина.
– Послушайте, – сказал Сулла, – я сегодня, можно сказать, снова народился на этот свет. Давайте так, как пили некогда этрусские князья.
Мимы этого не знали. Да и Буфтомий недоуменно пожал плечами.
– Это очень просто, – сказал Сулла. – Подай-ка мне, Эпикед, вон тот сосуд.
Слуга подал объемистый кувшин с широким горлом.
– И ты сядешь с нами, – сказал Сулла слуге тоном, не допускавшим никаких возражений. – Я люблю, когда всё на столе и все за столом.
Слуга отлично знал повадки своего господина и живо занял место против Суллы. Эпикеду, наверное, не меньше пятидесяти. Он был рабом, и Сулла отпустил его на волю. Господин привязан к слуге. Да и слуга любил Суллу. Это был человек степенный, знающий толк в хозяйстве, начитавшийся всякой всячины, знающий даже греческий. Невысокий, коренастый, с бычьей шеей. Лучшее из его качеств – молчание. Он умел держать язык за зубами. Вырвать у него лишнее слово – напрасный труд, занятие совершенно безнадежное. С ним Сулла чувствовал себя легко. Он знал, что Эпикед не выдаст, что Эпикед не проронит лишнего, то, что вошло ему в ухо, считай – в могиле!
Сулла поднял кувшин выше головы и произнес по-гречески:
– Я подымаю вино, которое едва ли уступит фалерну. Ручаюсь! Но ужин, как сами изволите видеть, очень скуден. Если это нынче простится нам с Эпикедом, то мы намереваемся восполнить недостаток наш несравненным достоинством вина. Я пью это вино во имя богов наших, во имя великой Беллоны, во имя дружбы и братства нашего!
Произнеся эти слова с акцентом, но на вполне сносном греческом языке, Сулла приложился к кувшину и медленно стал тянуть чистейший виноградный сок, привезенный с южных склонов Везувия. Он пил ровно, в нем чувствовался настоящий кутила – дух его, повадки его! Выпил, повеселел и подал кувшин архимиму.
Когда очередь дошла до гадателя, тот принял кувшин и задумался.
– Я не очень силен в греческом… – сказал он писклявым голосом, то есть настолько писклявым, что Сулла поразился. Казалось, вместо Буфтомия говорит какой-то мальчик, спрятавшийся за его спиной. Гадатель заключил: – Поэтому я не буду следовать ученой моде.
– Почему – ученой? – поинтересовался Сулла, пробуя креветку.
– А потому, что этот язык любят ученые. Но я полагаю, что мысли свои, если они налицо, можно выразить на любом языке.
– Ну что ж, – согласился Сулла, – довод основательный.
Архимим высказал в довольно сильных выражениях свою любовь к греческому. Он с гордостью сообщил, что половина крови в нем афинская и что греческие трагедии совершенно пленяют его.
Сулла сказал:
– Мне кажется, что Буфтомий – наш дорогой гость – хочет что-то поведать нам…
– Это верно! – Буфтомий покосился на кувшин. – Когда нынче утром я вышел из дому, буквально в двух шагах от порога ко мне в ноги бросился воробей. Обыкновенный воробей, каких множество на свете. Мне ничего не стоило поймать его. Вернее, его и не надо было ловить. Казалось, птица искала убежища возле меня. Я не сразу сообразил, в чем дело. Однако вскоре увидел сокола. Я различил – притом довольно ясно – его желтые глаза, его кровавый клюв. Сокол пролетел надо мной и взмыл кверху. И где-то высоко над моей головой он застыл. Да, застыл. А потом сложил крылья и рухнул…
– Как рухнул? – воскликнул Сулла.
– Очень просто, – ответил гадатель. – Словно камень.
– Рухнул, ничем и никем не подбитый?
– Именно.
– Ты его видел после?
– Да. Я поднял бездыханного сокола и долго разглядывал его. А воробей вспорхнул и, весело чирикая, скрылся.
Сулла чрезвычайно заинтересовался утренним происшествием. Перестал есть, скрестил на груди руки и не спускал глаз с Буфтомия. А тот продолжал, не пригубив вина:
– Я не знал, что буду вечером с тобою. Правда, не знал? – обратился он к мимам, и те согласно закивали. – Но я сказал им: если нынче мне придется быть у кого-либо, то тот, у кого я буду гостем, одержит верх над Соколом, который у власти, Сокол – это символ власти в нумидийской мантике. А Воробей – тот, которого преследует вседержитель власти. Но Сокол, как видите, ничего не смог поделать. Воробей жив. А Сокол погиб! Разве необходим какой-либо более красноречивый, более ясный знак? Разве не все сказано через меня и через событие, которое разыгралось утром? – Буфтомий продолжал свои пояснения, твердо держа в руках чашу с вином. – Итак, мне совершенно ясен теперь весь смысл: тебя преследовали, уважаемый Сулла. Ты искал убежища среди своего войска. Ты нашел его. Сокол – это же ясно кто! – промахнулся. Но Сокол все еще в небе. Он парит. Он зорко наблюдает за тобой, Сокол алчет твоей крови.
Сулла весь напрягся. Он ловил ухом каждое слово, каждое дыхание Буфтомия.
– Дальше… Дальше… – шепотом попросил Сулла.
Буфтомий ухмыльнулся:
– Что дальше? Разве не понятно что?
– А что? – Сулла от нетерпения глотал слюну.
Гадатель обратился к актерам:
– Скажите этому славному человеку, что дела его блестящи.
И он наконец допил вино.
Полихарм наполнил сосуд под строгим надзором Эпикеда.
– Я все понял, – сказал архимим. – Я хочу поднять вино в честь того, кто не только избегнет когтей соколиных, но и приведет этого разбойника к достойному концу!
Милон сказал:
– Неужели, Сулла, тебе нужны еще какие-либо свидетельства? Разве не ясно, что ждет тебя в ближайшем будущем? Как сказал Буфтомий, так и будет, ибо он видит далеко, очень далеко! Но ежели что будет складываться не так, то боги повернут ход событий, чтобы было именно так, как предсказал Буфтомий… Я тоже пью за то, чтобы Сокол нашел свой конец поскорее, чтобы все случилось согласно предсказанию нашего Буфтомия.
Мим приложился к чаше. Он пил судорожно. Было заметно, как крепкое вино льется в актерскую глотку. Было заметно, что актер сильно напрягается, но тем не менее полон решимости испить до дна.
Сулла и обрадован и озадачен. Мантика – его слабость, точнее, одна из его слабостей. Он верил в нее. Да можно ли не верить, если не раз и не два сбывались предсказания гадателей, если тайные приметы будущего бывали поразительно точны. Судьба сопутствует человеку. Счастье даровано человеку богами. Сулла не только убежден в этом, но не допускает иного толкования судьбы, счастья, везения. Человек рождается, а все события его жизни уже предопределены. Они написаны у него на роду. Пусть болтают новоявленные греческие мудрецы что угодно о природе вещей – все равно Сулла тверд в своем мнении. Ибо сам не раз испытал значение судьбы и дарованного свыше счастья. Поэтому следует скрупулезно, со всех точек зрения рассматривать любые тайные приметы, сопоставлять их с действительностью. Особенно следует верить в предсказания восточных мудрецов, например вавилонских и египетских, о коих немало сказано в старинных свитках…
– Спасибо тебе, – проговорил Сулла, обращаясь к Буфтомию. – Твоих слов я не забуду. И щедро вознагражу тебя, если только этот самый Сокол найдет свой близкий конец… Я щедро вознагражу! Я умею быть щедрым, Буфтомий.
Хотя Сулла и захмелел – это было ясно, – хотя и отвисла у него нижняя губа, придавая лицу выражение доброго благодушия, тем не менее говорил сущую правду: он умел благодарить друзей, особенно же в минуты возлияний. В эти минуты бывал он воистину щедр и даже добродушен.
Не миновала затрапезная чаша и Эпикеда. Господин приказал ему пить наравне со всеми.
– Мы будем пировать до рассвета, – сказал Сулла. – Нам хватит двух часов, чтобы прийти в себя. Силы в нас много, и мы еще померяемся ею с вонючим римским Соколом. Мы покажем миру, что мы вовсе не воробьи!
– Прекрасные слова! – провозгласил архимим. – И очень жаль, что нет среди нас девушек… А? Таких молоденьких, таких не слишком гордых…
Сулла расхохотался. Хорошее настроение приходило к нему.
– Друзья мои, – сказал он, хитро щуря глаза, – есть у меня одно святое правило: шлюх в походную палатку не водить. Моя палатка, мой лагерь – священнее храмов. Нет ничего прекраснее мужской компании и вина. Но… – Сулла понизил голос. – За пределами лагеря нет ничего милее женщин, знающих свое ремесло.
Актеры с ним вполне согласились, а гадатель что-то промычал, но никто не обратил внимания на его мычание, даже Эпикед. Он аккуратно налил вина в чашу и подал ее Сулле.
– Когда люди Сульпиция, – сказал весело Сулла, – подступили ко мне с обнаженными мечами, когда, казалось, не было иного выхода, кроме как подставить голову под мечи, чтобы разом кончить с мучениями, я увидел на небе некое облачко, напоминавшее подкову. Такую серебряную с позолотой подкову. Оно было и легкое, и прекрасное, и ласкающее взор. Оно плыло высоко-высоко в римском небе. У меня мелькнула мысль, что это знамение богов, что мечи не так уж страшны, хотя они в двух шагах от меня. Я сказал себе: да, это знак, и мне надлежит немедленно покинуть Рим, чтобы скакать на коне в Нолу. Я понимал, что подкова на небе ясно указывает на это. Только я подумал, как облачко растаяло. И сразу же явился глашатай с приказанием от Мария. Марий почел, видите ли, за благо не лишать меня жизни. Старикашка смекнул, что от него отвернулась бы вся римская знать…, Как только головорезы Сульпиция – попадись они мне! – ушли с рычанием львов, я сел на коня и помчался сюда.
Сулла раскраснелся. Вспотел. Волосы растрепались. А он все тянулся к вину. Он мало ел. Он пил и говорил. Что же до актеров и гадателя – те уплетали за обе щеки. Эпикед едва успевал подкладывать им еды.
Сулла схватил чащу обеими руками, встал, запрокинул голову:
– Глядите сюда! – крикнул он.
И все увидели высоко поднятую чашу с вином. Оно чуточку выплеснулось из нее.
– Видите чашу? – вопросил он.
– Да, видим, – ответил архимим за всех.
– Все согласны с тем, что она полна до краев?
– Все!
– Может, кто-нибудь сомневается?
– Нет!
Сулла сказал тихо, но очень ясно; тихо, но словно заученную молитву, обращенную к его величеству Юпитеру и ко всем великим богам:
– Вот так, как выпью я этот прекрасный сосуд, вот так, как не оставлю в нем ни единой капли чудесного вина, так испью я до дна вражеской крови!
Сказал и выпил. Хотя и казалось, что пить более невозможно, что чрево его не вместит более ни капли. Но Сулла не только говорил, но и утверждал слова свои делом своим…
3
Утром Сулла обошел лагерь. Все оказалось в должном порядке. Вышколенные римские центурионы знают свое дело. Они требовательны к подчиненным, требовательны и к себе. Войско встречало его как великого полководца, доверие к которому безгранично. Сухощавый, крепкий телом Сулла шагал мимо палаток с достоинством, не чувствуя ни малейшей усталости после ночного бдения. В сопровождении военных трибунов и ликторов Сулла двигался от палатки к палатке, пока не обошел весь лагерь. Особое внимание он обращал на состояние манипулов. Ибо что такое легион, как не соединение многих манипулов? От боевой готовности каждого манипула зависит победа или поражение целого легиона. Но еще важнее манипула – воин, отдельно взятый. Если каждый воин предан своему делу и своему полководцу, значит, можно ожидать победы над превосходящими силами. Такова, если употребить греческое выражение, аксиома военного искусства.
Обходя лагерь и с удовольствием принимая восторги воинов и их начальников, Сулла вдруг подумал о веках, которые уже позади, которые прошли и не вернутся более никогда, не вернутся вопреки пифагорейским утверждениям. Что ушло – то пропало. Так и только этому учит жизнь. Века, которые прошли, дали Риму первоклассного солдата. Этот солдат, в крови которого дисциплина, повиновение старшему по званию и самоотверженность, завоевал полмира. Он еще завоюет кое-что, и будь проклят Сулла, если это «кое-что» не есть вторая половина мира! От Геркулесовых ворот до Персидского залива пронес этот солдат серебряные знамена римских легионов. Но разве это предел? Разве не маячат вдали туманные Британские острова? Разве достигнуты северные пределы Европы? Нет, много еще бранных трудов предстоит римскому солдату…
Вернувшись к своей палатке, Сулла поблагодарил Фронтана и других начальников за хорошее состояние войска. Едва он закончил свою мысль, как ему сообщили, что прибыли военные трибуны из Рима и просят у него аудиенции.
Сулла почесал затылок:
– Стоит ли с ними разговаривать?
Фронтан скривил рот: он догадывался, чего им надо, этим трибунам. Квестор Руф не видел ничего зазорного в том, чтобы поболтать немного с ними: от этого никого не убудет, не правда ли?
– Да, – согласился Сулла, – не убудет. Зови же их, – обратился он к Дециму.
Децим бросился исполнять приказание. Сулла распорядился позвать еще нескольких центурионов да привести на всякий случай в боевую готовность второй манипул, расположенный недалеко от претории. Центурион, с согласия Суллы, отдал приказ протрубить тревогу – лучше, если и другие манипулы будут в состоянии готовности.
Военачальники вошли в палатку и заняли свои места.
– Я боюсь за их жизнь, если они сболтнут лишнее, – словно бы невзначай бросил Сулла.
– Я могу гарантировать, – сказал наивный Фронтан.
Сулла усмехнулся:
– Ты-то гарантируешь, Фронтан, но как остальные? Мы же не можем ручаться… Впрочем, все зависит от того, что привезли с собою эти бравые трибуны.
Фронтан смекнул, в чем дело. Как говорят остийцы, наконец-то дошло до его мозгов. Он приказал придвинуть к палатке не только второй манипул, но и еще два других: пятый и шестой, особенно шестой, целиком состоящий из луканцев, весьма злых по нраву.
Военными трибунами оказались некие Харин Лабиен и Гней Регул. Сулла не ведал о них ничего путного и никогда о доблести их не слыхал: обыкновенные марианцы-выскочки! И вовсе не знатного рода, просто рядовые квириты. Сказать по правде, трибуны были бравые: широкоплечие, с четырехугольными чертами лица этрусков, носатые, лет под сорок. Пурпурные ленты тщательно пришиты к тогам, и башмаки на них – новенькие. Однако повадки что ни на есть ординарные: римское столичное офицерье, нахватавшееся приличия у подолов матрон, но не ставшее оттого подлинными патрициями. Одним словом, дерьмо!
Сулла смотрел на них, словно сквозь стекло, словно они были бесплотные, и чувств никаких не выказывал. Просто воспринимал их, как мокриц, заползших в эту славную палатку в Ноле. Даже не пригласил присесть. А сам развалился в жестком кресле, нарочито вытянул ноги.
– Долго мы будем молчать? – сказал Фронтан.
Сулла улыбнулся:
– Это надо спросить у них, – и кивнул в сторону трибунов, изображавших две статуи. Казалось, они не обращали внимания на унижение, которому подверглись столь явственным образом. Они сохраняли достоинство, присущее римским высшим магистратам: помесь чванливости и врожденной гордости.
– Мы готовы, – сказал Лабиен и присел на свободную скамью. Его примеру последовал Регул. Оба трибуна были серьезны, даже слишком. Чувствовалось, что прибыли они со слишком важной миссией. И важной и ответственной. Поэтому не смеют они опускаться до мелочной обиды, до личной неприязни. Пусть этим, если угодно, занимаются мятежники из лагеря в Ноле. Они же уполномочены самим Марием и сенатом. Вот кто они такие!
– Кто же из вас будет говорить? – спросил равнодушно Сулла.
– Я, – ответил Лабиен.
– Так мы тебя слушаем.
– Мы уполномочены великим Марием и римским сенатом…
Сулла прервал его:
– Кем? Кем?!
– Марием и римским сенатом, – повторил Лабиен очень сдержанно.
– Позвольте! – Сулла обвел взглядом своих военачальников. – А кто такой Марий?
– Марий? – Лабиен сделал паузу. – Гай Марий, не раз и не два раза избиравшийся консулом.
– А, – сказал Сулла безразличным тоном, – значит, тот самый Марий. А то развелось в последнее время всяких мариев, сульпициев и прочего сброда. Ну что ж, Марий так Марий – продолжай.
– Тот самый Марий, по приказу которого совсем недавно была сохранена тебе жизнь.
Сулла ни единым движением не изменил своего равнодушного вида, хотя все клокотало в нем и готово было разразиться жесточайшим вулканическим извержением.
– Мои начальники, – сказал Сулла, – осведомлены об этом из первых рук, и они не любят дважды выслушивать одно и то же.
В палатке было тихо и угрюмо. Все предельно напряглось. Даже сама тишина, которая бывает такой только перед бедствием.
Лабиен продолжал:
– Марий и римский сенат…
Сулла снова перебил:
– Кто? Кто?
– Марий и римский сенат.
– А не вернее было бы наоборот?
– Как это – наоборот?
– А очень просто. – Сулла иронически скривил рот. – Не проще ли так: сенат, ну и Марий, скажем? В том случае, разумеется, если Марий не замыслил стать диктатором и похоронить республику.
– Луций Корнелий Сулла, – официально обратился Лабиен, – я излагаю то, что мне поручено изложить.
Сулла подумал:
«Этот напыщенный индюк предложит мир от имени сената и Мария. Он сейчас начнет разглагольствовать, выкладывая то, чем его начинили в Капитолии…»
Лабиен сказал:
– Луций Корнелий Сулла, мне велено передать следующее: войско – все войско! – расположенное в лагере близ города Нолы, и все войско, могущее влиться сюда в качестве непредвиденного пополнения, должно быть передано под начало Гая Мария, главнокомандующего. Эту передачу можно будет осуществить, как только явится сюда особо на то уполномоченный военный трибун. Нам поручено заключить с тобою соответствующее соглашение и скрепить его подписями. Я кончил.
Сулла не верил своим ушам. Нет, что предлагают ему? Капитуляцию? Унизительную капитуляцию? Разве он проиграл битву? Разве он повержен во прах, что с ним можно разговаривать подобным языком? Может, сразить одним ударом меча обоих нахалов, посмевших повторить вслух это неслыханное предложение?
Но Сулла не был бы Суллой, если бы в душе его не соседствовали лев и лиса. Об этом соседстве говорили все знавшие его близко. Лев страшен, но лиса еще страшнее. Сулла превратился бы в обыкновенного, посредственного коллегу этих двух неразумных трибунов, если бы немедленно дал волю своему гневу. Нет, он и бровью не повел: сидел так, как сидел. Даже пальцем не шевельнул. Ему хотелось посмотреть, как поведут себя эти трибуны в ответ на его слова. Нет, непременно следует показать своим друзьям, с кем они имеют дело в лице этих трибунов. Он приступит сейчас к небольшому допросу, и горе римским молодцам, если они не сумеют оценить свое положение, если слепо привержены старикашке Марию и сенату, который у старикашки под тогой.
Сулла побарабанил пальцами по столику. И даже зевнул довольно откровенно: уж очень мелкотравчато происходящее сейчас в этой палатке. Все должны видеть, как он презирает Мария и силу, стоящую за ним. От этого зависит многое, может быть, сама жизнь Суллы.
Соратники Суллы готовы были выгнать взашей этих двух нахалов, посмевших повторить глупость, которую им внушили в Риме. Но что бы ни приказывали тебе, чтобы ни внушали – у тебя должна быть собственная голова на плечах: возможно ли с таким неслыханно унизительным предложением являться к Сулле, самому Сулле?! Соратники ждали только знака, но Сулла не торопился со знаками.
Сулла спросил:
– Знаете ли вы точно, кого представляете в настоящее время?
– Знаем, – сказали трибуны.
– Ложь!
Гней Регул сказал:
– Мы прибыли не для того, чтобы лгать. Римские посланцы не лгут.
– А я говорю, ложь! – возвысил голос Сулла. – В противном случае вы должны доказать, что не лжете… Это очень просто сделать. Ответьте на мой вопрос: кого вы представляете?
Это пахло настоящим полицейским допросом, недостойным римских трибунов. Не для того пришита к тоге пурпурная лента, чтобы подвергаться оскорбительному допросу Суллы. Не хватает еще полицейского протокола, какие составляют, когда ловят воришек. Трибуны торжественно молчали, они не собирались отвечать на вопрос Суллы.
– Ладно, – сказал Сулла раздраженно, но все еще кое-как сдерживаясь, – я вам объясню, кого вы представляете по своей воле, и тогда решайте, кто стоит за вами. Но прежде я хочу предложить вам нечто и, в случае вашего согласия, готов тут же забыть обо всем.
– Мы слушаем, – сказал Лабиен, меняясь в лице.
Сулла продолжал:
– Вот что: переходите ко мне на службу. Я обещаю вам жалованье не меньшее, чем ваше нынешнее. Ежели вам не нравится служба у меня – можете выбирать любую виллу в Кампанье, и она будет вашей.
Ответ последовал немедленно:
– Нет!
– Нет!
Сулле не хотелось оставлять у этих трибунов ни малейшей надежды: дело Мария проиграно, скоро вся знать выступит против него. К тому же Марий стар, одной ногой он уже в могиле. На что же рассчитывают эти трибуны? На чудо?
Но трибуны молчали. Словно их это вовсе не касалось.
– Народ не разрешит, – воскликнул Сулла, – чтобы на шее его сидел старикашка и единолично вершил дела. Нет, никогда римляне не примирятся с диктатурой, никогда не примут они рабства. Веками жила и здравствовала республика. Неужели же римляне смирятся с единоличной властью? Ведь это противно не только обычаям, но всем представлениям римлян о государственности, о жизни общественной. Никогда народ не склонит головы. Поэтому то дело, которому служите вы, Лабиен и Регул, обречено на неудачу, на поражение. Это дело будет проклято. Народ отыщет достойный меч, чтобы уничтожить диктатуру Мария и его прихвостней.
– Это очень странное выражение, – сказал Регул.
– Прихвостни?
– Да.
Сулла махнул рукою:
– Его придумали самниты, и неплохо придумали. Оно относится к таким людям, как вы. Причем прихвостень столь же опасен, как и сам диктатор. Без них ни один единодержец не обходится.
Регул спросил:
– Не тебя ли изберет народ своим мечом?
Он спрашивал вполне серьезно, без тени насмешки.
Сулла ответил без обиняков:
– Если угодно, то – да! Именно меня!
– Я так и думал, – сказал Регул.
Сулла встал:
– Ваш окончательный ответ?
– Мы уже сказали…
– А все-таки?
Сулла смерил взглядом с головы до ног одного и другого трибуна. «Было бы очень хорошо, если бы эти ублюдки избавили нас от кровопролития, но, видимо, это не суждено. Будь что будет!» И он обратился к Дециму:
– Скажи мне, Децим: если человек дурак – виноват он в этом или нет?
– Никак нет! – ответил солдафон Децим.
– Ежели ему все толком объясняют, а дурак не желает взять в толк, что к нему обращаются с добрыми намерениями?
– Тогда он дважды дурак!
– Что же делать с таким? Ведь дважды дурак неисправим!
– Совершенно верно, неисправим!
Сулла сверкнул глазами, решительно подошел к выходу, откинул полог и крикнул солдатам:
– Солдаты, я пытался вправить им мозги! Мы сделали все, что могли! Могу сказать лишь одно: они свое прожили!
Это был приговор.
Солдаты подняли руки, и в каждой руке лежал камень. Увесистый булыжник в каждой руке. Сулла, не глядя на трибунов, указал им на выход.
Лабиен и Регул побелели лицом, и губы их стали восковые. Под холодными, злобными взглядами военачальников они пожали друг другу руки и смело двинулись к выходу.
Они сделали шаг. Еще шаг.
Они уже были там, снаружи, на претории.
Им дали прошагать еще небольшое расстояние. И тогда в них полетели камни. Децим опустил полог, чтобы камни случайно не влетели в палатку.
Камни ударялись о тела короткими глухими ударами. Но не было слышно стона. Не было слышно криков о пощаде. Только раздавалась команда центуриона:
– Еще камень! Еще раз камень! В голову целься! Добивай, ребята!
Сулла подошел к столику, налил вина и подал знак своим друзьям, чтобы выпили и они.
– Что-то очень долго, – сказал Фронтан.
Но тут раздался не то стон, не то вздох облегчения. И все смолкло.
Фронтан отпил вино и сказал:
– Все!
Сулла улыбнулся добродушной улыбкой:
– Я же предложил им прекрасный выход, а они…
– Да, – сказали военачальники вполне согласно.








