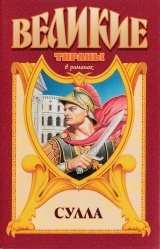
Текст книги "Сулла (илл.)"
Автор книги: Георгий Гулиа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
7
– О великий!
Эпикед стоит в дверях. Он просит разрешения войти в таблинум. Как всегда, слуга подтянут, строг, бережет улыбку.
– Входи, входи, Эпикед.
Слуга шагает по коврам. Неслышно. Как кошка. Как тигр азиатский.
– Слушаю. Эпикед говорит:
– Все судачат о твоей женитьбе, о великий.
– Хают меня?
Это остийское выражение, которое больше приличествует морякам, чем римскому патрицию, режет слух у тонко воспитанного Эпикеда.
– Да, хают!
– Кто?
– Твои недруги. Говорят, что это брак по расчету.
– Разве в Цецилию нельзя влюбиться? – Сулла поднимает кверху левую бровь.
Эпикед согласен с господином: вполне можно влюбиться!
– Так чего же им надо? При чем здесь расчет?
– Они намекают, о великий, на ее отца. Великого понтифика.
Сулла откидывается на спинку кресла:
– Разве для великого понтифика не лестно иметь такого зятя? Говорили: у Цецилии не будет детей. А она уже беременна.
Эпикед непроницаем. У него только новости. И он старается не комментировать их. Его дело сообщать. А господин пусть сам разбирается.
– Это все, Эпикед?
– Нет.
– Что же еще?
– О великий! Я хочу обратить твое внимание на некоего центуриона. Бывшего гладиатора. Он недавно, благодаря твоей милости, поселился в особняке недалеко от цирка Максима.
– Зачем он мне?
Сулла пытается угадать хитроумный замысел слуги. Какой-то центурион… Благодаря его милости… Особняк… Ну и что?
Слуга молчит. Разве не все ясно? Неужели непременно ткнуть пальцем? Намека мало, значит?
– О великий! Он предан тебе.
– И что же?
– Безгранично.
– Та-ак.
– О великий! Всем обязан тебе. Он очень сильный. Беззаветно преданный. Когда он слышит твое имя, – он перестает мыслить. Он только ждет приказа.
– А-а-а!
– О великий! Может, я косноязычный?
– Нет, Эпикед.
Сулла погрыз ноготь.
– Где этот центурион? Как его звать?
– Крисп, о великий! Он окажется возле твоего величия, когда ты пожелаешь. В любую минуту… Мне кажется, что свет не сошелся клином на Дециме…
Кажется, Сулла кое-что улавливает…
– Верно, не сошелся.
– А то ведь человек может и воспарить…
– Как это воспарить?
– Голову потерять.
– Может, Эпикед.
– И зазнаться может. Нос задрать. Я, мол, я! – И слуга передразнил некоего зазнайку. Без излишнего гримасничания и жестикуляции Прямо-таки словно мим.
– Я и сам подумал об этом…
– О великий! Если он от твоего имени занимает дворец и женится на вдове-красавице, то, значит, Децим способен и на нечто большее. Очень страшное.
– Какой он занял дворец? – тревожно спросил Сулла.
– Некоей Коринны, вдовы Брута Севера.
– Хороший дворец?
– Шикарный. Один из лучших на Палатине.
Сулла почесал переносицу. Нахмурился:
– Самовольно, значит?
– Выходит так, о великий… Я начинаю бояться его…
– Ладно, Эпикед. Приведи ко мне этого Криспа. Только не сегодня. Скажем, завтра утром. Или послезавтра.
– О великий, слушаюсь.
– Как себя чувствует Цецилия?
– Служанки говорили мне, что лучше. Значительно лучше Они сказывали, что не иначе как будет мальчик.
Сулла заулыбался. Брови подались в стороны. Уголки губ дрогнули.
– Они уверены?
– Эти хитрые бестии, о великий, все знают. И без мантики. У них свои правила. Свои наблюдения.
– А все-таки откуда они берут?
Слуга пояснил:
– Живот, говорят, острый. Словно бы изнутри пика торчит. И частые позывы к рвоте. Не унимаются они, эти позывы.
– Из всех женщин мне нравится более всего Цецилия… – Сулла бросил взгляд на статуэтку из золота, изображавшую Цецилию. Правда, ваятель скостил по меньшей мере лет десять, но это неважно. Цецилия все равно красива, вернее, привлекательна.
Эпикед положил на стол две дощечки с надписями.
– Что это?
– Два имени, о великий. Этот, – слуга поднял первую пластинку, – мой родной брат. Несчастный человек. Обиженный марианцами. И все из-за меня… А второй… – Эпикед ткнул пальцем другую дощечку, – тоже мой брат. Сводный брат. Он проживает в Остии. Ютится в какой-то норе…
– А ты сам? – спросил господин. – Ты как-то говорил мне, что собираешься жениться… Почему ты не женишься?.. Тебе тоже нужен дом… Ты думаешь привести жену?
– Передумал, – сказал Эпикед, краснея.
– Гм… С чего это ты?
Сулла вернул дощечки, начертив на них свое имя.
– Передай Гибриду и скажи, чтобы поживее действовал. Дома выберешь сам. Просмотри лично списки. Ведь этот Гибрид плут неимоверный. Он все для себя и для Красса.
Слуга стоял опустив голову. Затем порывисто бросился на колени и поцеловал руку своему господину. Через мгновение он был уже за дверью.
Проконсул полюбовался пламенем свечи, которая горела на столе. И долго не мог оторвать глаз.
8
Плутарх, основываясь на достоверных источниках, писал:
«Положив начало резне, Сулла не прекращал ее и наполнил город убийствами без счета и конца. Многие пали вследствие личной вражды без всякого столкновения с самим Суллой: угождая своим приверженцам, он выдавал им людей на расправу. Наконец, молодой Гай Метелл осмелился спросить его в сенате, где предел такому злу и далеко ли он думает еще зайти, прежде чем можно будет ждать успокоения. «Мы не просим тебя, – прибавил он, – освободить от кары тех, кого ты решил казнить, мы просим лишь избавить от неизвестности тех, кого ты решил помиловать». Сулла ответил, что он и сам еще не знает, кого ему предстоит пощадить. «Так объяви же, – перебил его Метелл, – кого ты хочешь наказать». Сулла сказал на это, что он так и сделает… «Немедленно после этого Сулла составил проскрипционный список в восемьдесят человек…» «А через день Сулла объявил новый список в двести человек, затем третий – не меньший…»
«Не говоря уже об убийствах, прочие мероприятия Суллы тоже заставляли общество страдать. Так он провозгласил себя диктатором…» «Через народное собрание было проведено постановление, которое не только избавляло Суллу от ответственности за все содеянное им прежде, но и на будущее время предоставляло ему право казнить смертью, конфисковать имущество, основывать колонии, строить и разрушать города, давать и отнимать престолы…»
Аппиан указывает:
«Чтобы сохранить видимость исконного государственного строя, Сулла допустил назначение консулов. Консулами стали Марк Туллий и Корнелий Долабелла. Сам Сулла, как обладающий царской властью, будучи диктатором, стоял выше консулов. Перед ним, как перед диктатором, носили двадцать четыре секиры… Многочисленные телохранители окружали Суллу…»
«В следующем году Сулла, хотя он и был диктатором, притворно желая сохранить вид демократической власти, принял во второй раз консульство вместе с Метеллом Благочестивым…»
9
В третьем часу утра Сулла выходил в атриум, где принимал посетителей или работал за столом в таблинуме. Потом его видели в сенате или на заседании народного собрания. После второго завтрака – снова атриум или таблинум. После первой стражи он сбрасывал с себя официальную тогу, рядился в холщовую тунику-безрукавку, снимал тесные башмаки и отдавался веселью в обществе закадычных друзей. Ночь принадлежала только ему. Желчь как бы отливала от всех членов, уступая место доброте и бездумным утехам. Немало способствовали этому вино и женщины. Он даже не сразу ответил бы, что выше: вино или женщины?
Злые языки шептали, что бурное ночное веселье являлось разрядкой от кровавых дневных дел. И что, в свою очередь, кровавые дела следовали за утренним похмельем, когда тяжелела голова, разливалась желчь и пухли веки от чрезмерных возлияний. Все сходились на одном: днем к нему – не подступись. Лучше вечером. Однако вечер и ночь отводились для триклинума, а не для деловых свиданий. Кто же мог к нему попасть вечером, если особо не зван?..
Вот и сегодня, приняв ванну, он направился в атриум. Эпикед сообщил, что Цецилия, которая сейчас у своих родных, более или менее здорова, рвота поутихла и она желает видеть его.
Сулла выслушал слугу внимательно и спросил:
– Где Катилина?
– Он ждет в саду.
– Зови его сюда.
О Цецилии ни слова.
Эпикед послал раба за Катилиной, которому был назначен прием на три часа утра. Сулла подошел к бассейну. Поглядел в чистую, как зеркало, воду. И увидел знакомого человека. Только лицо у этого было очень красное. Белые крапинки посерели. Сулла решил, что это кровь прилила к голове после горячей ванны. Поманил к себе Эпикеда и спросил: не очень ли багров цвет лица? Эпикед изучающе осмотрел своего господина. Он сказал:
– Может быть, тебе следует почаще пользоваться фригидарием. Холодная вода подчас полезнее горячей. Она сжимает поры. Не пропускает болезнь вовнутрь.
– А кто мне говорил про горячую? – раздраженно сказал Сулла. – Горячая, дескать, раскрывает поры и выгоняет болезнь наружу. Кто это мне говорил?
– Я, – признался Эпикед безо всякого страха.
– Так когда же ты врал: тогда или врешь сейчас?
– Нет, я и тогда говорил правду. Надо чередовать горячую и холодную ванны.
Сулла указал на зеркальную воду имплювия:
– Видишь, какой он багровый?
– Это искажает вода. На самом деле цвет твоего лица значительно мягче.
Сулла усмехнулся. Недоверчивой гримасой. Он хотел знать, что же все-таки лучше: горячая или холодная ванна?
– На этот вопрос не смог бы ответить даже Гиппократ.
– Почему? – Сулла не отрывал глаза от имплювия.
– Потому что чередование холодной и горячей воды – суть лечения водою.
– Ах, лечения?! – Сулла злорадно ухмыльнулся. – Поди-ка сюда, Эпикед.
И он показал слуге некий прыщ, скорее фурункул, выскочивший на шее, чуть повыше правой ключицы.
– Что это!
– Прыщ, – ответил слуга.
– Сам ты прыщ!
– Может, фурункул… – Слуга пытался получше разглядеть раскрасневшуюся припухлость.
– Ну? А поточнее?
– Это скажет врач.
– Так вот… – Сулла поворотился к слуге. – Только между нами. Слышишь?
Эпикеда не надо предупреждать. Это излишне. Сулла разве первый год делится секретами?
– Из этого прыща я достал маленького белого червя…
Эпикед выпучил глаза. Его смуглое лицо побледнело.
– Червя? – спросил он. – Из этой ранки?
– Да. Такого беленького. Какие бывают на падали.
Слуга не очень-то поверил: белый червь на живом теле?
– Может, на больном, Эпикед? Черви чувствуют болезнь…
Тот покачал головой, – дескать, не похоже. Он быстро вышел из атриума и вскоре вернулся с флаконом и белой тряпкой.
– Покажи мне этот прыщ, о великий!
Смочил тряпочку жидкостью из флакона и приложил к ранке. Промыл ее.
– Что это? – спросил Сулла.
– Очень крепкие лемносские духи. Я назвал бы их бальзамом.
– Да, пощипывает. Приложи еще раз. Приятно.
– Может, позвать врача? – сказал слуга.
– К свиньям! Не надо. Подумаешь – прыщ!
И он широким жестом пригласил Катилину, который показался у входа. Пригласил в укромное место. За колоннами. В портик.
Эпикед удалился.
– Садись, Каталина! – Сулла занял место в бесселе – двухместном кресле. Рядом пристроил молодого римлянина – кареглазого, в голубой тоге и высоких башмаках. Перед ними низенький столик. А на нем – засахаренные фрукты и вода из летнего снега. И вино. Однако Катилина отказался от угощения. А воду пригубил.
– Как дела? – спросил Сулла.
Луций Сервий Катилина, которому исполнилось двадцать пять лет, слыл ярым сулланцем. Ему боги и те нипочем! Его богом стал Сулла. Проконсул знал это. Полагал, что сей молодой патриций пойдет далеко, если только не свихнется где-нибудь на крутом повороте.
– Шипят, – сказал кратко Катилина. – О великий и мудрый! Они ненавидят нас. Вот и шипят!
Сулла уставился на него пристальным, тяжелым взглядом.
– О великий! Обидно слышать – и даже стыдно, – как поносят нас. Марианцы считают нас дикими, кровожадными зверями. А за что? За то, что им утерли нос? За то, что не позволили убить республику?
Сулла молчал, и взгляд его лежал на молодом человеке тяжким грузом.
Катилина горячился:
– Они было поджали хвост. Теперь не слышно громких разговоров, непрестанных проклятий. Шипят в кулак. Шипят друг другу на ухо. Это, говорят, безопасней. И в то же время, говорят, можно душу отвести. А дай им срок, дай им возможность – саданут нам нож промеж лопаток. И бровью не поведут! Я знаю этих хищников. Этих пантер. Они притаились. Их запугали проскрипционные списки. А попробуй ослабь вожжи! Попробуй дай им волю. Вот тут-то взгромоздятся на нас, словно орлы, и глаза нам выклюют. Нет, о великий, на твоем бы месте день и ночь составлял списки. Ибо врагам нашим несть числа. Они притаились. Клянусь богами! Сволочной народ – даже и говорить с ним нечего. Пусть беседуют с врагами вооруженные центурионы и палачи! Надо чтобы Тарпейская скала действовала и днем и ночью. Только в этом способе вижу я выход. Ибо они, враги наши, буде возьмут верх, – уничтожат нас в мгновение ока. И не пожалеют. Даже не задумаются. Таковы они – эти лисы и волки, пантеры и гиены!
Молодой человек разошелся. Разбушевался. Размахивал руками. Тряс головой. Топал ногами.
А Сулла слушал. Не перебивая. Взгляд его по-прежнему лежал на Катилине. Проконсул не поощрял. Но и не сдерживал. Не соглашался. Но и не возражал. Он впитывал в себя речь Катилины, подобно греческой губке.
– А что было вчера? – рассказывал Катилина. – Пришел ко мне брат. Мой родной брат. Его звали Квинт. Старше меня лет на десять. И первое, что он сделал, – это начал ругать. Да простишь меня, о великий и мудрый! – тебя. Да, да, тебя! И это при том, что отлично знал про мою к тебе безграничную любовь. Я предупредил его: «Квинт, не ругай моего дорогого вождя». А он не унимался. Не было худого слова, которого не поставил бы он рядом с твоим божественным именем. Я еще раз ему: «Квинт, прекрати богохульство». А он – свое…
Свинцовые глаза Суллы налились кровью. Он застыл, как лев перед прыжком. Ждал конца этой неприглядной истории.
Катилина продолжал свой рассказ:
– «Послушай, Квинт, говорю, если бы это болтал отъявленный марианец – я бы не стал даже слушать. Просто прибил бы негодяя – и дело с концом. Если бы вся эта гадость лилась из уст какого-нибудь тевтона или нумидийца – наших заклятых врагов, – это еще полбеды. Но когда богохульствует римлянин, да к тому же квирит, к тому же патриций?!»
– И ты так долго терпел? – спросил Сулла, плотно сжав зубы.
– Нет, – поспешил с ответом Катилина. – Разумеется, нет.
– Что же ты сделал?
– Я убил его, – сказал Катилина, не моргнув глазом. И это была сущая правда. Насчет убийства.
Сулла улыбнулся:
– Молодец!
– И я прошу, – продолжал Катилина, – внести имя брата в проскрипционный список.
– Задним числом? – спросил Сулла, глядя в упор на молодого человека.
– Да, – скромно ответил Катилина.
– Ну что ж, – сказал проконсул, – пожалуй, это разумно. Он был состоятелен, этот негодяй?
– Да, о великий и мудрый.
– Ты получишь половину, Катилина.
– Благодарю тебя, о великий!
– Но впредь… – Сулла поднял руку, – но впредь не советую тебе слишком испытывать свое терпение. Эдак можно и сердце надорвать: действуй поживее. Понял?
Катилина припал к его руке. И жарко ее целовал.
– Всегда, всю жизнь, – шептал он, – буду служить тебе верную службу. Буду ненавидеть врагов твоих, как своих, о великий и мудрый!
– Гибрид получит соответствующее указание, – промолвил Сулла. Он имел в виду вопрос об имуществе убитого Квинта, брата Катилины, того самого Катилины, который стоял много лет спустя во главе двух заговоров и, следуя по стопам Суллы, пытался захватить власть. (Не его вина, что это ему не удалось.)
Катилина помчался домой. Полетел, что называется, на крыльях радости. С него не только снималось клеймо братоубийцы, но значительно увеличивалось личное имущество, и он торопился сообщить об этом своей дорогой супруге…
Следующим был Крисп. Эпикед ввел его, и тот остановился в нескольких шагах от Суллы. Прочно. Непоколебимо. Его горячий взор устремился на любимого вождя и полководца. Впервые Крисп видел Суллу на столь близком расстоянии.
– О великий и мудрый! По твоему повелению явился твой недостойный слуга, центурион Крисп.
Солдатский рапорт всегда ублажал слух полководца. Сулла улыбнулся. Попытался определить его силу, стать, ум, поскольку это можно сделать на близком расстоянии и в несколько секунд.
– Ты, говорят, ходил вместе со мною в поход? – сказал Сулла.
– О великий, на рукавах моих следы твоих наград!
– Прекрасно! И ты был ранен?
– Да, о великий! Во Фракии. Чуть-чуть. Под Афинами. В мякоть левой ноги. Чуть пониже колена. И в Геллеспонте: в меня угодил митридатовский дротик.
– Жизнью своей доволен? – Сулла вытянул ноги. Хлебнул снеговой воды.
– О да! Великий и мудрый, живу я в особняке, прекрасном. Только твоя щедрость способна так награждать своего слугу.
– Женат?
– О великий и мудрый! Завтра моя свадьба, ежели не будет на то твоего неудовольствия.
– Не будет, – сказал Сулла. – Это только лишь начало. Ведь пойдут дети. И тебе пригодится, скажем, вилла в Кампанье.
Крисп засиял.
Сулла оставил кресло, подошел к имплювию. Поискал того, кто глядел на него со дна; да, краснота исчезла… И он обратился к Криспу:
– Что скажешь, если придется тебе оставить свою когорту, к которой привык?
– Во имя чего, о великий? – спросил центурион.
– Во имя службы здесь. – Сулла топнул ногой.
– О великий! Моя жизнь принадлежит только тебе!
Сулла снова обратил свое внимание на человека, глазевшего на него из воды. И сказал как бы между прочим:
– Однако жизнь здесь многотрудная. Это тебе не цветочки поливать в саду. И не детей нянчить. – И уже вовсе жестко: – Нам нужен обнаженный меч. Постоянно. Карающая рука нужна. И преданное сердце. Безотчетно преданное. Понял меня?
– О да! Великий и мудрый! Я готов на все ради тебя, ради одного твоего слова.
– Посмотрим… – проговорил Сулла и распорядился через Эпикеда выдать центуриону три тысячи сестерциев.
На радостях Крисп прогромыхал своими сапогами. Словно в лагере перед палаткой полководца. И направился к выходу.
– А этого певца, – сказал Сулла Эпикеду, – веди в таблинум.
Еще раз бросив взгляд на зеркальную поверхность имплювия, Сулла заторопился к своему столу. За которым и встретил известного столичного барда.
Это был небольшой человек по имени Вариний. Он одинаково свободно писал по-эллински и по-латински. Такой степенный, толстеющий, лет пятидесяти пяти. Лысоватый. С густыми бровями, похожими на двух нахохлившихся воробьев. Кажется, из вольноотпущенников по родительской линии. Но сам настоящий квирит. Можно сказать, кумир молодежи. Его любовная лирика сводила с ума женщин. Особенную популярность завоевала его поэма «Ганнибал под Римом». Она возбуждала высокие патриотические чувства. В свое время сенат присвоил ему почетный титул Великого Поэта Республики. Ни до, ни после подобного не бывало. Золотой венок триумфатора увенчал голову поэта.
Поэт увидел перед собой хмурого, небрежно побритого проконсула. Ни один мускул не дрогнул на лице Суллы. Никаких чувств не выразили его глаза, казалось пересаженные с другого человека. Может быть, с рыжего тевтона.
– Сулла! – воскликнул поэт, театрально разводя руки. – Я помню тебя совсем еще молодым. Смотрю на тебя и думаю: что же в тебе изменилось за эти годы?
Полководец молчал. Он тоже думал о том, что изменилось в самом Варинии?.. Небольшая полнота? Но, помнится, он и тогда, в молодости, был склонен к полноте. Лысина? Но, помнится, и в те годы поэт не обладал вихрастой шевелюрой. Этот Вариний однажды выручил Суллу из большого денежного затруднения. Он дал Сулле взаймы несколько тысяч тетрадрахм, не требуя ни синграфы – векселя, ни поручителя. Да, этот самый Вариний, который нынче чем-то недоволен. Что же, поглядим, с чем пришел Великий Поэт…
Поэт сказал:
– Мне кажется, что ты стал молчаливым.
Сулла вздохнул.
– Мне кажется, что ты слишком угрюм. Более, чем положено государственному деятелю.
Поэт потирал руки на восточный манер. Он был убежден, что приятные воспоминания давних лет растопят холодность Суллы. Но ничего подобного не случилось. Диктатор стоял во весь рост, изображая собственное каменное изваяние, над которым трудились ваятели. (Решено было поставить его скульптуру в сенате.)
– Как живешь, Вариний? – спросил наконец Сулла. Его голос доносился словно откуда-то снизу, из-под пола: настолько он был неестественным.
– Живу… – пробормотал поэт, подавленный холодным приемом.
– Присаживайся. Говори. Я слушаю.
Вариний понял, что перед ним совсем другой человек. Возможно, выросший из того самого молодого Суллы, но другой. Что же его так покорежило?
После столь сухого, неприветливого предложения: «Говори. Я слушаю» – у поэта пропала всякая охота говорить. Он подумал: не повернуться ли назад и не уйти ли? Однако переборол себя. Сел на скамью. И приступил.
Его беспокоило положение дел. (Сулла отвернулся от него.) Государственных дел. (Сулла уперся взглядом в самый пол.) Настроение людей внушает большое опасение. (Сулла вскинул голову, будто следил за полетом мух.) Очень большое. (Сулла кашлянул.)
– Откуда все это? – взволнованно говорил поэт. – Есть только один источник. Я это доподлинно установил. Греки говорят: найди источник, определи его, и ты познаешь истину.
– Болтуны, – буркнул Сулла.
– Кто? – Поэт привстал.
– Твои греки. А кто же еще?! Они хотели преподать мне свою философию еще в Афинах. Но получилось обратное. Там три дня и три ночи текла река. Кровавая река. Не советую особенно полагаться на греков и их философию.
Поэт был сбит с толку. Потерял нить своей мысли. Судорожными движениями потирал лоб. В то время как Сулла следил за ним внимательнейшим, подозрительным взглядом. Словно из-за угла.
– Слушаю, – поторопил диктатор голосом, еще более мрачным, чем вначале.
– Да… Вот я и говорю… – Поэт с трудом припоминал свой «источник», который чуть не поглотила эта самая «кровавая афинская река». – Да, источник один: страх.
– Что? – Сулла подбоченился и нагнулся над столом.
– Страх…
– Какой страх?
Поэт подумал:
– Обыкновенный. Животный.
Диктатор усмехнулся. Стал спиною. И сказал:
– Дальше?
– А твои списки… – поэт усмехнулся. Надо заметить – совсем некстати.
– Что мои списки? Какие?
– Проскрипционные.
– Они вовсе не мои! Их узаконил сенат. Надо кое-что знать, прежде чем раскрывать рот!
Сулла хватил кулаком по столу.
Бедный поэт чуть не проглотил язык. Заерзал на скамье. Кашляя нервным, спазматическим кашлем.
– Дальше?
Вариний вздрогнул. Из последних сил выговорил:
– Многие знатные люди – в страхе. Все ждут своего конца. Трусят. Дрожат, как зайцы. Не кажут носа из дома. Как улитки пугливые.
Сулла злорадно спросил:
– И все из-за этих списков?
– Да. Из-за крови. Из-за убийств беспричинных.
– Без причины даже таракан не дохнет. Запомни это, Вариний.
– Это верно…
– А если верно, то надо знать, чего хочешь, чьим ходатаем являешься. За врагов отечества хлопочешь? О марианцах печешься?
– Нет.
– Так за кого же, Вариний?
– За честных. Ни в чем не повинных…
– Можно подумать, что Рим обезлюдел.
– В некотором смысле да…
Сулла вышел из-за стола. Медленно приблизился к поэту.
– На твоем месте, – сказал он, – я бы обходился без «некоторого смысла». – И передразнил поэта: – Без «некоторого смысла». Не строй из себя дурака – я тебя вижу насквозь.
Поэт вдруг осмелел. Он переступил через грань, когда все уже безразлично, когда собственное достоинство начинает довлеть над всеми прочими ощущениями и чувствами.
– Я не дурак, Сулла. И видеть насквозь меня трудно. Ибо я не финикийское стекло. И даже не римское. Я – человек.
Он поднялся с места:
– Я хотел побеседовать по душам. Как со старинным другом. Наверное, я ошибся. Прощай, Сулла!
Диктатор не ответил. Не проводил до дверей. Не сказал «до свидания» или «прощай». Вызвал Децима. И сказал тому:
– Ты видишь этого человека?
– Который направляется к выходу?
– Да. Это неисправимый марианец. Половина имущества – твоя. Голову выставишь на форуме. – Перехватив удивленный взгляд центуриона, заметил: – Его голову, Децим! Его!
Центурион бросился выполнять приказание. Его шаги были слышны в таблинуме довольно долго. И замерли только тогда, когда Децим вышел во двор.
Сулла крайне возмущен. Дерзостью этого Вариния. Взял прекрасный граненый сосуд с вином и приложился к нему. А вода из летнего снега окончательно успокоила его. Походил по комнате широким шагом, сочиняя в голове письмо в провинцию Идумея, где следовало увеличить налоги. Ибо нужны деньги. Много денег…
Вошедшему Эпикеду сказал:
– Где-то по Риму, говорят, блуждает поэт Вакерра… Хороший поэт! Скажи, чтобы привели его ко мне.
– Я, кажется, знаю его: такой плюгавенький…
Сулла сердито посмотрел на слугу:
– Это не самое худшее качество, Эпикед. Одним словом, найди и доставь его ко мне!








