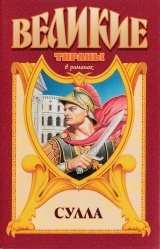
Текст книги "Сулла (илл.)"
Автор книги: Георгий Гулиа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
10
Римские граждане, казалось, придавлены. Словно прессом новой давильной машины, изобретенной в Испании для виноградарей. Сулла крутит ее ручку с великим умением. Не щадя ни сил, ни времени. Днем и ночью стучатся в дома центурионы, неся черную весть. Неприсутственный день в этом отношении ничем не отличается от обычного, иды – от календ, декады от месяца. Днем и ночью составляются проскрипционные списки. А сколько пропадает людей и без списков? Кто это учитывает?
Слезы полились рекой. А кровь? Кто учитывал ее? Может быть, Гибрид и его магистраты? Может, Гай Варрес и его люди? Фронтан или Руф? Кто?
Дома, подлежавшие конфискации, тщательно вносились в списки. Сады тоже. Вплоть до дерева, имеющего хоть какую-либо ценность. И жемчуга заносились в списки. И деньги аккуратно складывались в эрарии. И там их считали квесторы. А жизни? Кто им вел счет? И зачем это? Кому?
Люди спрашивали друг друга: где же боги? Разве и они убоялись проскрипций? Разве и они забились в свои углы и не кажут носа на люди? Что же с ними? Где справедливость? Почему боги не отличают старого от молодого, вдову от девушки, детей от пожилых? Где же все-таки боги? И что же происходит в этом Риме?
А сколько вен добровольно вскрыто? Из опасения, что явится центурион с черной вестью и скажет: «Великий и мудрый Сулла спрашивает тебя: «Не прожил ли ты свой век?» Это была сакраментальная формула. Это был приговор. Неотвратимый. И его приводили в исполнение немедленно. Если вопрошаемый проявлял малодушие и не находил дорогу в бальнеум, чтобы вскрыть себе вены, – ему помогал центурион. Точнее, помогал взмах его меча. Грозного, как молния.
Диктатура Суллы – так утверждали все – входила в силу, была в полном разгаре, точно пожар, раздуваемый свежим морским бризом. И тем не менее с его уст не сходило слово «демократия». И вскоре он принял (вторично) консульство вместе с Метеллом Благочестивым. Это было очень удобно: верховная власть плюс консульство. Это сохраняло видимость республиканской демократии. Однако Сулла нанес смертельный удар по народным трибунам, и этот институт фактически исчез. Это был удар по плебсу. Правда, в то же самое время Сулла нанес удар и по всадникам, ликвидировав их привилегии. Но популярам не приходилось радоваться этому: просто логика борьбы за власть вынудила Суллу убрать всадничество с поля политической битвы. Благодаря соучастию одних, оцепенению других и равнодушию третьих Сулла достиг высшей власти. Сенат трясся в страхе, оформлял задним числом все деяния Суллы, придавал им видимость законности.
Многие римляне, потеряв ощущение реальности и принимая все это за страшный ночной кошмар, обращались к помощи различных гадателей. Учуяв наживу, по городу сновали персидские, вавилонские, мавританские и прочие прорицатели, предрекавшие будущее. Никогда не ошибался тот, кто по светилам или по линиям рук предсказывал кровавую годину. Ибо в этом им старательно помогал не кто иной, как Сулла.
Особенно невыносимыми казались ночи. Вооруженные до зубов солдаты, держа над головами факелы из боярышника, маршировали по улицам. И согласно спискам убивали и грабили несчастных граждан. Никто не знал в точности, чья наступает очередь. Если опасность миновала нынче, это вовсе не означало, что миновала она вообще.
– Я боюсь покрова ночи, – признался Корд колбаснику.
Сестий молчал. Озирался вокруг: ему все мерещилось, что кто-то их подслушивает. Он похудел и осунулся, на щеках появился серый налет.
– За донос сейчас много платят, – шептал он басом своему соседу.
– Что?
– За донос, говорю, много платят.
И они забивались в темный угол лавочки и там обменивались короткими иносказательными фразами.
– Не доверяй Марцеллу, – советовал Корд.
– Он тоже? – удивлялся колбасник.
– Нет. Но может предать просто так. Сам того не подозревая.
– А Крисп? – И оба соседа зажимали себе рты.
Марцелл шептал в самое ухо башмачнику, обжигая горячим дыханием:
– Его теперь носят на носилках… А ведь простой центурион…
– Простой ли?
– Ты прав, Корд, наверное, не простой. Он, говорят, и по ночам разгуливает по городу.
– Зачем?
Колбасник удивленно вскинул брови:
– Тебе надо объяснять?
– Да.
– Потому что по ночам тоже убивают.
Корд задумался и тихо сказал:
– Он нам был вроде бы другом.
Сестий махнул рукой:
– Это быстро забывается. Ко мне приходит его слуга, берет колбасы и денег не платит.
– А ты веди счет.
– Я-то веду. Лишь бы и Крисп вел. Боюсь, что он стал к тому же и забывчивым.
– Тсс…
Кто-то подошел к лавке. Это оказался зеленщик Марцелл.
– Шепчетесь? – сказал он громко. – Это сейчас в большой моде.
Корд и Сестий смутились.
– Что ты! – сказал Сестий. – Мы тут пробовали одну колбасу.
– По глазам вижу, что врешь!
– Клянусь богами! – воскликнул степенный Корд.
– И я клянусь! – сказал Сестий.
Зеленщик захохотал.
– Перепугались? – сказал он. – Дружно отказываетесь? А я, знаете, ничего не боюсь. Чем хуже – тем лучше. Да, да! Говорят, рабы восстали в Этрурии. Где-то в ста милях отсюда. Это же совсем рядом! Допустим, восстание подавят. Но для того, чтобы подавлять, тоже надо силу иметь. А там, смотришь, пойдут на нас луканцы. Или бельги. Или какие-либо далекие парфяне нагрянут. Это предсказывал один перс-гадатель.
Корд и Сестий словно в рот воды набрали. А зеленщик продолжал как ни в чем не бывало. Знай шпарит и даже в ус не дует:
– Это очень хорошо, что восстали рабы. Они, говорят, очень злы и рубят головы всем встречным-поперечным. Это очень хорошо!
Корд и Сестий не проронили ни слова. Но это не смущает говорливого зеленщика.
– Они, говорят, спускаются с гор к морю. Если у них найдется голова, она поведет их вдоль берега моря и доберется до Яникула. Эти, говорят, не какие-нибудь Гракхи. Эти запросто снимают голову. Не моргнув глазом. Гракхи, по-моему, слишком высоко брали. А надо бы по-простецкому: раз, два – и ваших нет! Что скажете?
Башмачник и колбасник ничего не скажут. Они молчат. Но ведь даже слушать такие речи опасно. Лучше всего, как говорят в Остии, смыться.
Башмачник заявляет, что торопится починить чью-то обувь. А колбасник начинает доставать из мешка колбасы и ужасно кряхтит.
Зеленщик побрел восвояси.
Корд и Сестий вздохнули свободно. Нет, этот зеленщик из Остии определенно нечистоплотен на язык. Он вполне может унизиться до доноса. А впрочем, кто знает…
На всякий случай колбасник подает башмачнику явственный, недвусмысленный знак, приложив указательный палец к губам. Дескать, молчи, только молчи! Изо всей силы – молчи!
11
Сулла уселся на скамью и окинул взглядом цирк. День выдался прекрасный: солнечно, не очень жарко. В этот базарный день люди приоделись, заполнили все места, даже пристроились на лестницах – на широких каменных ступенях. Женщины, мужчины, подростки, дети… Говор, смех, покашливание, визг и даже писк.
Сулла поворачивается назад и говорит Гаю Варресу:
– Был бы жив поэт Вариний, увидел бы сам, как весел и счастлив римлянин.
И с любопытством осматривает ряды амфитеатра, выискивает знакомые лица. Но никого не находит.
– О великий! – обращается к нему Варрес. – Я полагаю, что поэт позеленел бы и лопнул от собственной глупости и невежества.
Сулла громко засмеялся, но вдруг оборвал смех: на него с близкого – довольно близкого – расстояния смотрела некая дебелая матрона. Узкое патрицианское лицо, ровный нос и глаза, похожие на глаза оленихи. Грудь – совершенное создание природы. Сулла залюбовался грудью, прикрытой легкой, бесстыжей тканью. Прозрачной, как стекло. Но самое удивительное не это: матрона глядела на него так вызывающе, что ему пришлось отвести глаза. В первый раз в жизни – первому отвести глаза…
Он поманил к себе маркитанта Оппия. Шепнул ему:
– Узнай, кто она. Вон та, дебелая, аппетитная…
И кивнул в сторону матроны. Женщина поняла все и улыбнулась Сулле откровенной улыбкой красивой и молодой блудницы. Оппий стал пробираться по рядам к выходу, где стояли его люди: надо же знать, как подойти к даме, надо сначала подослать людей – понятливых, подготовленных к обращению со столь деликатным товаром. А потом уж действовать самому…
Сулла старался не смотреть в ее сторону, но не мог: она откровенно улыбалась ему, щурила глаза, словом, оказывала столь лестное для мужчины внимание, какого не видывал полководец во всю свою жизнь. Если бы не недавняя смерть Цецилии, он бы не выдержал и побежал к этой красивой и статной женщине… Кто же она все-таки?
На этот вопрос очень скоро ответил центурион Крисп. Он наклонился и тихо сказал на ухо Сулле:
– О великий! Эту женщину, вдову, звать Матриния. Она дочь фламина Дентона.
– Опять дочь жреца? – буркнул Сулла.
– Что? – спросил Крисп.
– Ничего. Это я так. Иди!
Матриния повернулась к нему, пренебрегая стыдом и словно спрашивая: «Нравлюсь тебе? А имя мое тебе нравится?» Сулла начинал смущаться. Это просто удивительно!
Тубы возвестили начало гладиаторских игр. Народ разразился рукоплесканиями и вдруг притих: на арену медленно, настороженной походкой вышел лев. Он прищурился от обилия света и сделал несколько шагов влево, а потом вправо. Зверь как бы прикидывал в уме, сможет ли перескочить через железную островерхую изгородь, чтобы сожрать одного из зрителей. Поняв, что это не удастся, зверь побрел по арене – куда глаза глядят. И вдруг – замер. Застыл. Врос в землю… Еще больше прищурился. Спокойно описал мордой полукруг в воздухе; да, запахло человечиной. Точнее, кровью…
Зверь не ошибся: с противоположной стороны арены показался гладиатор. Так называемый бестиарий. Специальностью бестиариев была борьба с дикими зверями. В левой руке они обычно держали небольшой круглый щит, обшитый буйволовой кожей, а в правой – короткий меч, скорее похожий на нож. Эти кровавые игры, перешедшие от этрусков, вошли в моду лет двести тому назад. С тех пор увлечение ими росло все больше и больше. Они превратились в национальную, чисто римскую кровавую забаву…
Бестиарий, вышедший на бой с голодным львом, был обмазан кровью телка. Лев наверняка, как и полагали организаторы боя, озвереет при запахе крови. И гладиатору придется очень худо. Ему все время надо быть начеку. Но мало – начеку! Надо выказать большую отвагу, не оробеть. Что безумно трудно. Но еще труднее сразить зверя. Прежде чем он перегрызет тебе глотку…
Тридцатилетний бестиарий-крепыш не спускал глаз со льва. И тоже медленно продвигался вперед. Будто и сам был голоден.
Шаг.
Шаг.
Еще шаг…
Она повернулась к нему. Она была счастлива. Ей очень и очень хорошо. А ему? Ей это хотелось знать. «Хорошо ли тебе?» – вопрошали ее глаза. И она дождалась ответа: он молча, едва заметно кивнул. В совершенном восхищении она зааплодировала то ли бестиарию, который подбирался к зверю, то ли великому Сулле, наблюдавшему за готовящейся схваткой на арене.
Итак…
Зверь знал, что делать. Царь пустыни не торопился, хотя очень голоден: его не кормили три дня. Он готов сожрать человека вместе с его мечом и щитом. А запах крови пьянил зверя. Лев подвигался настороженно. Не выпуская из поля своего зрения этого чудака, посмевшего явиться на арену, посыпанную чистым песком.
Бестиарий не трусил. Был ли он опытен в такого рода боях? Несомненно. Устроители выпустили его первым, чтобы сразу захватить зрителя. А уж потом, только после боя со зверем, состоится парад гладиаторов. Этот несколько необычный порядок имел свою положительную сторону: быстро вводил зрителя в азарт игры…
Сулла прикидывал в уме: сколько же лет этой вдове? И определил: тридцать. А может, чуть поменьше. Но сколько в ней задора! Задора-то сколько! Вся – огонь. Само пламя, всеобжигающее!..
Она смотрела на арену и не смотрела: сидела вполоборота к Сулле. Ей это не очень удобно. Зато поворот головы казался ей наиболее удачным с мужской точки зрения. И груди – напоказ. И губы во всей их привлекательности…
Бестиарий сделал выпад левой ногой, точно отбивал нападающего врага. Это движение по-своему расценил зверь: он взревел и двинулся вперед, полный решимости перегрызть шейные позвонки этому человеку, посмевшему принять боевую позу…
Они подвигаются друг другу навстречу. Медленно. Верно. Полные решимости выйти из схватки победителем.
Дети визжат от удовольствия. Даже рукоплещут. Но мужчины безмолвствуют: пока нечего им сказать, надо выждать немного…
Зверь принимает решение: он собирается напасть на человека с левого бока. Начинает описывать большую плавную дугу. Чтобы зайти слева. Чтобы вгрызться в левый бок. И мгновенно вырвать вместе с ребрами и горячее сердце. Еще живое. Трепещущее, подобно цыпленку, которому оторвали голову.
Бестиарий делает вид, что не замечает звериного маневра. И прыжками подвигается вперед. Такими мелкими прыжками. Ибо длительное вступление в бой всегда раздражает публику. Надо ускорить. Уже слышны нетерпеливые покашливания. Тысячи и тысячи глаз смотрят внимательно, оценивающе на двух бойцов, один из которых – зверь, сильный, беспощадный от голода…
Сверкнули на солнце два алмаза. Это ее глаза. И отчего в них так много задора? Отчего они так непохожи на те, которые доводилось видеть? Что-то в них новое, неизведанное. Но что? Не в этом ли таинстве взора и дыхании упругих грудей заключены чары любви?
Сулла подзывает Криспа.
– Ближе! – И говорит центуриону: – Матриния, говоришь? – И кивает в сторону этой занозистой, игривой женщины. – Пригласи ее ко мне. Благоговейно. Ко второй страже. Понял?
И Сулла припомнил другую. Очень похожую на эту. По имени Валерия. Тоже вдовушку. Тоже удивительно задиристую и занозистую. Воистину главенство в любви переходит к женщинам!.. Но где же эта Валерия? Смерть несчастной Цецилии на время оттеснила образ Валерии… Валерия… Валерия… Нет, у той глаза черные-пречерные. А у этой, Матринии, карие. Издали – почти желтые…
Вот уже рычит лев. Ему не нравится блестящий клинок, который в правой руке у бестиария. Но зверю очень хочется сожрать человека. И он готовится к прыжку…
А человек попытается всадить нож под ребра. В самое сердце. Когда лев будет висеть в воздухе. На это нужно время: всего одно мгновение! Не больше! Иначе конец стройному, вымазанному телячьей кровью бестиарию…
Цирк замер. Все понимают значение ближайших секунд.
И в это время снова встречаются их глаза.
И они улыбаются друг другу…
12
В последние дни Децим мрачнел все более и более. Однажды, придя домой, он усадил Коринну перед собою, а сам устроился на мраморных ступенях. Ей показалось, что он вдруг постарел. Она не любила его, но он был ей мужем. Она не любила его и не могла любить, но он оказался честным малым. Децим делал все для того, чтобы ей было хорошо и хорошо ее старым родителям. Да, он грубоват в обращении. Но ведь он – солдат. Да, он не читал Демосфена, зато в его характере преобладала прямолинейность, редкая в Риме: она соседствовала с нежностью по отношению к жене и ее близким. И он ни разу ей не солгал… Наверное, он жесток, думала Коринна, однако дома Децим кроток и скромен. И почтителен к родителям ее. В конце концов, он оказался щитом для них в это смутное, очень страшное время, когда человеческая жизнь почти приравнена к одному ассу. Все это обязывало Коринну внимательно относиться к мужу, который оказался совершенно наивным в делах любовных, и это ее, пресыщенную римлянку, даже возбуждало. Ей нравилась роль учительницы в делах любовных. Коринна уже привыкла к мужу и почти была счастлива своей беременностью. Появление на свет маленького человечка, близость этого часа увеличивали нежность к мужу. Патрицианское честолюбие уступало место житейской устроенности.
Перемена в настроении мужа обеспокоила Коринну. Особенно на фоне всего того, что творилось в Риме. Она спросила, что с ним…
Он не стал темнить. Да и не умел этого. Высказал ей все, что думает. Не щадя себя. И ее. Может быть, из чувства жалости к ней. Или, напротив, из природной порядочности своей по отношению к женщинам. Децим боялся их больше, нежели любил. Эта боязнь и была его любовью. Которой предан. Которой не изменит никогда.
Децим сказал:
– Коринна, что ты знаешь обо мне?
Она приложила руки к вискам. Прошептала: что случилось?
– Ничего, – ответил Децим. – Я был раб и друг великого Суллы. Это самое главное.
Коринна с ужасом ждала чего-то особенного. Лицо ее покрылось предродовыми пятнами. И чуточку подурнело за последние месяцы.
– Но с недавних пор все пошло иначе, – продолжал Децим с жестокой откровенностью. – Мое место возле Суллы занял некий Крисп. Я оказался в стороне. Правда, центурия пока под моим началом. Моя верная служба и преданность – позабыты. Я отторгнут от его сердца. Ты слышишь, Коринна?
Да, она слышала. Но ведь это не самое худшее. Можно прожить и без Суллы, в конце концов. У нее есть рабы. Есть дом. Есть вилла недалеко от Капуи…
– Кстати, что это за вилла? – спросил он.
– Прекрасная вилла, Децим. В холмистой местности. Там растет виноград. Очень много. И ячменя, и полбы. Там можно жить и наслаждаться жизнью.
– Да? – спросил он рассеянно.
– Да! Можно прожить сто лет, никому не кланяясь, совсем в одиночестве. И денег достанет.
– Это хорошо.
– Мои отец и мать обожают эту виллу.
– А ты?
– Не очень, – призналась Коринна. – Я люблю Рим. Шум его улиц. Болтунов римских. И даже грязь на улицах. И высокие дома…
Он криво усмехнулся. Мельком посмотрел на нее и немножко пожалел жену: она так наивна и так далека от жизни при всей своей практичности.
– А если я скажу, чтобы ты немедленно переехала на виллу?
Коринна ничего не понимала.
– Да, да, переехала… – пытался он втолковать.
– Куда?
– На виллу.
– Зачем?
– Так надо.
– А отец и мать?
– Они тоже.
– А ты?
Децим опустил голову. Молчал. Точно окаменел.
– Что с тобой, Децим?
Наконец он поднял голову. Она увидела его глаза: они были полны слез.
Коринна растерялась. Кинулась к нему. На грудь. Совсем не понимая, что делает. Совершенно бездумно. По женской чувствительности: она никогда не видела его слез. И не думала, что в этом железном человеке водятся слезы.
Он отстранил ее. Нежно, но решительно.
– Слушай меня, – сказал он. – Сейчас не до этого.
– Не мучай меня, – взмолилась Коринна. – Что случилось?
Децим решился: да, он непременно скажет, потому что не привык лгать, не привык юлить. И он точно обрезал:
– Жизнь кончается…
– Чья жизнь? – воскликнула Коринна, которой сейчас особенно нужна жизнь.
– Моя, – безжалостно ответил он.
– Твоя?..
У Коринны задрожали губы. Вдруг она поняла, что может потерять его. Что живой человек всегда ходит по острию ножа. У края глубокой стремнины…
– Ты болен? – вырвалось у нее.
– Нет.
– Ты здоров?
– Да.
Впрочем, она и сама видела, что здоров, сама в этом совершенно уверена. Разве скала болеет? Разве железо хворает?
– Слушай, – сказал Децим, – есть в мире нечто не менее страшное, чем болезнь. Слушай меня, Коринна…
И он рассказал ей о том, как ночью вызывал его к себе великий Сулла. Вид проконсула был страшен; весь багровый, белые снежинки на лице, пот градом, глаза выпучены.
– Мерзавец! – кричит. – Что у тебя делается?
– Где? – лепечет Децим посиневшими губами.
– В центурии! Вот где!
– Не… не… не…
У Децима зуб на зуб не попадает.
– Заненекал! – прорычал Сулла. – А знаешь, негодяй, что у тебя в центурии против меня заговор зреет?
– Заговор? – говорит Децим, который ни жив ни мертв.
– Да! Заговор! Затесался какой-то умник, ведет слишком умные речи и точит нож против меня.
– Против тебя? – трепеща, вопрошает Децим.
– Да! Представь себе! Может, он еще и поэтом прикидывается? Звезды считает? На луну любуется? – Сулла вдруг замолчал и после небольшой паузы продолжал тихо, но внушительно: – Послушай, Децим: до утра остается четыре часа. За это время ты найдешь заговорщика и принесешь мне его голову. В противном случае… – Сулла погрозил пальцем. – В противном случае принесешь мне свою собственную голову. Иди!
И Децим вышел, как побитый пес…
– Ты нашел? – спросила Коринна, задыхаясь.
– Да.
– Кто же это был?
– Гней Алким. Мой солдат. Он любил считать звезды и любоваться луной.
Коринна с трудом произнесла три слова:
– И ты убил?
– Да.
– И голову отнес?
– Да, – ответил Децим.
По его грубым, покрытым рубцами щекам катились тяжелые, похожие на масляные капли, слезы. Он не стеснялся их. Может быть, только сейчас понял Децим, что значат слезы. А ведь он видел их. Разве его жертвы не плакали, прощаясь с жизнью? Разве им было легче, чем ему?
Коринна все больше пугалась его. Она готова кричать, звать на помощь, реветь навзрыд. Почему это в такой красивый, голубой вечер, в красивом, зеленом саду зашла речь о смерти! Разве речь только о смерти Гнея Алкима? О смерти, как видно, неотвратимой. Еще об одной смерти, если плакал даже такой человек, как Децим. Человек грубый, мужественный, видавший кровь и слезы.
– Я, Коринна, стал зрячим, – плача, признался он. – Не надо меня жалеть. Я свое прожил…
– Нет! – выкрикнула она с отчаянием. – Нет! Ты должен жить! – Она прижалась к нему и горячо, заикаясь от страха, зашептала: – Мы уедем на виллу. Я знаю там места. Такие укромные. Мы будем одни. Децим! Скорее! Скорее!
Он покачал головой. Плачущий. Все еще суровый. Но уже не верящий ни во что.
Коринна вдруг осмелела. Она вскинула голову. Полная решимости, проговорила:
– Я пойду к нему. Упаду к его ногам. Я попрошу его.
– Нет. Ты этого не сделаешь.
– Я упрошу его. Любой ценой. Он сделал тебя извергом – пусть сам выручает из беды.
Он схватил ее за руку. До боли сжал запястье.
– Нет, – проскрежетал он, – ты не пойдешь! Потому что бесполезно. Потому что нет у него души. Потому что все решено.
Коринна кусала ногти. Губы ее дрожали, как лист на ветру. Вдруг она почувствовала, что ей дорог этот грубый, неотесанный человек. Во цвете лет. Которому грозила смертельная опасность.
– Я спасу тебя, – говорила она.
Он вытер слезы. На своих щеках. И на ее щеках. Децим посуровел. Децим снова стал Децимом.
– Не теряй времени, Коринна. Иди и скажи твоим родителям, чтобы собирались. Спасай себя и е г о. Может, это будет сын. Назови его Децимом. Децим, сын Децима.
– Нет! – твердила она. – Нет! И бросить дом? – спросила она, рыдая… – Этот дом?
Он горько усмехнулся:
– И этот дом. И меня. Так надо! Торопись же, время дорого. Ради него!
И он покосился на ее пополневший живот.
– Торопись же!
Но, кажется, поздно. Вот слышны голоса. Вот доносятся тяжелые шаги. Все ближе, все ближе. И вот они во главе с Криспом!
Центурион стоит впереди. За ним десять солдат. Тяжеловооруженных. Словно идущих в атаку. Но на кого? На своего? На того, кто обожает великого Суллу.
– Децим!
Центурион встает, идет навстречу другому центуриону.
– Здравствуй, Крисп! Добро пожаловать!
Децим улыбается. Очень глупо. Но солдаты суровы, молчаливы, неподвижны.
– Децим, – сквозь зубы цедит Крисп, – ты сволочь, негодяй и разбойник! Сдай оружие, иди вперед!
И Крисп указывает в сторону ворот.
Коринна знает: он не сдастся просто так. Он выхватит меч. Он пойдет на них. Падет, но не сдастся живым.
– В чем дело, Крисп?
– Ты – негодяй! – говорит Крисп злобно. – Следуй за мной.
К удивлению Коринны, застывшей без кровинки в лице, Децим отдает меч свой, свой нож, даже шлем. Без борьбы. Без единого слова.
– Так-то, – радуется Крисп. – Марш!
И указывает на дорожку, посыпанную гравием.
– Прощай, Коринна!
Но Коринна не слышит: она упала. Совсем как мертвая.
Двое дюжих солдат подхватывают под руки Децима, третий выдает ему здоровенный подзатыльник, и его уводят. Совсем неживого.
Крисп немного задерживается. Его не интересует эта беременная женщина. Его привлекает дом. Такой приличный. Получше его особняка. Значительно лучше! Хотя бы своим местоположением – на Палатине!
Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что дом этот несравним с его домом. В котором живет не так давно. Надо попросить Гибрида обменять тот дом на этот. Разве ему откажут в таком пустяке?
Крисп не может удержаться от любопытства: вбегает на лестницу и заглядывает внутрь. Да, разумеется, этот дом нельзя сравнить с тем. Небо и земля!
Он сбегает вниз, чуть не спотыкаясь о беременную женщину и пускается бегом догонять своих солдат.
Децим свое прожил…








