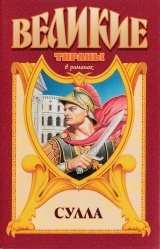
Текст книги "Сулла (илл.)"
Автор книги: Георгий Гулиа
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
– Это так, – согласился Цинна. – И я готов дать клятву. И, если надо, повторю в Капитолии. При свидетелях.
– Вот здесь, – сказал Сулла, – на этом месте скоро свершится правосудие… – И замолчал.
– Какое? – спросил Цинна, не выдавая вдруг нахлынувшего волнения.
– Разве не слыхал?
– Нет.
– Гм… – Сулла толкнул носком башмака небольшой камешек. Он покатился к обрыву. И – полетел. Вскоре донесся оттуда, снизу, как из бездны, сухой, но явственный треск; это камень ударился о камни.
– Какое же правосудие, Сулла?
Сулла объяснил:
– Здесь казнят подлого убийцу Сульпиция.
– Вот как! – Цинна не предполагал, что услышит что-либо подобное. – И кто же это?
– Только не я! – жестко бросил Сулла.
– Я так и думал, – усмехнулся Цинна. – Кто же он?
– Подлый раб… Раб, поднявший руку на господина своего, будет сброшен с этой скалы! Я уже сообщил об этом сенату.
– Одобряю, – сказал Цинна. – Это хорошо.
– Так решил я, – подчеркнул Сулла.
Солнце клонилось к морю. Спала жара. Вокруг насколько хватает глаз – великий Рим. Дома, дома… Квартал за кварталом. И все они разделены мелкими, длинными и грязными улицами. И по всем улицам с самого раннего утра и до позднего вечера снуют люди, точно муравьи. Отсюда, с Капитолийского холма, хотя он и не очень высок, видно все, ясно все. И эти двое, беседующие у Тарпейской скалы, как бы воспарили над городом.
– Сулла, – сказал Цинна, – я готов поклясться. Но я хотел бы услышать – в чем?
– Я же сказал, Цинна.
– Нет, нет. Это общо. Я бы хотел услышать слова, которые, в свою очередь, желал бы услышать ты из моих уст.
– Что ж, изволь, – почтительно сказал Сулла.
Он собрался с мыслями. Потер лоб, словно недоставало ему мыслей. Взглянул на Палатин. Посмотрел туда, где сверкал на солнце кусочек Тибра. И сказал:
– Ну, что-нибудь вроде этого… Я, Цинна, клянусь у этой скалы, что всеми силами, всем своим разумом, помыслами буду защищать республику. Я, Цинна, клянусь в том, что, будучи консулом, употреблю все свои знания и силы на то, чтобы возвеличить республику, воспрепятствовать любой диктатуре, любой тирании, дабы традиции предков наших, дабы их высокие желания, воплощенные в республике, жили вечно. Всегда! Пока светит солнце. Как говорили древние египтяне – не эти – огородники, бахчеводы, цожиратели луковиц, а древние: вечно, вековечно. А еще клянусь…
Цинна вдруг насторожился. Он понимал, что все сказанное – не самое главное. Не это важно. Не об этом в конечном итоге пойдет речь. Кульминация наступит сию секунду. Сейчас. Через мгновение. Итак…
– А еще клянусь, – продолжал Сулла, не меняя голоса и не меняясь в лице, – что буду вечно жить в дружбе и мире с Суллой и тем самым буду содействовать процветанию Римской республики… Всё!
Сулла просиял улыбкой. Поглядел на Цинну обволакивающим взглядом и добавил:
– Не страшно? Правда, не страшно?
– Нет, – ответил Цинна, тоже улыбаясь.
В самом деле, то., что произнес Сулла, в общем вполне приемлемо для Цинны. Все, что касалось республики. Процветания. И этого самого: вечно, вековечно… И этого – борения против диктатуры. Может быть, все это и важно. Но Сулле до зарезу необходимы слова о дружбе и мире. Сулла хочет связать Цинну по рукам и ногам клятвой у Тарпейской страшной скалы. Где многие прощаются с земными делами…
– Ты не закончил клятву, – сказал Цинна.
– Как не закончил? – удивился Сулла.
– А так… Где слова о Тарпейской скале? Мы ведь стоим здесь неспроста?
Сулла рассмеялся. Он смеялся, меж тем как в глазах его стоял леденящий сердце холод. Они стали бесцветны, как вода. В Тибре вода и та поярче цвета его глаз…
– Изволь, дорогой Цинна: упомяни и скалу. Скажи, что ты… – Сулла запнулся. Его собеседник настороженно ловил каждое слово. Оговорка была бы непростительной. Даже небольшая оговорка…
Цинна помог ему, говоря:
– Ну, хотя бы что-то в этом роде: я клянусь здесь, на этой скале, которая вечно будет свидетельницей победы добра над злом.
– Вот! – воскликнул Сулла. – Именно! Ты придумал прекрасную концовку для клятвы. Мне больше ничего не нужно. Клянусь богами!
Цинна стоял красивый. На его лице, освещенном предзакатным солнцем, появилось выражение торжественности. Было оно настоящим? Действовал ли он искренне в эти минуты? Нет, нет и нет! Он и сам не верил своим словам. Он их только готов был произнести, чтобы они, слетая с его губ, тут же испарились, подобно капле воды на горячей сковороде. Он ненавидел Суллу. Он не мог не ненавидеть его.
Так что же? В чем дело? К чему этот ход, достойный артиста Квинта Росция, но никак не знатного римского патриция, уважающего по крайней мере себя? Победило ли в нем тщеславие? Или жажда власти столь велика, что Цинна идет на все, готов разыграть любую комедию? И то и другое, если угодно. И как слабое утешение, как самообман – надежда на то, что он сумеет противостоять дурным поступкам Суллы…
Да, Цинна принес клятву. Бесполезно повторять ее: она была точной копией чернового наброска Суллы. Маленькие неточности, неизбежные даже тогда, когда урок повторяет лучший ученик, – не в счет.
Сулла выслушал. Он постарался придать этой минуте как можно больше торжественности. Ему безразлично, что думает при этом Цинна. Сулла уверен, что Цинна из тех людей, которых клятва, независимо от того, при каких обстоятельствах она дана, все равно будет связывать.
Клятва принесена без свидетелей. Если не считать самой скалы и небес. Надо отдать Сулле должное – он облегчил задачу Цинне, не унизил его при посторонних, не потребовал чего-то невозможного. Даже формула «о дружбе и мире с Суллой» в какой-то степени приемлема. Именно в какой-то степени. Но и в этой форме она ничего необычного не требует от будущего консула. Полководец, воюющий далеко от отечества, вправе рассчитывать на мир и дружбу с консулом. Это же вполне естественно...
Как бы то ни было, Цинна принес клятву. Он, разумеется, не стал бы напропалую рассказывать об этом всем, каждому встречному-поперечному. Большой для себя чести в этом не видел. Но ежели об этом узнают, причем доподлинно, с подробностями, – то в этом будет повинен только Сулла. Ибо он заинтересован в этой клятве, он находит в ней для себя выгоду. Значит, распространять ее, эту беседу и клятву на скале, будет Сулла, и никто иной…
Полководец подал руку Цинне.
– Через час… – Сулла остановил Цинну и сильнее сжал ему руку… – Через час вот с этой скалы сбросят проклятого раба, поднявшего руку на Сульпиция…
Нельзя сказать, чтобы эти слова были сказаны нежно и мягко. Страшные нотки звучали в них.
Сулла заторопился, увлекая за собой будущего консула.
– Я приглашаю тебя в свой дом, – сказал Сулла.
Цинна воспротивился:
– То же самое хотел бы сделать и я. Я уже приказал приготовить ужин. Мне привезли двух прекрасных молодых оленей из Иллирии.
– Оленей?! – Сулла от радости схватился за голову. – Идем! Я принимаю твое приглашение. А потом мы явимся в Капитолий.
И он, можно сказать, побежал к своим носилкам.
10
Он любил его. Не нежной, не братской любовью. Но сурово, по-деловому. И наверное, не мог без него: Корнелий Эпикед был для него и слугой и советчиком. Советчиком подчас молчаливым, советчиком странным, но советчиком. Они могли вовсе не разговаривать друг с другом неделями. Сулла знал, что думает его слуга, подавая хлеб или вино. Можно хлеб поднести, можно хлеб положить на стол, можно хлеб принести загодя, можно с хлебом опоздать, дождавшись напоминания господина. Вино можно наливать медленно, тоненькой струей. Можно его вылить в чашу так, что брызги полетят в стороны. Можно забыть про холодную воду. Но можно вовремя поставить на стол сосуд с горячей и сосуд с холодной водой. По-разному ходит слуга: медленно, быстро, на цыпочках, ступая всей ступней – по-солдатски, может подолгу не входить в таблинум, но может и вовсе не выходить из него. Каждое движение, каждый жест слуги, выражение его лица, слово, которое он произносит с различной интонацией, – все это важно. Все имеет свой смысл. Это тоже вроде беседы. Одобрение, осуждение или непонимание. И так далее…
Господин порою мог говорить, а слуга только слушать. Бывало и наоборот. Это тоже была беседа.
Но могли говорить оба. Беседовать в прямом смысле этого слова. Оба задавали друг другу вопросы. Отвечали на них. Недоумевали. Выясняли отношения. Это была беседа равных. И на равных. Тут уж не было ни господина, ни слуги. Спор выигрывал правый, а не сильный. Сулла мог не посчитаться с мнением слуги – на то он и был господин. Это его личное дело. Однако в споре он должен был признать себя побежденным, если проиграл его. Признай – а потом делай как знаешь. Таков был обычай у этих двух людей. Они были достойны друг друга. Несомненно, достойны!
Эти беседы порой можно назвать исповедью господина. Сулле при этом неважно, что думает его слуга. Главное – выговориться. Такое бывало довольно часто.
Да, Сулла любил Эпикеда. С давних пор. Привязан к нему. Любит его всей душой. Странно звучат эти слова, когда говоришь о человеке, который презирал даже само имя Человек. И презирал человечество. Счет людям он вел только на когорты и центурии. Женщин любил только потому, что они доставляли ему наслаждение. И Рим любил только потому, что ни в каком другом городе мира не могли бы исполниться его заветные мечты. Ни в Фивах, ни в Афинах, ни в Карфагене. Его честолюбивые помыслы связаны только с Римом. Без Рима он – ничтожество. Без Рима он – один из особей рода человеческого. Ему нужен Рим. Не может он без Рима. И точно так же не мог обойтись без Эпикеда. Слуга говорит ему все. Выдаст любую дерзость. Разумеется, наедине. Да и сам Эпикед, который тоже любит Суллу, никогда не позволит себе высказать какой-либо попрек на людях. Потому что для всех он – прах.
Мужеложество Сулла не считал пороком. И не скрывал своих чувств к любимому мужчине. Например, к актеру Метробию. И разные слухи муссировались в Риме по этому поводу. Но никто не заикался о Корнелии Эпикеде. Не потому, что был вне подозрений, а потому, что попросту не шел он в счет. Ибо был слугою, рабом, прахом. Сулла любил и уважал Эпикеда как свое сердце, как желудок, печень или ноги. Хорошо это или плохо? Об этом можно поговорить на досуге или высказать свое мнение в специальном ученом трактате. Римские писатели, мало известные миру (есть и такие), по-разному писали о Сулле и Эпикеде. И трактаты о них позабылись. Это естественно: ибо мало кто придавал значение отношениям этих людей. Эпикед не мог соперничать с Марием до своему весу в общественной жизни римлян и всей республики…
После трудного и знойного дня, поздно ночью, оставшись наедине со своим слугою, Сулла сказал:
– Некий Гилл сброшен со скалы… Мне сообщил об этом Децим.
Слуга подтвердил:
– Децим был здесь. Рассказывал, как было.
Сулла поглядел в зеркало. Какой-то прыщик на носу, что ли?
– Я не мог иначе.
Эпикед стоял в углу. В свежевыстиранной тунике. На босу ногу. Был мрачен.
Сулла перестал рассматривать прыщик, положил зеркало на место. Поднял глаза. Сказал Эпикеду:
– С ним поступили как надо, с этим Гиллом. А твое мнение?
Эпикед согласился:
– Да, так надо.
– И Сульпиция постигла вполне справедливая кара.
– Да, – подтвердил Эпикед.
– Или – или, – проскрежетал Сулла, растирая покрасневший нос. – Или они уничтожат меня, или я их.
– Это закон.
– Эпикед, принеси мне духи.
Слуга вышел и вернулся с финикийским флаконом. Подал его господину. И невзначай бросил:
– Они тебя или ты их.
– Да, Эпикед, да!
Сулла протер духами нос, встал и, прохаживаясь взад и вперед в широкой ночной тунике, говорил то ли слуге, то ли в пространство. А может, и треногому столу, на котором стоял письменный прибор, лежали кипа пергамента и папирусные свитки. Он словно бы вдалбливал кому-то свои мысли:
– Послушай, не мог я иначе. Я ухожу с войском. Ухожу на Восток. Мне важно иметь в тылу если не дружественный, то, во всяком случае, не очень враждебный Рим. Эта лисица Цинна, кажется, присмиреет. Ведь он получает консульскую власть из моих рук.
Слуга пристально следил за ним. Не отрывая глаз. Слишком пристально.
Сулла остановился напротив и смерил Эпикеда с головы до ног… Пожал плечами и продолжал вышагивать по комнате. Заложил руки за спину. И, глядя себе под ноги, говорил, все говорил:
– Из моих рук… Консульскую власть… Это надо понимать… Это сделал я, и никто другой… Я показал им, что могу подать руку даже заклятому врагу своему. И я подал. Что? Подал, говорю… Разве это не оценили в сенате? Не оценили, спрашиваю? Если нет, тем хуже для них. Но думаю, что многие оценили. Теперь все видят, что я не собираюсь топтать республику. Напротив, я выдвигаю в консулы своего врага. Что – нет?
Сулла резко остановился. Как вкопанный. На слугу это не произвело ровно никакого впечатления. Он смотрел прямо перед собой, расслабив плечи и скрестив руки на груди. Время от времени переминаясь с ноги на ногу. Привык вот так стоять часами. И слушать часами, и говорить часами с господином.
Сулла погрозил кому-то пальцем.
– Я подал руку. Проявил добрую волю. Они-то прекрасно сознают, что я могу и прижать ногтем к ногтю. Они даже не успеют пикнуть. И тем не менее я подал. Я поступил правильно. Уйду в поход, оставив в Риме консулом своего заклятого врага. В этом есть своя особая мудрость.
Слуга вставил краткое слово:
– Ты об этом тоже говорил на скале?
Господин словно не расслышал. Подошел к треногому столу и пошуршал свитками папируса.
– Ты об этом тоже говорил на скале?
Сулла сказал:
– Не совсем. Но отчасти.
Теперь заговорил слуга. Тихо. Неторопливо. А куда, собственно, торопиться? – ночь впереди же. Его господин ночью чувствует себя лучше, нежели днем.
– Ты его уговаривал, Сулла. Ты просил его помириться с тобой. Ты отдаешь ему консульскую власть? Но ведь сенат едва ли примет другое твое предложение. У тебя просто нет иного выхода. Из безвыходного положения, Сулла, ты пытаешься извлечь для себя выгоду. Это похвально. Не думай, что я упрекаю. Обвиняю в трусости. Видят боги, это не так! Ты просил у него союза…
– Нет!
– Ты просил у него помощи.
– Нет и нет!
– Ты выторговывал себе нечто.
– Нет, нет и нет! – сердито бросал Сулла, потрясая руками. – Кто тебе сказал?
– Никто. Сам догадываюсь.
– Так вот, – Сулла сплюнул, – все это чушь! Я должен был поговорить с ним. Должен был. Верно?
Слуга сказал ледяным голосом:
– Нет, не верно.
– Что-о?
– Не верно.
– Мне не стоило с ним разговаривать?
– Не стоило.
Эпикед торчал как столб, не двигаясь. Недвижимый совсем. Словно обращенный в камень неизвестным волшебством. Он верил в Суллу. В того. Настоящего Суллу. А вот Сулла, который беседовал на скале с этим Цинной, – не настоящий. Не болтать надо, не политиканствовать, но драться. Не на жизнь, а на смерть. Настоящий Сулла не теряет времени на болтовню. Пусть этим занимаются сенаторы, которые полагают, что правят страной. Какое жалкое заблуждение!..
Сулла слушал своего слугу внимательно. Не прерывая. Потом, когда Эпикед закончил свою мысль, наступило молчание.
Стены таблинума были расписаны со вкусом. Картин не много. Но все в прекрасных тонах восковых красок. Они изображали Академию Платона. Учителя с учениками. Платона в кругу философов.
Сулла так и не удосужился хорошенько рассмотреть стены своего таблинума. Эти бородатые господа вызывали в нем чувство брезгливости. Только импотенты могут часами рассуждать о тайнах мироздания. Надо действовать, а не болтать. В этом отношении совершенно прав этот Корнелий Эпикед…
– Послушай, – говорит Эпикед, и голос его зазвучал как бы из-под земли, – не тебе трепать языком. Что тебя понуждает к тому? Разве у тебя нет силы? Она же вся в твоих руках. Или почти вся. Пусть болтают себе бабы и сенаторы. Ты же делай свое дело. Разве ты не Сулла?
Сулла уселся в двойное кресло и властно указал Эпикеду на место рядом с собой. Они оказались очень близко друг от друга – почти нос к носу. Так удобнее разговаривать – не надо повышать голоса. Можно даже пошептаться, что значительно безопаснее в городе, где подслушивают даже стены.
– Эпикед, – прошептал Сулла.
– Да?
– Скажи мне яснее.
– Еще яснее?
– Пожалуй. Я что-то перестал тебя понимать, Эпикед.
– Изволь, господин мой.
– А ты не можешь без церемоний?
– Могу.
– Я слушаю тебя, Эпикед. Говори четко. Ясно. Нелицеприятно. Сейчас тот самый благословенный час, когда мы можем поговорить по душам. Мне это необходимо.
Слуга кивнул и проговорил вполголоса:
– Я слышал одну притчу…
– Что?
– Притчу.
– Ах, притчу! Я что-то не разобрал… Понятно – притчу. Дальше?
– Эта притча, – сказал Эпикед, – египетская.
– Ого!
– Египетская. Да, да. Я имею в виду тот самый Египет. Который наши ученые называют Древним.
– Все. Теперь ясно. Слушаю, Эпикед.
– Говорят, что некий князь в давно прошедшие времена задумал сделаться богом.
– Кем? Кем? – нетерпеливо спросил Сулла.
– Богом.
– Как это – богом?
– А так.
– Разве человек может стать богом?
– Говорят, что – да. Египтяне так говорят… Задумать-то он задумал. Но задуманное, как это бывает обычно, не так-то просто осуществить. И князь начал ломать голову… На ту пору явился к нему кудесник. Пришел прямо из пустыни. Ведь там, в Египте, – пустынь сверх всякой меры. Этот кудесник, по-нашему – прорицатель, и говорит князю: «О чем тужишь, князь?» – «Хочу, говорит, быть богом…» Кудесник вовсе не удивился этому. На своем веку многое натворил: одних обратил в крокодилов, других – в гиппопотамов, третьих – в пирамиды. С богами пока что не приходилось иметь дело. Ибо не встречался ему человек, который задумал бы нечто подобное. И кудесник научил того князя. И князь сделался богом.
Эпикед умолк.
– Ну? – нетерпеливо сказал Сулла.
– Всё.
– Как всё? А самое главное?
– Главное?
– Ну да! Каким путем князь достиг своего? Что присоветовал ему кудесник?
– Кудесник? Ничего особенного…
– А все-таки?
– А как думаешь ты, Сулла?
– Я? – Сулла подумал. Но не догадался. И признался в этом.
– Ничего особенного. – Эпикед беззвучно рассмеялся. – В том-то и дело, что путь этот прост. И доступен человеку.
– Ты задаешь мне загадку, Эпикед.
– Ничуть.
– Так открой же мне тайну этого кудесника.
– Изволь. – Эпикед приблизил уста к уху своего господина. – Кудесник сказал: «Есть у тебя помощники?» Князь сказал: «Есть». – «Их много?» – «Ровно семижды двенадцать». – «А сколько народу живет в твоем царстве-государстве?» – «Пять миллионов». – «Что больше, князь: пять миллионов или семижды двенадцать?» Разумеется, князь ответил безошибочно. «В таком случае, – сказал кудесник, – сними голову». – «С кого?» – воскликнул князь. «С твоих помощников. Найдешь себе других. И тогда те же пять миллионов признают в тебе бога. Они убоятся твоего гнева сильнее, чем гнева Осириса…»
Сулла спросил:
– И князь послушался?
– Да.
– И сделался богом?
– Да.
– Те пять миллионов затрепетали в страхе, Эпикед?
– Разумеется!
– Удивительно! – Сулла почесал затылок.
– Ничего удивительного, Сулла. Проще простого, Сулла.
– Ты думаешь?
Сулла искоса поглядел на слугу, чтобы определить получше: много ли веры полагать словам его. Откуда взял этот Эпикед странную притчу? На самом ли деле она из Египта? Там сейчас только прекрасные овощи и никаких богов! Но прежде, говорят, бывало…
– Послушай, Сулла, что бы случилось, если бы ты слегка подтолкнул этого Цинну?
– Как это подтолкнул, Эпикед? – возмутился Сулла.
– Не горячись, господин мой. Не горячись… Тебе не нравится слово «подтолкнул». Ладно. Заменим другим. Скажем так: если бы ты ему помог спрыгнуть?..
– Кому? Цинне?
– Да!
– Откуда?
– Со скалы.
– Я об этом не подумал, Эпикед. Я позвал его для беседы.
– Можешь не врать. По крайней мере, мне.
– Вру, – сознался Сулла.
– Так я и знал!
Сулла уронил голову на руки. Закрыл веки. Засопел. Ход мыслей этого Эпикеда ясен. Действительно, не стоит все усложнять. К чему клятвы? Выборы консула? Тарпейская скала все решает значительно проще. Быстрее. Вернее…
Сулла поднял глаза на слугу, тот торжествовал. Зловещая улыбка сияла на его щербатом лице. Глаза метали победные стрелы. И он смотрел на господина сверху вниз. Должно быть, как кудесник на того самого князя.
Сулла понемногу приходил в хорошее настроение. Пятерней расчесал редкие волосы. Спросил:
– А ты не кудесник, Эпикед?
– Я? Нет.
– Кто же кудесник в таком случае?
– Ты, Сулла!
– Я? – Сулла привстал.
– Да, ты. Это ты подсказываешь мне верный образ действий. Я читаю в тебе таинственные, недоступные другим мысли. Вижу тебя насквозь. Ты – финикийское стекло. Моя обязанность сообщать тебе то, что вижу, что читаю в тебе, в твоих глазах.
– Да? – кратко вопросил Сулла. – Ну что ж, может быть, может быть…








