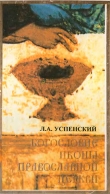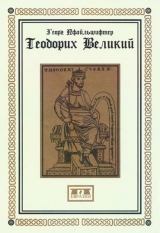
Текст книги "Теодорих Великий"
Автор книги: Георг Пфайльшифтер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
И вот теперь, когда уже почти вся Италия вновь попала под власть варваров, император начал решительные действия. Из Далмации – и по суше, и по морю – была переброшена в Северную Италию одна византийская армия, а из провинции Африка вторглась в Южную Италию другая. Эти армии должны были соединиться и обеспечить господство Византийской империи над всей Италией. Армией, идущей с севера, командовал племянник императора Герман, который взял в жены Матасунту – вдову Витигиса и внучку Теодориха. (Возможно, в свое время он сделал это для того, чтобы привлечь на свою сторону остготов.) Тотила предвидел подобное развитие событий и намеревался отразить нападение с помощью имевшихся в его распоряжении двух флотов и различных сухопутных соединений. Но когда война на море и на суше, на юге и на севере действительно началась (к тому времени Германа уже не было в живых), хорошо продуманная тактика византийцев вновь принесла им успех. Тотила обратился к Юстиниану I с предложением заключить мир на довольно-таки невыгодных для византийцев условиях. Император наотрез отказался вести какие бы то ни было переговоры: остготы должны быть уничтожены, Италия должна стать субъектом Византийской империи. В начале 552 года главнокомандующий византийской армией Нарсес выступил из Далмации; в этой огромной армии были лангобарды, герулы и гепиды, готовые сражаться против своих германских братьев, а франки уже успели отнять у остготов Венетию. Императорская армия, двигаясь строго вдоль морского побережья и оставляя в стороне остготские укрепления, дошла до Равенны, избрав именно этот город первым объектом нападения. Отсюда армия Нарсеса – опять-таки в обход всех остготских крепостей – быстрым маршем двинулась на юг, навстречу основным силам остготов, которые стояли в предместьях Рима. Этот казавшийся совершенно невозможным за столь короткое время переход армии Нарсеса застал Тотилу врасплох.
В большой спешке он собрал все имеющиеся у него силы (сразу скажем, что и на этот раз его армия по численности намного превосходила императорскую) и встретил византийцев в Апеннинах. Здесь, в местечке Тадина близ Перуджи, весной 552 года в сражении с Нарсесом Тотила потерпел сокрушительное поражение. Его армия была полностью уничтожена. Вскоре после этого Тотила ушел из жизни (нам неизвестно, где и при каких обстоятельствах это произошло). Так закончилась многолетняя борьба византийцев с остготами. «Все, что последовало за этой битвой, было не более чем актами отчаяния погибающего народа».

Рис. 91. Юстиниан I и его двор вместе с Максимианом, архиепископом Равеннским

Рис. 92. Императрица Феодора со своей свитой
В то самое время, когда остготский народ, собрав последние силы, боролся с византийцами, Максимиан, архиепископ Равеннский (545–556 гг.), приказал сделать в только что построенной в этом городе – который, как мы помним, Теодорих избрал своей столицей – церкви Сан Витале мозаичные портреты императора Юстиниана I и императрицы Феодоры; окруженные каждый своей свитой, они приносят церкви дары: золотое, с геммами, блюдо для просфор и чашу, украшенную драгоценными камнями. А еще раньше, в начале 540-х годов, в честь побед Юстиниана I на одной из площадей Равенны был установлен великолепный обелиск, облицованный слоновой костью.
Какие разительные перемены – и всего лишь за несколько десятилетий! Когда еще Юстиниан I не был императором, он с помощью проводимой им церковной политики нанес первый серьезный удар по королевству Теодориха. Теперь это королевство лежало в руинах. С Теодорихом и остготами было покончено, а Церковь и искусство Равенны дружно славили нового далекого властелина.

Рис. 93. Серебряная монета Тейи с портретом покойного императора Анастасия I
Правда, у византийского императора осталась еще одна проблема: нужно было уничтожить оставшихся в живых остготов. Почти все они находились в хорошо укрепленной Павии. Там в начале 553 года остготы избрали себе нового короля – Тейю. После того как Тейя обратился за помощью к франкам и никакого ответа от них не последовало, он вооружил оставшихся у него остготов и стал готовиться к решающему сражению. К сожалению, им руководили не мудрый расчет искушенного в тактике военачальника (каким был, например, Тотила), а гнев и отчаяние; а если вспомнить о том, что и армия остготов была теперь вовсе не такой многочисленной, как прежде, то станет ясно, что Тейя вряд ли мог при подобных обстоятельствах надеяться на успех. Ему так и не удалось вернуть остготам Рим. За последние 16 лет Вечный город подвергся штурму уже в пятый раз. Довольно большое войско остготов, которым командовал брат Тейи Алигерн, находилось в почти неприступной крепости Кумы, в Кампании (где хранилась довольно значительная часть остготских сокровищ), и Тейя поспешил туда, чтобы объединиться с Алигерном. Однако Нарсес был начеку и преградил ему дорогу, расположив свою армию чуть южнее подножья Везувия. Войско Тейи занимало очень хорошую позицию и могло удерживать ее весьма длительное время, так как остготский флот снабжал своих соплеменников продовольствием. Так обе армии простояли друг против друга в течение двух месяцев – до тех пор, пока Нарсесу не удалось благодаря предательству захватить корабли остготов. Вот теперь судьба войска Тейи была решена. Ему пришлось оставить занимаемый им отличный плацдарм и быстро отступить на юг, к горам, чтобы принять там последний жестокий бой.
Какой жуткий контраст! Изумительно красивый ландшафт Италии, Везувий, Неаполитанский залив – и невыразимо трагичное по своим масштабам кровопролитное сражение, в котором будет уничтожено германское племя, большая часть которого уже успела приобщиться к римскому образу жизни. Долгих два дня – без продовольствия, без воды – отчаянно бились остготы, которых заражал своей отвагой Тейя. Прокопий рассказывает об этом так:
«Сражение началось ранним утром. Вместе с несколькими воинами Тейя стоял впереди фаланги, прикрывшись щитом и бросая копья. Как только его увидели враги, они решили, что если король остготов будет убит, то сражение сразу закончится. Поэтому храбрейшие из них – а таких оказалось очень много – подобрались к нему почти вплотную и стали бросать в него дротики. Но Тейя отражал эти броски своим щитом и, совершая молниеносные перебежки, убивал нападавших. Каждый раз, когда весь его щит покрывался попавшими в него дротиками, Тейя бросал его своему оруженосцу и брал у него другой. Так сражался он без устали в течение целой трети дня. И тут вдруг в его щит попали сразу двенадцать дротиков, так что Тейя уже не мог свободно обращаться с ним, и он с трудом отбивал атаки наседавших противников. Не отступая ни на шаг, громко призвал он на помощь своего оруженосца. Ни на одно мгновение не дрогнул он перед лицом грозной опасности; он не пытался ни отступить, прикрыв спину щитом, ни отбежать в сторону – он словно врос в землю, сея правой рукой смерть и увечья, а левой отражая удары. Время от времени он громко повторял имя оруженосца. И когда тому удалось приблизиться к королю, Тейя швырнул ему свой утыканный дротиками щит и протянул руку за другим. На какое-то ничтожное мгновенье его грудь оказалась незащищенной; в воздухе просвистел дротик, и Тейя как подкошенный рухнул на землю. Несколько византийцев насадили его голову на длинный шест и подняли ее высоко вверх, для того чтобы, увидев это, византийцы усилили натиск, а остготы обратились бы в бегство. Но остготы не дрогнули и продолжали сражаться, пока тьма не окутала небо, хотя и знали, что их король погиб. Когда стало совсем темно, обе армии прекратили битву, отошли друг от друга, но провели ночь, не выпуская из рук оружия. На следующий день встали они очень рано, заняли прежние позиции и вновь сражались до глубокой ночи. И несмотря на то, что уже очень многие воины – и византийцы, и остготы – нашли свою смерть, обе армии, не отступив ни на пядь, ожесточенно продолжали свою ужасную кровавую „работу": остготы – прекрасно сознавая, что они ведут свой последний бой; византийцы – видя, что с каждой минутой чаша весов все больше и больше склоняется на их сторону».
Поздним вечером, на исходе второго дня битвы, остготы послали парламентера с просьбой разрешить им покинуть Италию; они соглашались поселиться там, где это будет угодно императору. И в то время, пока шли эти переговоры, группа, состоявшая примерно из тысячи остготов, которые не хотели и слышать о таких условиях мира, прорвала византийские кордоны. Им удалось пройти через всю Италию и добраться до Павии. Просьба остальных остготов была удовлетворена при условии, что они больше никогда не поднимут оружие против императора. Это произошло в 553 году.
Таким образом. Остготское королевство, да, по сути дела, и весь остготский народ, прекратили свое существование. Разумеется, небольшие вооруженные отряды остготов еще бродили почти по всей Италии. Но каждый из них действовал на свой собственный страх и риск и ставил перед собой различные локальные цели. Всех оставшихся в живых остготов можно разделить на две группы.

Рис. 94. Равеннский диптих, на котором изображен Юстиниан I (с Нарсесом?)
Одни, смирившись с неизбежным, предпочли все-таки остаться в Италии и поступить на службу либо к императору, либо к варварам, которые так позорно оставили их на произвол судьбы в трудную минуту. Во главе этой группы остготов стоял Алигерн; Кумы, которые, несмотря на длительную осаду, так и не смог взять Нарсес, впоследствии были добровольно отданы византийскому императору. Другие остготы посчитали за лучшее все же покинуть Италию и поискать счастья на чужбине. Совсем недавно было высказано предположение, что основная масса этой группы остготов добралась – через Аосту – до Женевского озера. Мне представляется более правдоподобной другая версия, согласно которой эта группа остготов поселилась в Ладинии [61]61
Область в Южном Тироле. ( Примеч. пер.)
[Закрыть]. Это – горная область южнее г. Брунико и восточнее г. Больцано, в центре которой расположен Розенгартен (в предании о Дитрихе Бернском он выступает в роли государства Лаврина). Некоторые остготы вновь преисполнились оптимизма и даже собирались, надеясь на поддержку франков, продолжить борьбу с византийцами в Италии. Сами франки проявляли сдержанную осторожность и не спешили торопить события. Но они не предприняли никаких агрессивных действий, когда хорошо вооруженная алеманнская армия численностью порядка 75 000 человек, среди которых были и франки, перешла через Альпы, чтобы, заявив о своих правах на наследство Теодориха, основать «новое алеманнско-готское королевство». Разумеется, знатные готы и слышать не хотели о таком альянсе. Когда алеманны, одержав победу над императорскими войсками в битве при Парме, шли на юг, Алигерн – как свидетельствует Агафий, – стоя на городской стене, осыпал их язвительными насмешками: он кричал, что все их потуги ни к чему не приведут и они всё равно останутся с носом (хотя в то время византийцы уже прибрали к своим рукам все богатства и королевские инсигнии готов); что если его когда-нибудь назовут новым готским королем, то он никогда уже не сможет носить пурпур, а должен будет носить одежду простого солдата и довольствоваться жизнью самого обычного человека. Тем не менее, несмотря на столь враждебное отношение к ним готов, алеманны вовсе не собирались отказываться от своих планов. Им удалось пройти всю Италию и достичь Реджо-ди-Калабрии. Весь их путь был отмечен убийствами, грабежами и пожарами, и они полностью разрушили все, что уцелело со времен войны византийцев с остготами. И фортуна очень скоро отвернулась от них. Уже осенью 554 года эпидемии и вражеские мечи полностью уничтожили эту некогда грозную армию алеманнов. Они ровным счетом ничем не помогли остготам, многие из которых считали алеманнов своей последней надеждой. Небольшая часть остготской армии (7000 человек), укрывшаяся в расположенной на юге Италии крепости Кампсы [62]62
Ныне – г. Кампобассо. ( Примеч. пер.)
[Закрыть]зимой 555 года была вынуждена сдаться Нарсесу. Ее включили в состав императорской армии и затем использовали на Востоке. Так была погашена последняя искра остготского сопротивления. Правда, есть сведения об отдельных группах остготов, доставлявших византийцам – то в одиночку, то во взаимодействии с франками – некоторые хлопоты. Однако в основном это были те остготы, которые остались в Италии с разрешения завоевателей. И они были уже не воинами, а мирными поселенцами. Большинство из них занимало отдельные территории севернее р. Пад и до морского побережья, но они жили также в окрестностях Ночеры (провинция Умбрия) и Кастельтрозино (провинция Марке). Их численность была очень небольшой. Те из них, кто жил севернее р. Пад, сумели сохранить свою национальную самобытность и специфические готские привилегии по меньшей мере до XI века [63]63
См. X. Бруннер «История немецкого правоведения» (1906 г.).
[Закрыть].
Независимо от того, служили ли остготы в императорской армии, или отправились к братским народам, или остались как мирные жители в Италии, – все они либо влились в состав других народов, либо погибли в боях. На протяжении тех двух поколений, когда остготы владели Италией, состав ее населения не изменялся. Теперь положение стало совершенно иным. Увеличилось количество кровосмесительных браков – в прежние времена это было почти исключено, – в результате чего коренные итальянцы, намного превосходившие по численности остготов, полностью «впитали» их в себя. С остготами произошло то же, что двадцать лет тому назад случилось с вандалами, – они перестали существовать как народ.
В процессе Великого переселения не просто погибло ужасающе большое количество людей – были стерты с лица земли целые народы. Все восточногерманские племена: готы, вандалы, бургунды, гепиды, скиры, ругии, герулы – были потеряны для немецкой нации. И те из них, кто не был полностью уничтожен, стали в подавляющем большинстве романизированными вследствие как численного превосходства самих римлян, так и их гораздо более высокой культуры. Это относится прежде всего к Италии и Испании. В какой-то мере то же самое можно сказать и о тех западногерманских племенах, которые вступали в тесный контакт с римлянами. Исключение составляла разве что Галлия: там основной состав римского населения не претерпел существенных изменений, так как здешние римляне отнеслись к франкским захватчикам крайне настороженно. Только в самых отдаленных областях Империи: на Рейне и на Дунае – германцам удавалось сохранять свою самобытность. В остальных же частях распавшейся Западной Римской империи все подверглось романизации: языки, культуры, нации. И конечно же, эти романизированные германцы уже не способны были поддерживать боевой «германский дух», поэтому германским завоевателям не удалось германизировать римский мир. То, что можно сказать об остготах – наиболее одаренном и способном к просвещению германском племени, которое интенсивнейшим образом общалось с римлянами в их собственном отечестве, – можно сказать в общем и целом обо всех германцах. К этому остается добавить лишь одно: печальный финал их переселений означал чрезвычайно большую потерю для германской нации, и это относится ко всем без исключениям странам, где проживали представители этой нации.
Германское переселение народов полностью изменило как внешние очертания, так и внутреннюю структуру Западной Европы. Восточногерманские племена нанесли первый серьезный урон, казалось бы вечному, зданию Римской империи. Они сокрушили его стены и преодолели сильнейшее сопротивление его обитателей. Но при этом они и сами погибли. Можно сказать, что они принесли себя в жертву. Однако эта жертва была не напрасной. Так как именно их изнурительной борьбе западногерманские франки обязаны тем, что им удалось на месте разрушенного здания Западной Римской империи возвести новое, более совершенное строение. Разумеется, германское переселение народов не столь сильно коснулось Восточной Римской империи (названной впоследствии Византийской). Германцы не оказали никакого влияния на общую культуру Востока и ее дальнейшее развитие. Большие изменения в этой культуре произошли только в результате арабского и славянского переселений народов.

Рис. 95. Медная монета Юстиниана I (отчеканена в 560 году в Равенне)
После описанных выше событий Италия, как и провинция Африка, стала подчиняться непосредственно византийскому императору. Равенна стала местом пребывания императорского наместника, или экзарха. Он избрал своей резиденцией королевский дворец Теодориха. О том, что совсем недавно здесь была столица Остготского королевства, напоминали не только этот дворец и гробница короля, но и готские церкви. И хотя Равенна уже в 540 году стала византийским городом, эти церкви продолжали служить готам до середины 550-х годов. В 551 году в Равенне был изготовлен на папирусе документ, который сохранил для нас такую информацию:
«Клирики готской церкви святой Анастасии получили от юридического поверенного Петра под поручительство диакона Аламота взаймы 120 солидов. Для погашения этого долга они обязуются передать восемь наделов маршевой земли, стоимостью 180 солидов, а причитающуюся им сдачу в 60 солидов примут наличными».

Рис. 96. Папирусный документ, составленный в 551 году в Равенне (внизу – многочисленные подписи)
Этот документ подписали очень многие люди: арианский Папа Уфитахари, двое пресвитеров – Виталиан и Оптарит, диакон Суниафритас, иподиакон Петр, трое клириков – Вилиарит, Павел и Тевдила, двое законников (ученых мужей) – Мерила и Вилиарит и другие. Из документа видно, что готская церковь св. Анастасии имела большой штат священников и недвижимую собственность. Но уже через несколько лет Юстиниан I передал все движимое и недвижимое имущество всех готских храмов в Равенне и ее окрестностях архиепископу Агнеллу. И архиепископ сделал все от него зависящее, чтобы возвратить эти еретические храмы в лоно Ортодоксальной Церкви. К нашему большому сожалению, Агнелл считал, что нужно безжалостно разрушить все напоминающее о варварах, исповедующих другую веру, – в том числе и великолепнейшие мозаичные панно во дворцовой церкви Теодориха.
Разумеется, он тут же приказал изготовить из мозаики поясной портрет Юстиниана I в этой церкви. Точно так же действовали ортодоксальные христиане и в других городах и весях. И довольно скоро все остготское исчезло из общественной жизни Италии, за немногим исключением тех мест, где остготы жили общиной. Те римляне, которые верой и правдой служили Теодориху и его преемникам, стали персонами нон грата еще до того, как Остготское королевство перестало существовать. Одним из таких людей был Кассиодор. Что должны были делать верно служившие остготам знатные римляне после того, как Велизарий в 540 году отправил в Константинополь всю королевскую семью и большинство высокопоставленных остготских сановников и стало совершенно ясно, что отныне страной будут править византийцы? Пойти на службу к императору? Но для этого они были слишком горды и слишком стары. И они перестали участвовать в общественной жизни страны. Правда, не все. Такие римляне, как Кассиодор, для которых работа была смыслом жизни, не могли сидеть сложа руки. В то время в самых широких кругах населения Италии стал распространяться религиозный аскетизм. И поскольку эти римляне прекрасно осознавали огромную роль Церкви – особенно в те дни, когда страна начинала приходить в упадок, – они посвятили остаток своей жизни и всю свою энергию церковно-религиозной и монастырской деятельности. Они отдали часть своих земельных владений под монастыри и, став духовными отцами монастырских братии, трудились без устали в тесном кругу своих единомышленников. Основной своей целью они считали спасение человеческих душ и обеспечение духовных потребностей человека – как настоящего, так и будущего. Примерно в 540 году Кассиодор, после того как он в течение десятилетий верой и правдой служил четырем остготским королям, вернулся в Южную Италию, в принадлежавшее ему в провинции Бруттия [64]64
Ныне – провинция Калабрия. (Примеч. пер.)
[Закрыть]поместье, и неподалеку от Сквиллаце основал Виварийский монастырь. В это же время патриций Либерии основал монастырь в Кампании.

Рис. 97. Мозаичный портрет Юстиниана I в церкви дворца, принадлежавшего Теодориху Великому
Эти люди услышали настойчивое веление времени и постарались следовать ему. Так, святой Бенедикт (а многие другие сделали это раньше его) в 525 году удалился от мира, а в 529 году отправился из Субиако и Монте-Кассино в добровольное изгнание. Какие все же разительные перемены произошли в VI веке! Верные ученики святого Северина «перенесли его останки в Неаполь и похоронили их на вершине выступающей в море скалы, где красовалась великолепная вилла Лукулла, которую они превратили в монастырь… Святой и его набожные монахи пришли на смену известному своей расточительной роскошью Лукуллу – это весьма яркий символ… С таким же достоинством вступил во владение виллой императора Нерона в верхнем Анио святой Бенедикт, а святой Колумбан и его соратники стали владельцами античных терм того же императора в Луксовии. Подобные события весьма осязаемо демонстрируют знамения времени».
Истинная значимость деятельности этих скромных людей выходит далеко за пределы и их страны, и их времени! Святой Бенедикт ввел в своем монастыре разработанный им до мельчайших подробностей милосердный и мудрый устав, даже не подозревая о том – а распространение этого устава в мире шло очень медленно, – что западноевропейское монашество постепенно перейдет на новые рельсы и что дела монахов-бенедиктинцев получат в последующие 500 лет мировое признание. Широкому кругу своих современников святой Бенедикт был известен как истинный праведник, которого навещал сам король Тотила. Там, наверху, на живописной горе, возвышающейся над Сан-Жермано, он творил добро примерно в те же дни, когда Кассиодор шел той же дорогой: независимо от Бенедикта, о котором он нигде ни разу не упомянул, основал свой монастырь.

Рис. 98. Виварийский монастырь (рисунок пером, VIII век)

Рис. 99. Ездрас в одеянии монаха Виварийского монастыря
Принятое шестидесятилетним Кассиодором решение об основании монастыря имело для развития духовной культуры огромное значение. Вложив в этот монастырь огромные средства, Кассиодор не только собрал в нем многие духовные ценности того времени и оборудовал его, как мы теперь говорим, по последнему слову техники, но и всячески поощрял научную деятельность своих монахов. В уставе монастыря св. Бенедикта об этом не говорится ни слова, в нем речь идет лишь о философских размышлениях и физическом труде. Кассиодор же стремился к тому, чтобы размышления сочетались с изучением явлений в мире. Правда, нужно сказать, что за несколько десятилетий до этого Цезарий, епископ Арльский, вменял в обязанность как монахов, так и монахинь переписывание книг. И у нас нет ни малейших сомнений в том, что в деле сохранения античной культуры Южная Галлия – а ее романизированные кельты относились к этой культуре с уважением – имеет чрезвычайно большие заслуги. Но, к сожалению, нам ничего не известно о том, располагали ли в то время другие монастыри подобными денежными средствами и работали ли они в том же направлении, что и монастырь Кассиодора. Поэтому мы должны признать именно его основоположником средневековой монастырской школы научного направления. Уже став самым высокопоставленным сановником Остготского королевства, Кассиодор обратился к Папе Агапиту с предложением открыть в Риме и для лиц духовного звания, и для мирян богословскую школу – по образцу знаменитых античных школ Александрии и Нисибиса [65]65
Ныне – г. Нусайбин. (Примеч. пер.)
[Закрыть]. Разразившаяся в то время готская война помешала осуществить этот план. Теперь же Кассиодор, целенаправленно и планомерно внедряя в жизнь монахов занятия наукой, сделал Виварийский монастырь школой, где изучались и духовные, и светские дисциплины. В качестве основополагающего тезиса был избран такой: аскеза должна базироваться на правильном понимании Священного Писания. Именно поэтому Кассиодор прежде всего требовал от монахов серьезного изучения этого творения человеческой мысли. Но этот процесс предполагал наличие у них знания светских наук, artes liberates. И конечно же, Кассиодор требовал от монахов и этого, а для того, чтобы добиться успеха в изучении и духовных, и светских наук, была совершенно необходима большая хорошая библиотека. Используя и свои деньги и свои связи с сильными мира сего, Кассиодор приобрел рукописи христианских и языческих, теологических и светских авторов, так что в его библиотеке была представлена, пожалуй, вся литература VI века, известная в Западной Европе. В своей превосходной книге «Сенатор Магн Аврелий Кассиодор», изданной в Бреслау [66]66
Ныне – г. Вроцлав. (Примеч. пер.)
[Закрыть]в 1872 году, А. Франц на страницах 80–92 (!) приводит каталог этой монастырской библиотеки, количество книг в которой, посвященных самой разнообразной тематике, не может не поражать. Наряду с собиранием сочинений перед Кассиодором всегда стояла проблема организации их качественного переписывания. Точно так же, как это делали в миру Симмах и его окружение, Кассиодор внимательно следил за тем, чтобы с каждой рукописи была снята образцовая копия. В те дни это было более чем необходимо, ибо в грозные военные годы интерес к литературе пропадает, прекрасные библиотеки гибнут и в воздухе постоянно витает угроза невосполнимых потерь. И благодарные потомки никогда не забудут того, что Кассиодор не только сохранил уникальные книги своей библиотеки, но и подал хороший пример другим собирателям рукописей. Как уже говорилось, Кассиодор придавал огромное значение тщательному изучению монахами Священного Писания, а также связанных с ним различных исторических текстов. Безусловно, многие ученые мужи работали с текстом Библии и до Кассиодора. В своей работе он опирался на их труды, главным образом – на сочинения уже названного выше аббата Эвгиппия из Лукулланума, который прислал Кассиодору и тексты Евангелий. Фрагменты труда Кассиодора, посвященного трактовке Библии, содержатся в попавшем к нам из Англии Codex Amiatinus, исходной формой которого была копия кассиодоровского текста. На наше счастье, сохранился даже подлинник Библии, датируемый 545–547 годами, то есть тем промежутком времени, когда Тотила и Велизарий вели ожесточенную борьбу в Южной Италии. Это – Codex Fuldensis, самая драгоценная жемчужина библиотеки города Фульды; в этом Кодексе находится Новый Завет, текст которого подкорректировал ученый епископ из Капуи Виктор, причем он указал и точную дату окончания своей работы. Для того времени было весьма характерным стремление улучшить текст Библии, и от этого не удержался и бывший министр Теодориха.
В том возрасте, когда многие люди прекращают активно заниматься делами, Кассиодор с юношеской энергией руководил созданной им при монастыре широко известной, но все же не получившей до сих пор достаточно высокой оценки научной школой. Ему очень хотелось, чтобы его идеи не умерли вместе с ним, и он посвятил много сил и времени составлению методических руководств по изучению церковных и светских наук. Кроме того, он составил подробные и точные практические указания, касающиеся возможно допустимой корректировки при копировании книг и рукописей; в них шла речь о правилах орфографии и постоянной добросовестности. Единомышленники Кассиодора, из которых нам известны Епифаний, Мутиан и Беллатор, всячески поддерживали его начинания – как переводами греческих поэтов и писателей, так и составлением комментариев к различным сочинениям; причем Кассиодор сам подал им пример, написав пояснительные тексты к Псалтирю и парафразы всех Посланий апостолов, Деяний святых апостолов, а также Откровения святого Иоанна Богослова.
Воспользовавшись переводом сочинений трех греческих историков Церкви, который сделал Епифаний, Кассиодор написал свою «Историю Церкви», которая, несмотря на то что, конечно же, была далека от совершенства, широко использовалась в Средние века как учебник и справочное пособие. Практически все свои литературные работы Кассиодор посвятил решению следующих грандиозных задач: вызвать всеобщий интерес к Священному Писанию, научить людей понимать его тексты и сохранить их для будущих поколений. И подобный подвиг был вполне по плечу Кассиодору – человеку, обладавшему незаурядными способностями и чрезвычайно разнообразными, энциклопедическими знаниями. К тому же он был государственным деятелем и хорошо знал, что и как нужно делать. Кассиодор заслужил искреннюю благодарность потомков тем, что в огромной степени именно благодаря ему в монастырях раннего Средневековья появились школы, которые не только занимались изучением различных наук, но и широко пропагандировали античную литературу. Кассиодор был чрезвычайно высоко оценен и своими современниками, особенно теми людьми, которые ставили перед собой те же цели, что и он. В начале VIII века Исидор, архиепископ Севильский, собрал в вестготской Испании большое количество произведений античной литературы, посвященных самым разным областям знаний. Тогда же на севере Англии жил и творил выдающийся писатель и ученый Беда Достопочтенный. А живший во Франкском королевстве времен Карла Великого энциклопедист Алкуин творчески переработал труды Кассиодора и в начале VIII века сделал их достоянием всех европейцев. И чем больше мы узнаём о научной и культурной деятельности Кассиодора, тем яснее понимаем, какой титанический труд он совершил.
Этот верно служивший остготам римлянин с тревогой наблюдал за тем, что происходит в стране, и все же не терял надежды на лучшие времена. У очень немногих провизантийски настроенных знатных римлян, которые по окончании войны остались, тем не менее, жить в Италии, не вызвало особой радости окончание правления варваров в этой стране. Ущерб, причиненный Италии в результате борьбы остготов с византийцами, был чрезмерно большим. Количество жителей Италии, погибших в ходе этой кровавой двадцатилетней войны, исчислялось миллионами. Самые крупные города Италии лежали в руинах, в них практически не было людей. Вся равнинная часть страны опустела. Рим стал лишь бледной тенью того величественного города, которым он был при Теодорихе. «В то время жители Рима представляли собой лишь крохотную кучку людей (по сравнению с количеством прежних граждан этого города и аристократов), которые составляли народ квиритов, и рабов, которые им прислуживали. Никакой другой тяжкий период в жизни Рима не унес такого количества жизней его обитателей и не нанес таких сильных разрушений ему самому. Как хотел бы тогдашний Senatus Populusque Romanus, сохранив свое чванство среди полуразрушенных великолепных зданий, вновь почувствовать себя повелителем народов! Городские ворота, термы, портики сохранили свои гигантские размеры, хотя от их прежней красоты не осталось и следа; теперь Рим был населен голодающими людьми, бесчисленное количество аристократов и крупных чиновников стали нищими; слабое утешение и надежду, так же как и ежедневное пропитание, можно было отныне найти только в диакониях [67]67
Благотворительная христианская община. (Примеч. пер.)
[Закрыть], базиликах и монастырях». И разумеется, все люди, живущие в Италии, больше всего опасались того, что подобная тяжелая ситуация сохранится в стране очень долго. Никто не знал, сколько лет будет править Италией византийский император. После гибели Остготского королевства Юстиниан I правил Италией чуть менее 15 лет. При этом императоре в последний раз ярко проявилось античное имперское самосознание римлян. Прошло три года после его смерти, и в мае 568 года из провинций Паннония и Норик по той же дороге, которой шли Аларих I и Теодорих Великий, в Италию вторглось последнее из оставшихся восточногерманских племен – лангобарды, в войсках которых служили гепиды, саксы, славяне и представители некоторых других народов. Король лангобардов Альбоин избрал своими резиденциями дворцы Теодориха Великого в Вероне и Павии.