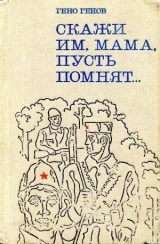
Текст книги "Скажи им, мама, пусть помнят..."
Автор книги: Гено Генов-Ватагин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
СВОБОДА
Эх, время, время, неповторимое,
время нашей огневой молодости!
МАРШ РЕВОЛЮЦИИ
8 сентября 1944 года Первая среднегорская бригада имени Христо Ботева спустилась в село Розовец, славившееся своими революционными традициями. Народ встретил нас так, как некогда встретил русских освободителей[26]26
Речь идет об освобождении русскими войсками Болгарии от турецкого ига в 1878 году. – Прим. ред.
[Закрыть]. И стар и млад вышли из своих домов, и тесные, кривые сельские улочки наполнились народом. Рукопожатия, объятия, рыдания, слезы! И вопросы, вопросы о знакомых и близких. Каждый приглашал нас в гости. Каждый приносил нам еду и цветы.
На митинге на площади выступил Морозов.
– Товарищи, – начал он, – поздравляю вас! Свобода!
И тут со всех сторон загремело:
– Да здравствует свобода!
– Слава народным партизанам!
– Настал день, во имя которого пало в борьбе столько наших товарищей, – продолжил Морозов. – Сегодня в городах и селах народ встречает партизан и братьев-освободителей. Веселитесь, товарищи, сегодня день нашего общего ликования!
Морозов никогда не считался хорошим оратором, но его слова необыкновенно всех взволновали. И долго после этого на площади отплясывали хоро.
Старый, покосившийся сельский дом превратился в партизанский штаб. Закипела работа. Впервые мы связались по телефону с Пловдивом, с тогдашним областным управлением. Поговорили довольно резко с пловдивскими военными властями и разными выскочками из их окружения. Нам отвечали растерянные голоса.
На следующий день снова связались с Пловдивом. Наши товарищи передали приказ: как можно скорее двигаться по направлению к городу и по дороге не задерживаться в селах.
Среди крестьян весть о взятии партизанами Розовца разнеслась молниеносно. Наш телефонист, особенно довольный тем обстоятельством, что служит новой власти, быстро соединял и разъединял абонентов и едва успевал отвечать соседним селам: «Вас слушают партизаны. Говорят, что не могут прийти в ваше село – торопятся в Пловдив», «Есть еще время, подождете!».
Первая ночь иа освобожденной территории!.. Эта ночь прошла в бесконечных разговорах и мечтах о том, что будет завтра.
Рассвело. Все куда-то торопились, поздравляли и приветствовали друг друга.
В отрядах закипела лихорадочная подготовка. Одни украшали свои шапки цветами, другие чистили обувь, скатывали одежду. Каждый партизан хотел блеснуть перед восторженным населением. На улицах не стихал гомон.
Дядя Смилян уже развертывал знамя бригады. Самый пожилой среди партизан, он всегда относился к нам по-отечески и с известной долей придирчивости как наставник. Этот улыбающийся балагур всегда находил, что сказать каждому из нас. Занимаясь раздачей продуктов в отряде, он обычно делал это с шутками и поговорками, скрашивающими наш суровый быт.
– Послушай, Диана, – говорил он, – нельзя же так, надо хоть немножко поправиться. Вот тебе от дядьки Смиляна еще одну ложку добавки! – И он наливал в Дианину кружку дополнительно похлебки, а та морщилась и краснела, чувствуя себя очень неудобно из-за того, что ей досталось немного больше, чем другим.
Примерно в полдень 9 сентября бригада построилась в колонну. В тесных улочках толпились люди. Все село вышло нас провожать.
Мы запели и торжественным маршем направились по шоссе в Пловдив.
Шумите, горы и дубравы,
Шумите, вольные леса,
Шагают смело партизаны,
Народа верные сыны.
В горах разнеслось эхо нашей песни, и нам показалось, что горы тоже запели вместе со своими верными защитниками. Кое-кто обернулся назад, чтобы еще раз взглянуть на вершины Братан, Бакаджик и еще раз попрощаться с родными горами, с людьми из Розовца.
Нам казалось все настолько необычайным, фантастическим, что радость и грусть слились в одно. Во главе колонны шагали Морозов, Полски, Боцман и Камен, а в нескольких шагах впереди, выпятив грудь, шел дядя Смилян с развевающимся знаменем в руках. Он выглядел торжественным и важным и, забыв о своих обычных шутках, чеканил шаг, крепко сжимая древко знамени.
Самым большим уважением пользовались наши девушки. Живка была первой женщиной-партизанкой и чувствовала себя счастливой. Мы направлялись в Пловдив, туда, откуда ей пришлось уходить в горы. Диана, более молчаливая, переживала все в себе. У нее были свои заботы: она торопилась в Пловдив в квартал Борислав. Наверно, в мыслях представляла себе встречу с братом Желязко и сестрой Мичоной, находившимися в фашистской тюрьме. Ей не терпелось встретиться и с дедом Видю – славным человеком, дом которого превратился в своеобразный штаб революции. Видю был закаленным борцом и передал эту закалку своим детям и внукам. И вот Диана представляла себе его поседевшим, состарившимся, но все же бодрым и улыбающимся.
Дорога в Пловдив вела через Зелениково, Брезово, Генерал-Николаево, Стряма. Повсюду, где мы проходили, с обеих сторон шоссе выстраивались толпы народа, собравшегося из всех соседних деревень. Сияющие от радости люди кричали, приветствуя нас красными флажками:
– Да здравствуют партизаны!
– Да здравствует Красная Армия!
– Видишь, вон там Балканский, Стенька – живы, милые!
Слышались и рыдания. Загрубевшие от работы материнские руки тянулись к нам:
– Милок, а где вы оставили моего сына?
Кое-кто выходил из колонны, чтобы обнять своих измученных тревогами матерей.
Колонна не останавливалась. А осиротевшие матери обнимали нас так, как обнимали бы своих сыновей, которые уже никогда не вернутся. Не смолкали песни. Нам бросали цветы, и время от времени кто-нибудь от восторга стрелял в воздух.
В Зелениково нас встретили несколько грузовиков, автобус и легковая машина. Колонна снова отправилась в путь, но уже моторизованная.
Встреча с брезовцами была особенно торжественной. Почти все население вышло на северную околицу села. Сотни глаз смотрели на нас, ликующие, печальные, полные теплых материнских слез.
Первой меня обняла тетя Стана – сестра отца. Мама же оцепенела и просто не знала, что ей делать.
На площади в селе торжествовала тысячная толпа народа.
– Мы требуем устроить митинг! Видите, сколько народу собралось?
Мы не смогли отказать, хотя нам и следовало торопиться в Пловдив. Выступить пришлось мне, тем более что родом я из Брезово. Я посмотрел с балкона на огромную толпу людей, собравшуюся на площади, вытащил парабеллум и выстрелил два раза в воздух. И тут уж не выдержала вся бригада, и сразу пятьсот выстрелов из самых разных видов оружия слились в единый залп. Раздалась и огненная песня нашего единственного пулемета, который находился в надежных руках Гюро. О чем я говорил после этого импровизированного салюта в честь нашей победы – теперь уже не помню. Только помню, что, задыхаясь от волнения, крикнул:
– Вечная слава героям, пролившим свою кровь во имя того, чтобы наступил этот светлый день! Родные наши матери, снимите черные платки и улыбнитесь! Ваши сыновья будут жить в веках! Тот, кто пал в бою за свободу, тот не умирает!
В село Стряма попали к вечеру. Там квартировал кавалерийский полк. О его настроении мы не имели никаких сведений. Солдаты, судя по всему, ждали наших приказов. А что будет с их полком, с командирами, которые до этого вели их в бой против партизан?
Командир полка пригласил нас на ужин. Мы приняли его приглашение, но на всякий случай обеспечили себе надежную охрану. Столы накрыли в школьном зале, и имеете с нами туда явился и Гюро со своим легким пулеметом. Так прошел наш первый дипломатический прием.
Мы уже видели перед собой Пловдив. Он весь сверкал тысячами огоньков. В революционный Пловдив, где в бедности, голоде и борьбе прошла наша молодость, мы теперь вступали свободными людьми, героями, победителями.
Все было как в волшебном сне. Вот квартал Каршиак, где прошли мои тяжелые годы, когда я работал подмастерьем. Светились пловдивские холмы, где я не раз скитался в дни безработицы. И мне вспомнилась ночь 1941 года в канун годовщины Октябрьской революции. Вместе с Малчиком мы стояли на Бунарджике, не зная, где найти убежище, и могли только мечтать о будущей счастливой жизни.
И вот теперь город ликовал, встречал нас тысячами объятий, поцелуев, засыпал цветами. В нашу честь распахнулись все окна. Эх, нет Малчика, чтобы и он порадовался вместе с нами!
Рядом со мной стоял мой друг Банко. А Боцман, этот беспредельно честный борец, жмурился от ослепительного солнца и молча улыбался.
– Помнишь, Банко, годы, когда мы с тобой работали подмастерьями? Помнишь первомайские демонстрации, когда мы шли по этой же улице с красными ленточками, наколотыми на пиджаках, и пели, а вокруг нас что-то кричали полицейские и их агенты? А потом аресты, тяжелые испытания, и снова борьба. Ты помнишь все это, Банко?
Но Банко, ошалевший от счастья, был не в состоянии вымолвить ни слова.
Разве можно забыть таких товарищей, как Штокман, Бойчо, Кючук, Любчо! О них будут слагать песни…
Партизанское движение в Среднегорье многим обязано Штокману, и его имя никогда не забудут в этих краях. При его активном содействии осенью 1941 года в партизанские отряды ушли чехларцы, брезовцы, свеженцы, омуровцы. Сурового и благородного Штокмана любили и повсюду ждали с нетерпением. Штокман был опорой отряда…
Бригада имени Христо Ботева торжественным маршем с песнями направилась к центру города, где договорились собраться все партизаны из второй оперативной зоны.
В этот сентябрьский день нам казалось, что солнце светит ярче обычного. Улицы шумели, народ ликовал. Встречать нас явились все рабочие Пловдива. Сколько любви, слез и счастья! Я никогда в жизни не испытывал такой огромной радости, никогда не чувствовал себя таким гордым и сильным, как в тот незабываемый день.
Колонна партизан вышла на площадь, где уже высились арки и трибуна.
А кругом море людей. Дядя Смилян высоко поднял наше знамя и произнес:
– С фашизмом покончено! Теперь хозяин – народ!
ГЛАС НАРОДНЫЙ
Первые дни свободы мы провели как во сне. Сколько бы мы ни мечтали о свободе, как бы ни представляли себе долгожданный день победы, наша фантазия не могла представить всего величия этого огромного события. Оно в действительности оказалось таким грандиозным, таким необыкновенным, таким счастливым!
Пловдив – этот большой революционный город, так тяжело дышавший в огне борьбы, – теперь выглядел оживленным и необычайным. Повсюду встречались люди, вооруженные, возбужденные, неудержимые в выражении своих чувств. На улицах, тротуарах, площадях – сердечные встречи, объятия, слезы, рыдания. Близкие и незнакомые, молодые и пожилые – все представляли собой одну непрестанно движущуюся волну. Люди ликовали, скорбели, выражали сочувствие друг другу. Начались первые дни жизни новой власти, первые ее шаги – шаги чего-то нового и великого. Сходили со сцены старые тузы, торговцы и генералы. Теперь Боцман, Морозов, Голубь и Дыбов стали у власти. Бороться против старого оказалось значительно легче, чем создавать новое.
Мы снова перестали спать. Да разве можно было спать в такие времена! Дядя Смилян, знаменосец бригады имени Христо Ботева, после того как мы ступили на центральную площадь города, торжественно заявил:
– С фашизмом покончено!
Но нет, с фашизмом еще не было покончено. Борьбу следовало продолжать.
Казармы кипели и стали похожи на потревоженный ульи: солдаты арестовывали полковников, срывали с них мундиры и погоны. Боян Былгаранов, как глашатай свободы, переходил из казармы в казарму, с митинга на митинг, снимал с должностей старых офицеров и назначал новых.
Пришло сообщение, что моторизованный полк из Хасково направляется в Пловдив. Офицеры царской армии возглавили и повели этот полк против новой власти. Штаб партизан поднял по тревоге свои боевые отряды и воинские части, и за несколько часов им удалось разгромить этот полк. Солдаты вернулись обратно в Хасково, но уже во главе с новыми командирами. А Харитон повел в Пловдив целую группу арестованных офицеров.
– Ватагин, говорю тебе, это разбойники! Вон того, плешивого, видишь? У него при обыске нашли уйму всякого добра. Грабил народ! Ворюга!
Арестантские помещения были забиты задержанными офицерами. В такой момент очень трудно судить, кто, какое и за что заслуживает наказание.
Вот почему мы создали военно-следственную комиссию. В состав комиссии, которой руководил Димитр Георгиев – старый пловдивский коммунист и известный адвокат, – вошел и я. В распоряжение комиссии предоставили моторизованную группу партизан под командованием Голубя.
Мы обошли все казармы в городе и повсюду быстро навели порядок. Заседали на местах, уточняли, кого и за что надо судить, а невиновных тут же освобождали.
Однажды нам сообщили, что на аэродроме в Граф-Игнатиево, всего лишь в нескольких километрах севернее Пловдива, тайно готовится заговор против власти Отечественного фронта. Командование этого авиационного полка активно преследовало партизан, а сам аэродром превратился в полицейский участок. Еще в 1943 году летчики арестовали многих наших товарищей и некоторых из них расстреляли без суда и следствия. Среди расстрелянных оказался мой друг и земляк Радко Попов. И вот когда мне предстояло принять участие в расследовании положения в Граф-Игнатиево, у меня перед глазами неотступно стоял Радко, мой дорогой, незабываемый Радко.
Я взял с собой моторизованную группу под командованием Голубя, и мы отправились в Граф-Игнатиево.
Выдался теплый сентябрьский день. Пловдив все еще бурлил. Мы проехали весь квартал Каршиак и через полчаса прибыли на аэродром.
На взлетных площадках у нескольких самолетов прогревались моторы, а офицеры и солдаты бесцельно слонялись по всему аэродрому.
– Вот уже сколько времени мы вас ждем, товарищи, – заявили они. – Ведь здесь пока еще не ступала нога ни одного из представителей новой власти. Все приспособились к обстановке и стали выдавать себя за коммунистов.
Товарищи из соседних сел, очевидно, не решались показываться на аэродроме, да и люди из полка тоже боялись появляться в селах.
Я приказал, чтобы все собрались в клубе. Трубач сыграл сбор. В скором времени весь зал был набит до отказа. Во дворе в полной боевой готовности остались лишь люди Голубя.
Собрание продолжалось более часа.
– Товарищи солдаты, господа офицеры, – начал я. – Над порабощенной Болгарией взошло солнце свободы. Прежней преступной власти Кобургов, убийц и шарлатанов, уже не существует.
– Ура-а! – закричали солдаты. – Да здравствует правительство Отечественного фронта! Смерть врагам народа!
– Да, справедливое возмездие, смерть ждет врагов! – подтвердил я спокойно. – Их будет судить народный суд, но вместе с ними он будет судить и тех офицеров, которые стреляли в патриотов. Здесь, на этом аэродроме, погиб мой верный друг и преданный сын Болгарии Радко Попов. Убийцы его находятся здесь, среди вас.
И тут началось что-то невообразимое.
Мы арестовали нескольких человек и назначили новое командование. Солдаты проводили нас торжественно, с почестями.
Было заменено командование и во всех частях Пловдивского гарнизона. Только в штабе армии нам никак не удавалось навести порядок. Командование армии отправлялось на фронт. В городе оставался лишь штаб второй дивизии во главе с полковником Стоевым. Вот они и занялись мобилизацией фашистских элементов, одевали их в военную форму и никуда не выпускали, пытаясь всех постепенно переправить на фронт, чтобы дать им возможность избежать возмездия народа.
Ни один партизан еще не переступил порог штаба. Первым в этом осином гнезде появились Димитр Георгиев, Голубь и я.
В помещении оказалось много офицеров. Они с весьма озабоченным видом входили и выходили, и все куда-то торопились. Одни из них уже надели фронтовую форму, а другие еще оставались в своей офицерской форме мирного времени.
– Митя, пошли прямо в кабинет полковника Стоева. Начнем оттуда, а потом посмотрим.
Димитр Георгиев, весьма интересный и на редкость культурный человек, пользовался в городе большой известностью и как оратор, и как постоянный защитник наших товарищей во время фашистских судебных процессов. Ему и самому доводилось сидеть во многих тюрьмах и концентрационных лагерях.
Мы вошли через главный вход. Часовой улыбнулся нам, откозырял, но не сказал ни слова. Мы проследовали по длинному коридору. Несколько офицеров рассматривали нас с явным недоумением.
– А это что еще за птицы? – спросил один из них.
– Партизаны! – отрезал я. – А вы, господа, кто такие? Ну-ка подойдите ближе!
Те засуетились.
– Подойдите ближе! Приказываю вам! – И я наставил на них пистолет.
Офицеры растерялись. Они явно не знали, что же им делать.
– Но, господа, мы же офицеры!
– Вижу! – Димитр тоже вынул пистолет. – Где здесь кабинет командира дивизии полковника Стоева?
Один из офицеров прищелкнул шпорами:
– Прошу за мной, господа!
Он торопливо пошел впереди и раскрыл перед нами дверь.
Мы очутились в комнате адъютанта. Молодой вылощенный офицер звякнул шпорами и предложил нам сесть.
– Скажите, здесь полковник Стоев? – строго спросил Димитр.
– Так точно, господа! А кто вы такие? Как доложить о вас?
– Оставайся на своем месте! – предупредили мы его и ворвались в кабинет командира дивизии. Там за столом сидел высокий мужчина лет пятидесяти, с зализанными волосами, увешанный орденами и аксельбантами. Он смотрел на нас с недоумением. Не дав ему сказать ни слова, мы направили на него пистолеты. Побледнев, полковник поднял руки вверх и пролепетал:
– Да как же так, господа, да я…
– С вашей властью покончено, полковник Стоев! Отныне вы уже не командир дивизии. Вы арестованы!
– Но, господа, я за новую власть, я ее не отвергаю!
– Нельзя же служить двум богам, господин полковник, – прервал его Димитр. – Комиссия все обсудит и решит. Перед вами члены военно-следственной комиссии. Но я еще хочу напомнить о том, что нам известны действия вашей дивизии в Среднегорье. Вам придется отвечать за сотни партизанских смертей, за тысячи черных траурных платков, господин полковник. Стойте смирно перед народными представителями!
Полковник Стоев вытянулся в струнку. Казалось, даже аксельбанты на нем потеряли весь свой блеск. Он попытался взять свою фуражку, но я его остановил:
– Обойдетесь и без нее, господин полковник. Перед народным судом все равно придется снять шапку. Прошу сдать оружие! Возьмите у него! – дал я знак Голубю.
Ребята Голубя взяли под стражу командира второй дивизии, именно той дивизии, которая проводила блокаду Среднегорья осенью 1943 года.
На следующий день часть штаба второй оперативной зоны перешла в помещение штаба армии.
Революция продолжалась.
Эх, время, время! Неповторимое время нашей огневой молодости!
НЕМНОГО О ПРОШЛОМ
Хотя я и знал, что мне нелегко будет перенести встречу с матерью погибшего партизана Бойчо, смерть которого в расцвете молодости была трагична, но все же какая-то неведомая сила все время тянула меня зайти в его дом. И однажды я очутился у калитка его дома.
– Тетя Аврамица!
Матери погибших партизан всегда начеку, всегда чего-то ждут.
Тетя Аврамица, маленькая женщина, сломленная горем, повязанная черным платком, делавшая что-то во дворе, сразу же обернулась ко мне. Она впилась глазами в мое лицо и словно оцепенела. Немного погодя она подошла к виноградной лозе, оторвала спелую гроздь и протянула ее мне своей жилистой материнской рукой, которой когда-то гладила волосы Бойчо. Поверх платья она повязала передник, как в тот страшный день, когда она несла в нем отрезанную голову сына.
Она продолжала неотрывно, сквозь слезы, смотреть на меня глазами, которые, казалось, никогда не высыхали.
– Ну иди сюда, садись рядом, – сказала она и обняла меня. – Дай я посмотрю на тебя вблизи. Когда приходит ко мне в гости друг Бойчо, мне все кажется, что вот-вот появится и он, мой ненаглядный, что ушел от меня таким молодым.
И ее слезы обожгли меня.
– Эх, Генко, – взяла себя в руки тетя Аврамица, – в детстве вы с Бойчо были очень похожи друг на друга. Ведь мы же родственники. Однажды во время жатвы я узнала, что вы подрались из-за какого-то пустяка. Сколько же я его ругала тогда! «Вам нельзя ссориться между собой и драться. Вы вместе росли, к тому же двоюродные братья. Да Генко и старше тебя».
– Мальчишкой он не дрался, тетя Аврамица, – перебил я ее и рассказал, при каких обстоятельствах мы однажды поссорились с Бойчо, с которым впоследствии стали неразлучными друзьями.
– Это все были детские шалости, – промолвила тетя Аврамица. – Бойчо славился упорством: если скажет что-нибудь, то обязательно сделает.
– И в партизанах остался таким же. Если считал себя правым, то мог хоть в огонь броситься.
– И жизни не пожалел, – вздохнула тетя Аврамица. – Хоть бы во сне мне не так часто являлся. Как увижу его, сердце начинает так сильно биться, что не выдерживаю и тут же просыпаюсь. Если б ты знал, как мне хочется приласкать его, увидеть живым. А вижу только его отрезанную кудрявую голову. Столько лет прошло с тех пор, а все никак не могу представить свой дом без него.
Хлопнула калитка, и во двор вошел дядя Аврам, отец Бойчо.
– Ах, да у нас гости! Добро пожаловать, сынок!..
Дядя Нончо, так его называли мои земляки, видно, немного выпил, но шагал легко и имел бодрый вид. Несмотря на годы и тяжелые испытания, свалившиеся на его голову, он остался жизнерадостным человеком. Небольшого роста, худой, но всегда с великолепной выправкой, он то и дело поводил то одним плечом, то другим, чтобы не соскользнула наброшенная на плечи шуба, и как-то грустно улыбался. Посмотрев на тетю Аврамицу, он вдруг напустился на нее:
– Ты опять плакала, старуха? Хватит проливать слезы! Да ты посмотри, какой у нас гость! Как будто сам Бойчо пришел к нам. Ну-ка налей нам вина, надо попотчевать гостя, а слезы прибереги для моих похорон!
Тетя Аврамица встала, вытерла уголком черного платка глаза. Только она принесла кувшин вина, как в комнату вошли Иван Гинов, Генко и Кольо.
– Старуха, а вот и еще наши сыновья. Да ты только посмотри, сколько любящих сыновей у нас!
Дядя Аврам пользовался уважением и заслуживал почестей не только потому, что вырастил двух смелых партизан, явившихся гордостью партизанского движения в Среднегорье, но и потому, что вступил в Коммунистическую партию еще в 1919 году и стал одним из основателей ее ячейки в Брезово.
Кувшин переходил из рук в руки. Дядя Аврам время от времени вдруг замолкал. Держа в руках кувшин, полный ароматного брезовского муската, он неожиданно пускался в трогательные воспоминания. А тетя Аврамица присела на низенький стул в углу. Мне казалось, что она вовсе нас и не слушает. Только иногда она вставала и приносила еще чего-нибудь поесть то из буфета, то из погреба. А старый коммунист рассказывал:
– Это произошло 9 февраля 1944 года. Выдался погожий, теплый день. В феврале редко случаются такие теплые дни. Все село вышло в поле: начали сеять вику. Я измучился пахать на двух молодых волах, которые еще не были обучены. Взял с собой и тетю Аврамицу: она вела их на поводу. Ведь молодые волы, как дети, – их надо вести за собой и напутствовать. Старый вол – совсем другое дело. Он знает борозду не хуже меня. – И дядя Аврам поднес кувшин к губам.
Мы все внимательно слушали. И не потому, что не знали о случившемся в тот день. В рассказе отца звучала и скорбь, и гордость, и какое-то поразительное мужество, покорявшее слушателей. Он уставился в одну точку и только иногда посматривал на содержимое кувшина, как будто в нем черпал мудрость. А в углу то и дело мелькал черный платок матери Бойчо и слышались ее вздохи.
– Вдруг со стороны Айтепе послышалась стрельба, – продолжил дядя Аврам. – Во мне что-то оборвалось. Я остановился посреди поля и прислушался. Жена закричала: «Там наши, Аврам, беги!»
А куда бежать-то? Айтепе далеко. Да если и пойду туда, что же я смогу сделать голыми руками? Тетя Аврамица бросила все и хотела бежать в Айтепе. Как будто предчувствовала беду.
Раздался глубокий стон. В углу, закрыв лицо руками, рыдала мать Бойчо. На черном фоне ее одежды выделялись только две жилистые руки. Дядя Аврам, видимо привыкший уже к рыданиям тети Аврамицы, рассказывал:
– Мы еще долго без толку копошились в поле. Жена, как подстреленная птица, то и дело валилась на землю и рыдала, а я не знал, что делать. Даже волы и те, как бы почувствовав наше горе, стояли не шелохнувшись. Люди в поле засуетились, бросили пахать. Немного погодя мимо прошла какая-то женщина и сквозь слезы сказала нам, что троих убили, но кого – ей неизвестно. Знать-то, вероятно, знала, да как об этом рассказать.
Я распряг волов из сохи и запряг их в телегу.
Дядя Аврам отпил еще несколько глотков и снова заговорил:
– Мы въехали во двор и стали ждать. Ждать вестей. Жена присела на крыльцо, а я занялся чем-то и не спускал взора с калитки. А перед глазами у меня все Бойчо и Стенька.
Вдруг ворота с шумом распахнулись, и во двор ворвались полицейские. «Ну все – конец!.. – подумал я. – Моих сыновей убили». Жена запричитала. А эти изверги нагло приблизились к ней и бросили в ноги три отрезанные головы. А полицейский начальник, толстяк, встал над нею и спросил: «Ты узнаешь, чьи это головы?»
Тетя Аврамица, сидевшая в углу, встала, пошатнулась и ударилась головой о стену.
– Страшная, чудовищная картина, – простонал дядя Нончо. – Жена слова не могла вымолвить. Только гладила окровавленные волосы и все причитала: «Аврам, глянь, это же Бойчо! Неужели это Бойчо, Аврам? Для этого ли я тебя растила, дитятко мое?»
Я схватил топор и бросился на полицейских. Решил изрубить их на куски. Что делал – не помню. Помню только, что меня схватили и привязали к дереву.
Полицейские потом утверждали, что они не знали, чьи это головы, поэтому будто бы и принесли их к нам в дом. Негодяи, ведь Бойчо был им хорошо известен. Как же они могли его не узнать, если за его голову предлагали столько денег!
Отрезанные головы выставили на первом этаже школы, в одном из классов в левом крыле, и всех заставляли ходить туда смотреть на них. Три дня полицейские пили и гуляли в трактирах. Живодеры пропивали 150000 левов, полученных в награду за убийство трех партизан.
Все эти события потрясли село. Люди молчали, но проклинали матерей, родивших таких извергов.
На следующий день Иван Гинов и Тотю отправились на место убийства своих друзей и ножами вырезали на одном из деревьев: «Смерть фашизму!»
– Правду я говорю, Иван? – Дядя Аврам снова приложился к кувшину. Глаза его расширились от ужаса. – После 9 сентября я отыскал одного из тех головорезов. Он мне и рассказал все до мельчайших подробностей. Оказывается, полицейские наткнулись в лесу на спавших на склоне Айтепе партизан, окружили их.
Они набросились на наших ребят, как звери, как дикари. Ох и много горя хлебнул наш народ от этих извергов! Вот хожу я теперь и все думаю: ведь и ныне встречаются люди, забывшие о том, о чем не должны забывать до конца дней своих. Никому не желаю моей участи.
Видите эту женщину? – И он указал на свою жену. – Как свеча догорает. Встань же, старуха!.. А кое-кто только о власти мечтает и как бы получше устроиться. А новое время требует от людей, чтобы они обладали сильным духом и волей Благоева и Димитрова, чувством чести, характерным для тысяч павших в борьбе за свободу. Это надо понимать…
Но… я отвлекся, а мне хочется докончить мой рассказ. Наши упорно сражались против полиции и солдат. Несколько раз Бойчо удавалось бросить в полицейских их же не успевшие взорваться гранаты. Но фашисты все стягивали кольцо окружения и убили партизан и после этого заставляли солдат отрезать им головы. Но солдаты отказались выполнить этот приказ. Тогда пойманный мною жандарм – запамятовал его имя, да и не хочу его знать, – сам отрезал три головы и принес их в село.
Когда жандарм рассказал мне об этом, признаюсь, я не выдержал и пристрелил его на том же месте, как бешеную собаку.
Люди иногда теряют человеческий облик! – подытожил дядя Аврам. – Они бывают и страшными, и великими. Когда великое победит в людях страшное, тогда на земле наступит рай. Хоть бы мне, старику, дожить до этого чуда!..
Больше уже никто не притрагивался к кувшину. В углу содрогалась от рыданий фигура женщины в черном, а дядя Аврам продолжал проклинать все, что есть в человеке от дьявола.









