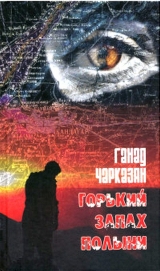
Текст книги "Горький запах полыни"
Автор книги: Ганад Чарказян
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Ганад Чарказян
Горький запах полыни
1
Прижимаясь к скале левым боком и постукивая посохом перед собой, я медленно продвигался по узкой каменистой тропке, опоясывавшей гору. Часто она просто прерывалась – на полметра или даже больше, вынуждая делать широкий и рискованный шаг. А иногда почти исчезала, становясь едва различимой. Тогда я на какое-то время действительно чувствовал себя слезой на реснице, готовой сорваться и очень долго падать, одновременно оплакивая самого себя.
В эти минуты я останавливался, прислонялся к холодной стене спиной, – холод доходил через рубаху с суконной жилеткой и плотный халат на вате, – и раскидывал руки крестом. Глаза глядели в небо, невзрачно-белесое, словно выгоревшее под солнцем. Я сосредотачивался, старался забыть обо всем, кроме этой узкой тропки, что могла оказаться последней в моей жизни. Я стоял, опираясь на пятки, а носки моих галош повисали над пропастью. Главное было уцепиться глазом за какой-нибудь, пусть самый маленький выступ, откинуться на скалу, максимально довериться ей, вжаться всем телом. Тогда и незначительной опоры хватало, чтобы продвинуться немного дальше. Но бывало, что и пятка соскальзывала и не сразу находила опору. Тогда я на какое-то время замирал, стоя на одной ноге, и пытался поставить правую ступню впереди левой – на носок. Потом на носок ставил левую и оказывался лицом, точнее щекой, к скале. Ее холодная и влажная после ночи шероховатость казалось той единственной лаской, на которую и была способна эта угрюмая, с базальтовыми выступами скала.
Случалось, что такие повороты вокруг оси приходилось делать один за другим. Если бы все эти движения я совершал на ровном месте и в быстром темпе, то получился бы афганский национальный танец – аттан. Правда, его не танцуют в одиночку. Но теперь мое одиночество становилось залогом моего спасения.
Я сам выбрал этот непростой путь по старой тропе, которой и местные жители пользовались только в самых исключительных случаях, предпочитая не рисковать и сделать крюк, отнимавший полдня. Хотя, видимо, именно риск и был мне нужен. Да и страх, иногда все же леденивший тело и горячей волной ударявший в голову, тоже оказывался к месту. Он выводил меня из того состояния эмоциональной тупости и полного равнодушия ко всему на свете, в котором я пребывал больше месяца – с того самого дня, когда моя жизнь в очередной раз круто и необратимо изменилась.
После преодоления такого опасного участка тропы я останавливался, вытирал рукавом халата пот со лба, унимал предательскую дрожь в коленях и замечал, наконец, ту красоту, что пыталась утешить и, возможно, даже спасти меня. Глубоко внизу голубела река, по берегам ее тянулись все расширяющимися полосами посевы цветущего мака. Тень от моей горы накрывала правую часть пламенеющей внизу долины, и она была похожа на темную, уже засохшую кровь. Зато левая алела под солнцем свежей, только что пролитой кровью.
Мак – цветок забвения. Но ничего забыть мне пока не удавалось. Только непрошеные и неожиданные слезы часто пытались унести всю неизбывную горечь и безысходное отчаяние, что скопилось в душе. Тот душновато-горький полынный запах, который встретил меня впервые в этой стране, на бетонке аэродрома, у самого трапа, казалось, пропитал меня насквозь. Избавиться навсегда от этой горечи можно было только если шагнуть в бездну под ногами. Ведь это так просто – один маленький шаг. И больше никаких проблем.
Но именно близость и легкость этого шага и удерживали от него. Он всегда оставался в запасе. На самый крайний случай. Всем напряжением душевных и телесных сил я и пытался избежать его.
Неужели для того встретились моя мать и отец, чтобы я добавил немного своей крови к уже немерено пролитой на этой земле? И только для того, чтобы сделать алые маки еще немного алее. Или расплатиться за ту чужую кровь, что пролилась здесь в какой-то мере и по моей вине. Именно я и был тем человеком с автоматом, гранатометом, с минами и реактивными снарядами, бездумно – как и положено солдату – выполняющему приказы, что несли смерть всему живому в этих горах и долинах. Но сказать сегодня, что это чужая земля, чужие долины и горы, – я уже не мог. Ведь здесь я оставил не только свою молодость, лучшие годы жизни, но и самое дорогое, что у меня было.
Наконец, опасная каменная тропа обогнула далеко выдававшуюся скалу и открыла меня полуденному солнцу. Оно безжалостно ударило по глазам, привыкшим к приятному полусвету. Но зато благодатное тепло пошло по всему телу. Какое-то время я стоял с закрытыми глазами, отогреваясь и думая, что крупицы счастья достаются и самому несчастному. Словно Всевышний щедро рассыпает их со своих высот. Приоткрывая глаза, я уже видел не только бурую стену ущелья, но бесконечно глубокое, бездонное небо и сияющие, совсем близкие, белоснежные вершины. Глядеть на них и предаваться воспоминаниям и размышлениям я мог бесконечно. Даже сейчас на этой узкой и заброшенной горной тропе, совсем не обращая внимания на бездну под ногами.
Только месяца через три моей афганской службы я понемногу привык к этим пропастям, только и ждущим твоего страха и робкого, неверного шага. Но когда по тебе стреляют и пули выбивают осколки камня рядом с головой, то как-то забываешь, что ты на краю бездны с ледяным потоком на дне. Один страх заставляет забыть о другом. Я до сих пор помню то чувство – чувство законной гордости, – когда, впервые бросив взгляд на глухо ворчащую внизу речку, не испытал привычного головокружения. Ну, речка, ну, ворчит себе где-то там внизу, на расстоянии с полкилометра, ну и пусть. Она занята своим делом, а я своим. Это была моя первая победа в этих горах. Я – человек равнин и болот – оказался вполне жизнеспособен и здесь, на этих кручах. Хотя первые дни и падал замертво от усталости. Но уже через месяц скакал по камням, как горный козел. А когда, наконец, разжился со временем китайскими штанами и кроссовками, то до счастья оставалось совсем ничего. Точнее – только 203 дня до приказа.
Именно в тот день, семнадцатого августа, – День независимости Афганистана, – наши пять бэтээров при поддержке двух вертолетов неожиданно бросили в район Кандагара. Я сидел на броне, обвеваемый ветерком, и бездумно подсчитывал и пересчитывал эти дни. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что растянутся они на долгие годы в чужой стране, то я, не колеблясь, разрядил бы в него весь боекомплект.
Когда, немного передохнув, я продолжил путь по заброшенной горной тропе, то оказалось, что она стала не только шире почти на полметра, но уже и явно пошла под уклон. Тут я как-то немного расслабился, напряжение последнего часа прошло. Неизвестно, что ждет впереди, но на сегодня самый трудный участок дороги оказался пройденным. Хотя, конечно, я знал, что в горах надо быть постоянно начеку. Тем более что спуск всегда опаснее подъема.
Эту аксиому вдолбил в меня еще замкомвзвода – старший сержант Гусев: прежде чем взобраться куда-нибудь, подумай, как будешь спускаться.
Гонял меня наш Гусак, впрочем, как и других молодых, не жалея – ни себя, ни нас. Жестко вбивал военную науку, тот собственный некнижный опыт, полученный им самим на недружелюбной афганской земле. Может, потому в нашем взводе и не было потерь. Сколько нервов пришлось ему потратить только на то, чтобы научить нас падать сразу, не оборачиваясь, при любом подозрительном звуке или движении.
Теперь именно эти подозрительные звуки и движения заставили меня остановиться. Впереди, где ущелье расширялось, уже была различима россыпь жилищ – я так и не привык называть их домами – кишлака Каракан. С моим хозяином Сайдулло мы частенько наведывались туда в базарный день. С высоты птичьего полета кишлак был похож на развороченный муравейник. Несмотря на жаркий полдень, люди не прятались в своих глинобитных сарайчиках, но, казалось, все кто могли высыпали наружу. Там явно что-то происходило.
Странно, навруз – самый древний и самый радостный праздник на этой земле – уже отметили, и пока других поводов для такого необычного оживления не предвиделось. Да и звуки, когда прислушался, были совсем не праздничные. Вроде похожи на плач или на причитания.
Я ускорил шаги и минут через десять в растерянности остановился. От этого праздника остались глубокие воронки, груды обломков, полуразрушенные жилища, разбросанные деревья и наклоненные фигурки что-то ищущих в кучах мусора людей. Стало очевидно, что не долгожданная радость причина этого оживления, а большая беда – всегда неожиданно застигающий нас праздник дьявола. Но, как утверждает Коран, лишь Аллах творец добра и зла, их порождающая причина. Аллах любящий, милостивый и милосердный. Он не имеет ничего общего с богом Библии. Аллах – некий умственный идеал, недоступный изображению. Значит ли это, что и обратная связь с ним невозможна? Что он принципиально не слышит обращенных к нему речей? Но для кого тогда ежедневные и многократные молитвы?
Любая религия всегда отвергает логику и здравый смысл, отрицает реальность – ради мечты, помогающей выжить в самых трудных условиях. Как говорила моя бабушка: кто на море не тонул да детей не рожал, тот богу не маливался. Видимо, именно поэтому женщины в массе своей гораздо религиознее мужчин. Потому что чаще подходят к самому краю жизни и отважно заглядывают туда. У мужчин это случается только на войне или в каких-то редких, экстремальных ситуациях, когда они сталкиваются с тем, что неподвластно и резко обрывает их обыденное существование.
Словно в подтверждение моих мыслей сзади раздался нарастающий рев реактивного самолета. Я оглянулся. Темно-серый истребитель с опознавательными знаками армии США пронесся метрах в двухстах от меня. Воздушная волна жестко бросила на скалу. Хорошо, что я успел раскрыть рот и опереться на руки. Но уши все равно заложило.
Приближаясь к селенью, самолет еще снизился и на недопустимо малой – для устрашения – высоте пронесся над упавшими на землю людьми. Потом круто взмыл вверх – свечой – и, как на показательных выступлениях, пролетел вниз головой, но уже на приличной высоте, в обратном направлении. Совершив большой круг, он снова пронесся мимо меня, всего метрах в ста и на уровне глаз. Я с раскрытым ртом ухватился за выступ скалы. А люди внизу снова упали ниц возле своих глиняных домиков. Но не все. Один вскинул на плечо трубу – «стингер» или нашу «стрелу»? – и выпустил вдогон ракету. Нет, все-таки «стингер» – его характерный звук я никогда не забуду.
Когда «фантом» снова взмыл и задрал пузо к солнцу, ракета настигла его. Где-то на высоте километра полтора. Он вспыхнул и начал разваливаться на части. Дымящиеся обломки упали на лесистый и зеленеющий склон, а летчик успел катапультироваться и теперь медленно опускался на цветущее маковое поле недалеко от кишлака.
Впрочем, это отсюда, с высоты птичьего полета, казалась, что недалеко. Думаю, что километра три все-таки было. Но люди, над которыми он издевался, уже торопились его встретить. Впервые я подумал о том, что вот на месте этого пилота, при всех своих горестях и бедах, мне все же не хотелось бы оказаться. Никогда. Тем более, что я тоже чужак, которого никто не звал. Чужак, пришедший с оружием, хотя и со словами о дружбе. Но судят ведь не по словам и намерениям, а по делам.
Пока я опускался в долину по все расширявшейся тропе, летчика, видно, привели в чувство, поставили на ноги и, подгоняя палками и камнями, повели в кишлак. Позади человек пять несли на плечах его длинный прогибающийся парашют, похожий то ли на сказочного змея, то ли на дракона. Парашют – это большая удача. Последний крик кишлачной моды – шелковая рубаха до колен. Белая, оранжевая или даже красная – кому как повезет. Но сегодня шелк парашюта был ослепительно белый, самый престижный – жениховский. Уже можно было разглядеть, что невысокого рыжего парня конвоировали дети – бачата.
Первое время мы тоже относились к ним как к детям. Но это были дети воюющего народа, где воевали все, невзирая на возраст. После каждого набега клянчащих мальчишек на наш лагерь в Кабуле сержант Гусев тщательно проверял всю технику и не раз снимал магнитные мины, прикрепленные в самых труднодоступных местах. Ну а близ кишлаков, даже дружественных, требовал, чтобы мы этих грязных и вечно голодных бачат и близко не подпускали. Но ребята все равно бросали им что могли из наших сухих пайков. Им годились и сухари, и галеты, и кисель в брикетах, и куски сахара, и надоевшая всем гречка.
Правоту нашего сержанта мы поняли только тогда, когда случилась беда с самым веселым и неунывающим солдатом нашей роты – Сергеем Ивановым. Он вез гуманитарную помощь в дружественный кишлак. Там те, кто за революцию, сарбозы по-ихнему, организовали что-то вроде кооператива. Им тоже часто приходилось отстреливаться от местных банд. Там постоянно находились и наши подразделения. По дороге, недалеко от места назначения, Сергей притормозил и вышел что-то поправить в двигателе. Не обращая никакого внимания на парнишку лет пяти, открыл капот и наклонился в поисках неисправности. Выпрямился он уже только в кузове. Навсегда.
Чумазый пацаненок ловко воткнул ему небольшой узкий нож под лопатку и тут же исчез. Никаких поселений поблизости не было. Ангел смерти возник ниоткуда и исчез в никуда. Но все же от ребятишек случалась иногда и реальная польза: если на подходе к кишлаку мы видели следящих за нами со своих плоских крыш бачат, то, значит, все нормально – моджахедов в селении нет.
Я подошел к кишлаку вместе с захваченным в плен летчиком. Он выглядел достаточно безмятежно. Его голубой комбинезон был запачкан зеленью, а в руке рыжеволосый пилот держал сорванный цветок мака. Его лепестки были намного темнее, я бы сказал, даже печальнее, чем веселая солнечная шевелюра летчика. Голубые водянистые глаза, веснушки на молодом и самоуверенном лице. Основательный нос и тяжелая нижняя челюсть. Он с рассеянным любопытством и без всякого страха разглядывал и детишек, и убогие глиняные сооружения. Периодически даже улыбался. Ну, знаете, эта знаменитая американская улыбка на вопрос «как дела?» Мол, все о’кей – и тут же все зубы наружу.
Ну, как ни глянь, просто парень на прогулке в центральном нью-йоркском парке, идет на свидание. Рекламный голубоглазый Джон, которого уже ждет такая же рекламно-голубоглазая и златовласая Мэри. Да, рыжий наш явно думает, что его тут же обменяют и он скоро – завтра-послезавтра – вернется на базу, примет душ, выпьет любимый коктейль, расскажет товарищам о своих подвигах – как он укладывал на землю этих чокнутых талибов. А потом позвонит подружке из госпиталя и договорится о встрече. Хорошо после таких острых ощущений посидеть в кабульском ресторанчике. А потом ночь любви, где адреналин, накопленный за это время, сделает его тоже героем.
Пленный летчик мельком бросил взгляд на меня, заметил мои голубые глаза – удивленно вскинул брови. Замедлил шаг. Потом еще раз оглянулся и убедился, что не ошибся.
Я уже привык к таким взглядам незнакомых людей и на частые расспросы имел все объясняющий ответ: мол, я родом из Нуристана, земли света, из самой северо-восточной провинции. «А, из Кафиристана, страны неверных! Ну, Коран-то вы там уже прочитали?» – улыбались незнакомые, и любопытство их затихало.
Население этой труднодоступной провинции дольше всех сопротивлялось исламизации – приняло ислам только в конце девятнадцатого века. Даже великий Тамерлан не мог покорить эти земли. Лишь в 1895 году поход кабульского «железного эмира» Абдуррахмана сломил их сопротивление.
Люди в стране света действительно голубоглазые и вполне европейской внешности. Ну не будешь же всем и каждому объяснять, что я шурави, да еще какой-то неизвестный здесь белорус. Причисляя себя к гордому и свободолюбивому народу, я тоже имел возможность гордиться и принимать знаки уважения. Хотя на самом деле гордость мою питало прежде всего то, что я белорус. Так или иначе, но такой ответ делал мою гордость для окружающих вполне понятной и оправданной.
Помню, что первый прилив неожиданной гордости я испытал, когда после уничтожения группы моджахедов, нашел в бункере убитого главаря одного из отрядов книгу «Партизанская война в Белоруссии». Оказалось, что Саид-хан лет десять назад окончил строительный факультет нашего минского политехнического института. Но построить, видимо, ничего не успел, а вот воевал довольно успешно отчасти и потому, что использовал наш героический опыт в войне с фашистами.
Тогда мне впервые пришло в голову, что нас тоже могут воспринимать как непрошеных гостей, даже захватчиков. Ведь почему-то явно не глупый парень все же воевал с нами. Значит, чувство благодарности за высшее бесплатное образование перевешивалось какими-то другими чувствами, более сильными. Почему-то не стал он и на сторону революции, которая дала землю крестьянам.
Правда, та же революция вскоре же начала сгонять их в колхозы. Видимо, книг об ошибках коллективизации лидерам афганской революции не попадалось. Но тут тоже есть своя тонкость: в колхозы загоняли таджиков и узбеков из северных провинций, которых титульная нация – пуштуны – считали людьми второго сорта. Именно таджики и узбеки, жившие в Афганистане на границах с Союзом, и стали самыми яростными противниками революционной власти и ее незваных помощников – шурави.
За долгие годы, проведенные в этой стране, мне стало вполне очевидно, что основные группы жестко противостоящих друг другу государств, возглавляемые США и СССР, попросту превратили Афганистан в громадный испытательный полигон. Именно на территории Афганистана и кровью его наивного и воинственного народа велась глубокая разведка боем. Отыскивались слабости противника, испытывалось новое оружие, отрабатывалась стратегия и тактика горной войны.
Думаю, что беды афганского народа начались не с момента ввода советских войск, а гораздо раньше – когда двоюродный брат короля Захир-шаха Муххамед Дауд Хан в 1973 году произвел дворцовый переворот и пришел к власти. Я могу только догадываться, какие влиятельные силы стояли за этим переворотом. После смены руководства наши безмятежные отношения, сложившиеся еще на заре советской власти, начали понемногу портиться. Очевидно, что они кому-то не очень нравились.
Отношения выстраивались десятилетиями. Сколько наших специалистов успело поработать в соседней и давно дружественной стране, сколько студентов окончило наши вузы, сколько средств вложено было в экономику этой бедной страны! А сколько успели построить! Чего ни коснись – все, оказывается, шурави. И завод азотных удобрений, и городок для его рабочих в Мазари-Шариф, заводы стекла и кирпича, заводы пива и коньяка, минеральных вод, фабрики шелка и обуви. А сложнейшая Джелалабадская ирригационная система? А разведанные полезные ископаемые, такие редкие, как медь и уран, ртуть? Плюс богатейшие запасы газа, поставки которого уже начались в соседний Таджикистан? А бетонные дороги, – та же Кушка-Кабул, – туннели? Один трехкилометровый Саланг чего стоит!
Но из политзанятий мне почему-то особенно запомнилась одна цифра – десять миллионов кубометров. Именно столько чернозема мы сюда завезли. Невольно возникало ощущение, что это уже отчасти и твоя земля. И как тут не помочь людям построить новую жизнь вместо той невообразимо бедной и грязной, со средней ее продолжительностью 46 лет для мужчин и 44 для женщин, со всеобщей неграмотностью сельского населения, с ужасающей детской смертностью.
Замполит рассказывал, что наши первые войска встречали с улыбками и цветами. Ведь мы пришли защищать их революцию по договору, который заключил еще Ленин. Но уже довольно скоро все изменилось. Афганский народ раскололся, или его сумели расколоть, на две воюющие половины. Но у меня сложилось такое впечатление, что лидерам революции и не было никакого дела до своего народа. Занимались они самым главным для себя: борьбой за власть. Занятие это в разноплеменном и общинно-родовом Афганистане могло привести только к взаимному уничтожению.
Как говорил Амин, ликвидировавший Тараки: если племя начинает войну с другим племенем, то готово сражаться до последнего младенца. Амина, как человека неуправляемого и с очень большими амбициями, убрал наш спецназ. Как нам говорили, советские десантники лишь на несколько часов опередили американских морских пехотинцев. Возможно, и так. Но, думаю, что лучше бы нас там опередили американцы, а мы бы остались навсегда друзьями с незапятнанной репутацией.








