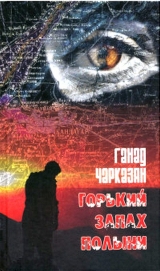
Текст книги "Горький запах полыни"
Автор книги: Ганад Чарказян
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
14
После всего увиденного по телевизору желание мое во что бы то ни стало вернуться на родину заметно ослабело. Во всяком случае, прилагать к его осуществлению какие-то чрезвычайные усилия казалось теперь не имеющим особого смысла. От еще недавно так желанной родины повеяло холодом и враждебностью. Я должен был честно признаться самому себе: до недавнего времени родина у меня была другая. И той родины, о возвращении на которую я мечтал, больше нет.
Если до сих пор моя жизнь имела какой-то смысл и опору только благодаря неистребимому желанию вернуться домой, то теперь эта опора зашаталась и готова была рухнуть. Да, оставалась территория, на которой как-то жили мои родные, располагалась деревня Блонь, но та большая родина, благодаря которой я чувствовал себя чем-то значительным, исчезла. И то, что я вернусь на эту территорию, ничего не прибавило бы к моему самочувствию. Даже в родной Блони я оставался бы неприкаянным сиротой, не знающим куда приткнуться и чем заняться. Во всяком случае, в кишлаке Дундуз я чувствовал себя теперь куда уверенней и определенней. У меня было небольшое, но, безусловно, свое место в этом уже понятном и близком мне мире. И менять его на полную неопределенность, ждущую там, где я родился и вырос, казалось мне, по меньшей мере, неразумным.
Очевидно, что в моем сегодняшнем положении невозможно принимать какие-то ответственные решения. Остается только одно – ждать. Течение жизни само подскажет очередной поворот судьбы, естественно следующий за предыдущим.
Таким поворотом, продолжившим линию моей жизни, стала женитьба. Для Сайдулло этот поворот тоже оказался не простым: ведь в жены он прочил мне не соседскую хромоножку Азизу, а собственную любимую дочь Дурханый. Кроме всего это решение неизбежно обострило бы отношения с Вали, который становился со мной все радушнее и радушнее – как будто и не стрелял в меня и не собирался кастрировать. Его сегодняшнее радушие объяснялось просто: Азизе исполнилось уже восемнадцать, а свататься к ней еще никто и не собирался.
Сайдулло долго беседовал со мной перед тем, как отважиться на такой необычный для кишлака шаг. Главным для него было то, что его любимая дочь была ко мне явно неравнодушна и любые, даже шуточные разговоры об Азизе вызывали у нее горькие слезы. «Согласия девственницы спрашивает ее отец», – говорил Сайдулло словами пророка. И добавлял, что никому, даже отцу, нельзя принуждать к нежеланному браку. Но и кроме того, сам Сайдулло не видел лучшего мужа для своей дочери. За шесть лет он проникся ко мне почти отцовской любовью. Ежедневный совместный труд, когда мы на равных боролись за выживание в этом суровом климате, по-настоящему породнил нас. Я уже давно относился к Сайдулло, как к отцу. А то, что он хочет отдать за меня свою дочь, только подтверждало и закрепляло наши отношения. Стать мужем Дурханый – об этом я мог только мечтать. Просто находиться рядом с ней – уже было счастьем. Мне удалось встретить женщину, в которой сочетаются красота внешняя и красота внутренняя. Я был готов поверить, что это совершенство и счастье, полученное, как говорил Коран, благодаря Всевышнему Аллаху.
Но когда заикнулся о том, что не смогу заплатить даже самый малый махр, Сайдулло твердо прервал меня:
– Твой махр – это шесть честных лет работы. Я не знаю, сумел бы я поднять моих детей без тебя. Ведь уже и годы сказываются, да и здоровье, как ты знаешь, тоже подводит. То, что отдаю тебе дочь, признание не только твоей красоты и роста, твоих голубых глаз, но и высоких душевных качеств. В тебе нет ни капли высокомерия, презрения к неграмотным крестьянам, ты уважаешь каждого человека, независимо от того, богат ли он или беден. У тебя не только нет никаких пороков, но отсутствует и сама потребность в них. Ты постоянно готов учиться, узнавать новое. А главное – ты очень бережен с близкими. Я ни разу не слышал от тебя ни грубого слова, ни хулы в чей-либо адрес. По большому счету, ты невозмутимо спокоен, готов выдержать все испытания. Только любовь к далекой родине тревожит твою душу. Я думаю, что если человек, верящий в коммунизм, может быть таким, как ты, то тогда коммунизм – это просто имя Аллаха на языке твоего народа. Иногда мне даже кажется, что наш пророк нашел новое воплощение именно в тебе, человеке из другой земли, – чтобы снова испытать нас и поднять на еще большую высоту.
Я с удивлением выслушивал эти неожиданные признания моего рабовладельца и вскоре готов был заплакать от такой неоправданно высокой и смущающей оценки. Ничего особенного в самом себе я никогда не находил. Но может, со стороны действительно виднее? Послушаешь такие речи и невольно станешь задирать нос. Думаю, Сайдулло специально немного подхваливал меня, чтобы поднять настроение после всех моих переживаний. Он видел, с каким потемневшим лицом я приходил от муллы после телевизионного просвещения. Сайдулло уговаривал не ходить туда, забыть о телевизоре. Я и сам понимал, что хватит сыпать соль на раны, но все же раз в месяц выбирался и снова получал полную порцию отрицательных эмоций.
Даже по телевизору можно было понять, что идет бесстыдный и торопливый грабеж всенародной собственности. Мгновенно обесценились банковские вклады населения. Возникали и рушились финансовые пирамиды, куда наши, все еще ничему не наученные советские люди, доверчиво несли свои последние рубли. Каждый день гремели выстрелы – бандиты диктовали свои законы вчерашним хозяевам страны. Нищенские зарплаты и пенсии большинства, а на другом полюсе – победившей демократии – кучка жирующих нуворишей, бесстыдно кичащаяся своими неправедно нажитыми богатствами.
После женитьбы я перестал смотреть телевизор. Ведь на экране жизни появилась моя маленькая Дурханый. Со свадьбой долго не тянули, объявили, что Дурханый просватана, и тут же, пока еще не утихли удивленные разговоры, в конце года отпраздновали скромную свадьбу. Гостей было немного – человек пятьдесят, ну и плюс весь кишлак. Женщины угощались отдельно от мужчин. Традиционный плов и привезенная Ахмадом кока-кола. Мы скромно сидели за столиком, на который гости складывали подарки. Потом был свадебный танец. Я что-то старательно и неловко изображал, но зато Дурханый выплеснула в танце всю свою чистую и любящую душу. Седобородые старцы не стыдились слез. А когда начался общий танец – аттан – старики показали, как танцевали раньше – до упаду. Потом мы с Дурханый и самыми близкими уединились в комнате, где я пытался с ложечки накормить свою невесту, а она меня. У нее это получалось лучше.
Хадиджа, моя теща, – без паранджи она оказалась очень милой и моложавой женщиной, – глядя на нас, переживала, что все произошло не традиционно, без настоящего сватовства, когда вместо ответа родители невесты выносят красивое сооружение из искусственных цветов, конфет, блесток с фигурками невесты и жениха в центре композиции. Называется это сооружение хынча. Хадиджа видела его, когда просватали старшую сестру, на место которой она и пришла в дом Сайдулло. Был у старшей сестры и Ширин Хури, после которого они встречались с Сайдулло еще полгода, оставались наедине, разговаривали, держались за руки и даже, как она подглядела однажды, целовались.
Сама Хадиджа выходила замуж по сокращенной программе – после смерти сестры, – и потому все же надеялась, что хоть дочь удастся выдать так, как положено. Не получилось. Конечно, все эти формальности имели смысл, когда жених чужой и незнакомый человек, а не такой близкий и почти родной, как Халеб. Да и к тому же Сайдулло занемог и боялся, что если он вдруг умрет, то свадьба расстроится. Не нравилось Хадидже и то, – а это было уж совсем вне всяких правил, – что часть своего золотого запаса Сайдулло передал дочери в качестве моего махра. Но все золото, в том числе и махр самой Хадиджи, оставалось все там же, в погребке под кошмой. На свадьбу ушли только доллары из дорожного сейфа-посоха.
Тогда же Сайдулло показал мне и еще кое-что – из того, что хранилось в погребке под моей кошмой. Это стало для меня настоящим сюрпризом. Выбросив несколько плоских камней, Сайдулло извлек промасленный сверток цвета моей «песчанки». А из промасленного свертка появился на свет мой родной калаш, пять полных рожков и три гранаты. Хоть сейчас в бой. Но особого энтузиазма мой старый и верный друг во мне не вызвал. Я даже не дотронулся до него. За эти годы стала гораздо ближе и понятней простая мотыга – честное и древнее орудие созидания. Думаю, что теперь только в самом крайнем случае я смог бы взять в руки это совершенное орудие смерти. В небольшом отдельном и чистом свертке сохранились все мои документы и погоны ефрейтора. Там же лежало и последнее письмо из дома, на которое не успел ответить. Я взглянул на фотографию безусого и доверчивого мальчишки в комсомольском билете и не смог сдержать слез. Неужели я был таким чистым и простодушным дурачком? А ведь тогда казался себе очень взрослым и закаленным в боях парнем. Потом, опять со слезами, перечитал мамино письмо, на которое она так и не дождалась ответа. Из всего сюрприза самым дорогим и оказался для меня этот листок из школьной тетрадки в клеточку, исписанный строгим и красивым маминым почерком. Я хотел взять его с собой, но потом подумал, что на старом месте ему будет сохраннее. Ведь это единственное, что у меня осталось от моей родины. Зато теперь я знаю, где оно хранится, и всегда могу прочитать последние мамины слова. Возможно, никаких других слов уже не услышу. В то трудное для меня время безотчетная вера в то, что все же увижу своих родных, почти совсем угасла. И я готовился жить дальше, уже ни на что больше не надеясь.
Сайдулло, немного поглядев на мои слезы, деловито спросил: «Пострелять на свадьбе не хочешь? У нас это любят. Хотя лучше, чтобы не знали, что у тебя есть оружие». Когда я благоразумно отказался от этого мероприятия, он опять уложил мое армейское наследство на место и аккуратно прикрыл камнями. «Ну, вот, – сказал Сайдулло с облегчением, – теперь у меня нет от тебя никаких секретов. Да и у тебя тоже. О твоей ночной гостье я знал. Несколько раз замечал ее быструю тень в предрассветных сумерках. Да и о путешествии в страну цветных камней мне тоже рассказали. Все, идем на свадьбу. Оружие и дочь Вали – твое прошлое, золото – будущее, а Дурханый – настоящее».
На свадьбу приехал и Ахмад из Ургуна – он недавно купил небольшой подержанный грузовичок. Нашу дорогу он выдержал не хуже, чем его «шурави-джип». Дела с металлоломом понемногу разворачивались. Да и невесту – богатую – Ахмад тоже присмотрел. Так что первую брачную ночь мы – «два счастливых муравья» – провели в бывшей комнатке Ахмада, а он – в моей пещере. Проводить ночь с баранами Дурханый категорически воспротивилась. И не только потому, что они пахнут, – ведь они, убеждала меня она, все чувствуют и понимают, только говорить не могут. А разве мы можем быть абсолютно свободны в нашу первую ночь под их понимающими взглядами? Впоследствии она отпускала меня к моим баранам только в те дни, когда не могла быть со мной.
Теперь я проводил в пещере только несколько дней в месяц, а все остальное время в нашем маленьком уютном гнездышке с белеными стенами и ярким прабабкиным ковром на глинобитном полу. Столько счастья сгустилось в нашей комнатке, что, наверное, она светилась в ту зиму, как одна из самых ярких звезд в ночи. И возможно, кто-то в далекой галактике видел наш счастливый огонек и тоже ловил эти странные волны абсолютного блаженства. Дурханый стала для меня всем – и женой, и матерью, и родиной, и вселенной.
До и во время свадьбы часто и хорошо «нашаропленный» Худодад слонялся по кишлаку и рассказывал всем желающим, как он спас будущего жениха, когда тот попал в страну цветных камней. А Вали еще долго жаловался, – то ли в шутку, то ли всерьез, – что Сайдулло перехитрил его – увел у него прямо из стойла такого породистого жеребца. Но, добавлял он, глядя на меня с плутоватой ухмылкой, и мы не в накладе, не в накладе. Я все-таки боялся, что он расскажет о том, что у меня уже есть ребенок от его старшей дочки. И если он не сделал этого раньше, то, возможно, с присущим ему коварством, сообщит об этом на самой свадьбе. Никаких сообщений не последовало, и я был ему благодарен за то, что ничего не огорчило мою дорогую женушку в самый радостный для нее день. Но думаю, что здесь сказалось не только добросердечие соседа, но также и опасение вызвать кровную месть – за оскорбление в такой важный для любого человека день. Обижать друг друга просто так у пуштунов не принято – так воспитали их суровые законы общежития. Да и к тому же огласка могла привести к разводу, а это пятно на всю семью. Тогда и Азизу никто бы не взял в жены.
Но, к счастью, все обошлось. Да и для Вали его сдержанность обернулась неожиданным подарком: среди гостей обнаружился и будущий жених Азизы – пожилой и богатый вдовец из Ургуна, он был когда-то женат на тетке Хадиджи. Да и приехал он на свадьбу к бедным родственникам, видно, только для того, чтобы присмотреть себе что-нибудь свеженькое и деревенское. Разглядев через отверстие в стене все прелести Азизы, – Вали не раз предлагал полюбоваться и мне, – вдовец тут же решился заплатить немалый махр и как можно быстрее стать счастливым супругом. Через отверстие он разглядел все самое соблазнительное. Хромоты, конечно, заметить не успел. Так что в конце свадебного угощения Вали объявил, что Азиза уже просватана и скоро – тоже без всяких Ширин Хури – выходит замуж. После неожиданного и удачного устройства дочери Вали стал расхаживать по кишлаку этаким горделивым и самодовольным петухом, кстати и некстати упоминая то стада овец и коз, то дома и виноградники будущего зятя, который совсем, совсем немного старше его.
Счастье подхватило меня, как полноводная река, и понесло сквозь время. С еще большей скоростью замелькали дни и недели, месяцы и годы. Все они сливались в один, наполненный радостью и смехом Дурханый, бесконечный солнечный день. И ночь, нежная ласковая ночь была тоже одна – одна на двоих. И вот ее-то нам всегда не хватало – день заставлял разомкнуть объятья, расстаться для трудов и забот. Один муравей торопился в поле, а другой суетился дома. Теперь у меня появился смысл жизни. И мой труд из подневольного – только чтобы забыться – превратился в свободный и радостный. Я трудился с утра до вечера, но усталости не испытывал.
Благодарю всех богов, что эти дни были в моей жизни, что познал счастье разделенной любви. А в сравнении с ней все мои страдания и горести казались такими незначительными – чем-то вроде обязательного налога для каждого, кому распахивались двери земного рая. Сейчас все чаще думаю, что за двенадцать лет мы с Дурханый получили даже слишком много счастья – редко кому оно выпадает в таких количествах. И видимо, высшие силы, узрев нарушение равновесия в распределении радостей и горестей, одним махом исправили свое упущение. Но вчерашнее счастье не исчезло – оно заполнило меня до краев. Каждый день нашей жизни, пролетавший ранее незаметно – потому что завтра будет таким же счастливым, – стоит сейчас перед глазами. Счастье, хотя испытанное только однажды, навсегда остается золотым запасом души. Оно помогает выжить даже тогда, когда, кажется, и жить невозможно.
Глядя на нас, помолодели и Сайдулло с Хадиджой. Явная нежность сквозила в каждом их взгляде. Сайдулло позволял себе иногда приобнять жену при мне, чего раньше никогда не случалось. Но главное, что Хадиджа, наконец, простила мне и то, что у дочери не было ни сватовства с хынчей, ни Ширин Хури. Да и то, что обязательный жениховский махр заплатил за меня Сайдулло. Теперь, глядя на нас с Дурханый, она только украдкой вытирала слезы – счастливые. Потому что у дочки оказался по-настоящему любящий и любимый муж. А кроме этого женщине ничего не нужно. Счастье дочери делало счастливой и мою тещу. А когда через год родился первенец – тоже Халеб, Глеб (я не забыл завет деда Гаврилки), – прекратились и слезы. Тихое сияние стало исходить от лица бабушки, когда она возилась с малышом и учила обращаться с ним свою дочку. Зато прослезился Сайдулло, когда его мать, принимавшая роды, вышла с мальчиком на руках. Моих голубых глаз он не унаследовал. Малыш глядел на мир теплыми светло-ореховыми глазами моей любимой. Через два года родилась голубоглазая дочка – Регина.
Росла семья, росли заботы. Женился и вскоре стал отцом дочери Ахмад. Потом через год родилась у них еще одна дочка. Но всегда, когда приезжал к нам с кучей подарков, первым делом подхватывал на руки своего племянника. Ведь тот и похож был больше на него, чем на меня. Да и Халеб тоже любил дядю и называл его, как и меня, – дада. Всегда мне слышалось в этом слове наше трогательное белорусское «тата».
Мы сделали с Дурханый перерыв в деторождении – дочка отняла много здоровья. Зато Ахмад продолжал свои отцовские подвиги. Но желанного сына пока у них не получалось. Это всерьез расстраивало нашего Ахмада. Но после четвертой попытки он все-таки приутих – с каждой беременностью его Зульфия заметно прибавляла в весе. Ее это нисколько не тревожило, она оставалась такой же жизнерадостной и энергичной и готова была рожать и дальше, – хоть каждый год, здоровье позволяло. Но Ахмад прикинул, что если дело пойдет такими темпами, придется покупать ей отдельный автобус. Да еще и водителя нанимать. А главное – не было никакой гарантии, что в этом автобусе найдется, наконец, местечко и для сына.
Испытывая новые для меня чувства – мужа, отца, – я, радостно переполняясь ими, вдруг ловил себя на том, что кто-то внутри меня глядит на все это счастье холодновато-отстраненно. И только голубоглазка дочка, так похожая на мою маму, заслоняла на время этого чужого и непонятного человека во мне самом. Прижимая к себе это нежное маленькое тельце, такое беспомощное в этом мире, я переполнялся тревогой.
Талибы взяли Кабул, но войска коалиции не собирались уступать, и конца ожесточенной борьбе видно не было. Небольшой отряд талибов появился и в нашем кишлаке, мобилизовали сыновей пастуха Али – Худодада и Салема, еще несколько совсем молодых парней, которым надоело работать дома и хотелось пострелять за хорошие деньги. Намеревались заодно прихватить и меня с собой, но Сайдулло отстоял – помогла и моя хромота. Но главным аргументом оказались, конечно, заслуги самого Сайдулло – он все-таки отдал родине трех сыновей.
Дурханый так переволновалась за те два дня, когда талибы рыскали по кишлаку и всеми правдами и неправдами заманивали к себе молодежь, что потеряла нашего третьего ребенка. Была уже на четвертом месяце. Маймуна-ханум долго выхаживала ее. Потом, когда Дурханый снова стала щебетать как птичка, бабушка сказала мне доверительно, что о детях пока лучше не думать – если, конечно, внучка моя тебе дорога. В наших отношениях стало еще больше нежности, замешенной на печали, на боязни потерять друг друга. Представить, что счастье может закончиться, было невозможно. А то, что после того, как закончится счастье, возможна еще какая-то другая жизнь, казалось вообще невообразимым.
Я стал иногда подумывать, что в Блони женушке было бы все-таки легче управляться с хозяйственными заботами, да и главное – всегда можно обратиться к врачу. Маймуна-ханум полечила ее, а от чего – она и сама не знала. Помню, как все удивились, когда я стал говорить, что рожать Дурханый должна в больнице – еще когда носила нашего первенца. А Маймуна-ханум даже обиделась – никто в кишлаке не принимает роды лучше, чем она. Да и где больница? Как добираться? А сколько это будет стоить, зятек наш имеет представление? Да и зачем больница? Ведь роды – это не болезнь. Всех, кто рождался, принимали умелые и опытные руки повитух. Конечно, случалось, что и умирали – и дети, и роженицы. Но тут уже на все воля Аллаха, надо покорно принять ее. Ведь и само слово «ислам» переводится как покорность. А это слово наиболее чуждое европейскому духу, постоянно соревнующемуся и с богами и с регулярно теснимой природой.
Все чаще, когда любовался своими детьми, я думал о том, как была бы счастлива мама, если бы могла видеть их. Да и бабушка с дедом Гаврилкой. Я представлял, как мы появляемся в Блони на машине и останавливаемся возле дома. Сначала выглядывает сестричка Наденька, потом мама с бабушкой, дед – они почему-то собрались в этот день все вместе. Дурханый, конечно, тоже очаровала бы их. Она часто просила рассказать о моей маме. А дед Гаврилка подружился бы с Сайдулло, бабушка Регина – с Маймуной-ханум, мама – с Хадиджой. За всеми этими наивными и потаенными желаниями скрывалось только то, что моя разорванная душа хотела соединить в одно целое всех, кто мне дороги. Все любимые люди должны жить рядом. На расстоянии взгляда, протянутой руки, произнесенного слова. Жить рядом – только и всего.
Теперь понимаю, что я хотел слишком многого от своих любимых. Ведь главным было только одно: они должны жить.
В ту двенадцатую зиму, как обычно, мы скромно отметили день нашего бракосочетания. Это был личный праздник, но понемногу к нему привыкли и все домашние. Иногда в этот день появлялся и Ахмад. Но на этот раз он опоздал – дорога стала почти непроезжей. Каждый день шел дождь, оползни заваливали дорогу, мелкие речки становились бурными и глубокими. Когда Ахмад появился пешком, мы очень удивились и обрадовались – его не было месяца три. Оказалось, что машину он оставил в ближнем кишлаке, а к нам добрался по еще не засыпанной тропе. Выглядел Ахмад озабоченным, не шутил, как обычно. Сказал, что, видимо, на какое-то время всякая связь с нашим кишлаком прервется – прогноз погоды неутешителен. «Почему бы вам всем не погостить в это время у меня в Ургуне? Тем более что я переехал в большой дом, места всем хватит». После обсуждения этого предложения решили, что поедут с Ахмадом дети и Хадиджа. Нам с Дурханый никуда не хотелось ехать, а тем более в большой город, где у нас было бы меньше времени друг для друга.
На следующий день, который выдался солнечным, мы с Дурханый проводили наших до следующего кишлака, обняли и расцеловали на прощанье детей. Они уже не первый раз гостили у дяди. После каждых гостей долго вспоминали, как им привольно жилось, – ведь работать там их никто не заставлял. И главное – там был телевизор с очень большим экраном. Я понимал, что эти гостевания портят ребят, внушают мысли о легкой и веселой жизни, где все падает как будто с неба, без усилий. Какое-то время после возвращения дети капризничали, вспоминали, что они там ели и пили, как развлекались. Но потом снова возвращались к своим любимым козочкам и ягнятам, к играм с соседскими детьми. «Дада, как я по тебе соскучилась!» – прижималась ко мне моя маленькая синеглазка, и благодарная слеза незаметно срывалась с ресниц.
После проводов мы вернулись с Дурханый в опустевший дом. Казалось, что у нас опять все только что начинается, и мы снова обязаны его заселить, наполнить радостью и смехом. За эти двенадцать лет женушка моя немного пополнела и стала настоящей восточной красавицей, которую, конечно, без паранджи я бы никуда не пустил. Начался наш второй медовый месяц – благо шли дожди, отменявшие почти все работы. Мы снова полностью замыкались друг на друге. Такого полного счастья, казалось, я еще никогда не испытывал. И когда настали дни разлуки, поднимался в свою пещеру со слезами на глазах – а может, это были просто капли мелкого моросящего дождя, который не утихал уже третьи сутки. Близкая речка, заполненная вровень с берегами глинистой водой, грозно гудела в ночи. Дождь понемногу усиливался. Овцы в пещере тоже волновались, и даже Шах, внук моего первого сторожа, тревожно поскуливал и прижимался ко мне. Молодой еще. Пока не уснул, я гладил его по голове. Спал неспокойно, пару раз просыпался – как будто от каких-то толчков. Слышно было, как снаружи обрушиваются на землю потоки воды, а в загородке мечутся бестолковые овцы.
Я проснулся, когда в пещеру через дырочку в тростниковой занавеске заглянул луч солнца. Ну, наверное, вся вода у Аллаха кончилась. Шаха в пещере не было. Странно, такого он себе никогда не позволял. Откинув занавеску, я увидел близкую взбаламученную реку и желтую пышную пену на месте нашего дома. Дома Вали тоже не оказалось на месте. Так же, как и других близлежащих домов. Треть кишлака исчезла неизвестно куда. У оставшихся домов толпились люди. Я было рванулся к ним, но овраг, отделявший меня от них, оказался наполненным до краев жидкой грязью. Чтобы добраться до людей, надо было взбираться высоко в гору. Я замер и понял, что если бы с моими все было в порядке, то они сразу же поднялись бы ко мне. «Сель, грозный сель!» – загремели в ушах давние слова столетнего старца.
Сель отрезал от кишлака семь домов с мирно спящими людьми и похоронил их в пропасти, куда впадала наша когда-то мирная и безобидная речка.
Те дни после гибели Дурханый полностью выпали из моей памяти. Ахмад нашел меня в пещере совсем седого. Не знаю, что я ел и пил. С трудом узнал Ахмада. Ему все-таки удалось привести меня в чувство. Ощущая в себе огромную пустоту, увлекающую туда же, куда ушла Дурханый, я все же отозвался на его усилия. «Дети, – повторял Ахмад, – дети!» Я не мог ничего понять: какие дети? У меня нет никаких детей. У меня была только Дурханый.
Ахмад чем-то поил меня, чем-то кормил. Все же ему удалось возвратить меня к жизни, хотя для чего мне эта жизнь, так и не мог понять. Да и золото под моей кошмой тоже. Я вскрыл тайник Сайдулло и отдал все Ахмаду – золото, оружие. Оставил себе только мамино письмо, спрятал его в дорожный сейф. Туда же по настоянию Ахмада уложил и несколько десятков монет – плотно, чтобы не звякали. Ахмад уговаривал меня ехать к нему. Я отказался, сказал, что пока поживу рядом с памятью о Дурханый. Ахмад обещал приехать снова, говорил, что за детей беспокоиться не надо. Я согласно кивал, улыбался, кивал, улыбался…
Мы обнялись на прощанье. Я ощутил влагу на своей щеке. Это были слезы брата моей Дурханый. Свои я уже выплакал.
Больше в той жизни мы не встречались…








