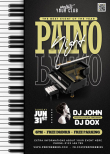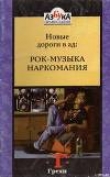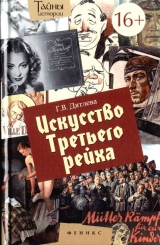
Текст книги "Искусство Третьего рейха"
Автор книги: Галина Дятлева
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Скульптура Третьего рейха
«Младшая сестра» архитектуры
Если архитектура была любимым искусством национал-социалистов, то скульптура шла вслед за ней, ей отдавалось явное предпочтение перед живописью. Именно скульптуре было предназначено место выразительного символа, аллегории, включенной в архитектурное пространство новых зданий Третьего рейха. Подобная роль, например, была отведена бронзовым фигурам, охранявшим вход в германский павильон на Всемирной выставке в Париже («Семья» и «Товарищество» Йозефа Торака) и сидевшему на самом верху позолоченному орлу. Таковы громадные статуи «Партия» и «Вермахт» Арно Брекера, украшающие двор новой Имперской канцелярии, «Факелоносец» Вилли Меллера в замке Фогельзанг, многочисленные атлеты Олимпийского стадиона в Берлине.
Скульптуре Третьего рейха было отведено значимое место и в сфере строительства солдатских памятников. В 1930-е годы в Германии появилось большое количество мемориальных комплексов в честь погибших в Первой мировой войне. Их украшали громадные фигуры стоящих или коленопреклоненных мускулистых воинов, застывших в скорбном молчании. Сюда можно отнести, например, "Германца" Вилли Меллера в Зале славы крепости Фогельзанг и его же умирающего воина в мемориале города Люденшайд в Северном Рейн-Вестфалии.
Скульптура оказалась второй по значимости благодаря тому, что была наделена богатым набором выразительных средств, поэтому идеалы национал-социализма легче всего было выразить именно в ней, а не в живописи. Только скульптура и архитектура с ее монументальностью и декоративностью могла вызвать у немцев те чувства, которые нужны были руководителям новой Германии.
Национал-социалисты ценили скульптуру как массовое искусство, которое люди могли увидеть не только на выставках. Застывшие фигуры идеально сложенных молодых людей украшали парки, площади, их можно было встретить на улицах и в маленьких скверах. Бронзовые и гипсовые статуи являли собой образец арийской красоты, они внушали окружающим: вот таким должен быть настоящий гражданин Третьего рейха – сильным, спортивным, с идеальным телом.
Скульптуре свойственна большая обобщенность, чем живописным полотнам, не случайно фюрера иногда представляли на рисунках и плакатах как скульптора, который лепит нового "прекрасного" человека.
Особенно широко монументальная пропаганда была использована национал-социалистами во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Конкурсы искусств, предложенные основателем современно олимпийского движения Пьером де Кубертеном, практиковались на Олимпиадах в период с 1912 по 1948 год. На конкурс выставлялись имеющие отношение к спорту творения литераторов, музыкантов, архитекторов, живописцев, графиков и скульпторов. Лучшие работы получали награды.
Спортивные площадки берлинской Олимпиады украшало множество грандиозных немецких скульптур – изображений спортсменов. Их авторы подчеркивали каждый мускул тела, каждую черточку арийского лица. Именно на олимпийском конкурсе искусств и "взошла звезда" Арно Брекера, вскоре ставшего придворным скульптором Гитлера. На берлинской Олимпиаде 1936 года Международный олимпийский комитет присудил Брекеру серебряную медаль за его скульптуру под названием "Десятиборец". Затем эта работа была выставлена в экспозиции "Искусство Олимпиады".
И до прихода к власти нацистов в Германии трудились скульпторы, стремившиеся передать героический пафос с помощью монументальных средств. Источником вдохновения для них было античное наследие, а также шедевры эпохи Возрождения.
Уже во времена Веймарской республики получили известность такие талантливые мастера, как Фриц Климш, Георг Кольбе и Рихард Шайбе, испытавшие на себе влияние великих французских скульпторов, в особенности Майоля и Родена. В 1920-х годах Гитлер восхищался их творениями, однако позднее он несколько утратил к ним интерес. Так, о работах стареющего Кольбе фюрер говорил, что они перестали быть совершенными.
Некоторые произведения этих скульпторов в Третьем рейхе были уничтожены: в 1933 году нацисты снесли два памятника – первому президенту Веймарской республики Фридриху Эберту работы Рихарда Шайбе и Генриху Гейне Георга Кольбе. Этой участи избежали лишь произведения Климша, которого Геббельс называл гением за его умение работать с мрамором. В 1944 году фюрер включил Климша в список из 12 наиболее талантливых деятелей искусства, не подлежащих привлечению к любым видам воинской службы. Впрочем, во времена Третьего рейха Кольбе и Шайбе также пользовались авторитетом у властей и не оставались без заказов.
Увлеченный эллинистическим искусством, Гитлер отказал модерну, в том числе и скульптурному, в праве на существование, припечатав его клеимом "дегенеративное искусство". Печальной оказалась судьба многих представителей немецкого авангарда. Так, в 1937 году проникнутые антивоенным пафосом произведения Эрнста Барлаха были изъяты из музеев, храмов и общественных учреждений, а самого скульптора изгнали из Прусской академии искусств. Та же участь постигла и Рудольфа Беллинга, который в 1937 году был вынужден покинуть Германию.
Далеко не все соратники фюрера разделяли его точку зрения на авангардное искусство. Например, Йозеф Геббельс держал на своем рабочем столе в кабинете скульптуру Барлаха "Человек в бурю". И даже когда начались активная травля представителей "дегенеративного искусства", он не уничтожил ее и не отдал в специальное хранилище, а бережно перенес в свой особняк на острове Шваненвердер. Тем не менее именно Геббельс высказал мысль о том, что искусство должно следовать указаниям политиков.
Нацистам требовались монументальные героические скульптуры, способные родить в душе человека воодушевление, страстное желание принести себя в жертву во имя родины и фюрера. Барлах, Беллинг и другие представители гонимого "дегенеративного искусства" Третьему рейху были не нужны, так как их работы не отвечали запросам национал-социализма.
На Больших немецких выставках, которые один раз в год проводились в Доме немецкого искусства в Мюнхене, представляли главным образом крупные статуи, многие из которых затем оказывались в партийных кабинетах и канцеляриях вермахта. В роли меценатов, покупавших работы мастеров искусства, выступали Гитлер и люди из его окружения: Герман Геринг, Генрих Гиммлер, Иоахим фон Риббентроп, Бальдур фон Ширах, Роберт Лей и др. Свою коллекцию имел и Альберт Шпеер, однако гораздо больше пользы немецким скульпторам принесло его умелое распределение заказов. Благодаря Шпееру мало кому известный в то время австрийский скульптор Роберт Ульман смог выставлять свои работы и получать заказы. Созданная им композиция из трех женских фигур была использована при возведении фонтана возле новой Имперской канцелярии и очень понравилась фюреру. В настоящие время работы Ульмана можно найти в музейных экспозициях и в частных коллекциях.
Обнаженное тело в скульптуре Третьего рейха
Главной и самой важной темой скульптуры Третьего рейха считалось обнаженное человеческое тело.
Обязательным элементом расовой теории нацизма был культ физического здоровья и красоты. Только человек, которого природа наделила правильными пропорциями тела и лица, мог называться истинными арийцем. Гитлер, считавший немцев наследниками древних греков, настойчиво укоренял неоклассицизм не только в архитектуре, но и в других областях искусства. Именно неоклассицизм и по стилевым особенностям и по духу был ближе всего к античной эстетике, прославлявшей природную красоту человеческого тела.
Настоящий ариец должен быть красивым и сильным, как бронзовый "Дискобол" древнегреческого скульптора Мирона. Его мраморную копию подарил Гитлеру на день рождения Муссолини (после войны шедевр вернулся обратно в Италию). Античный спортсмен, запечатленный греческим ваятелем, стал образцом для скульпторов Третьего рейха, стремившихся воплотить в бронзе, камне или гипсе физическую красоту настоящего арийца. Немецкие ваятели стремились передать именно внешнюю красоту – внутренняя их нисколько не интересовала. Нужно сказать, что самого Мирона современники критиковали за отсутствие духовности, но при этом отмечали его виртуозное умение в точности передавать пропорции человеческого тела.
Арно Брекер, придворный скульптор Гитлера, не скрывал, что перерабатывал античные образы в духе расового эталона. Так, первообразом 5-метровой фигуры "Готовность" для громадного рельефа Триумфальной арки был "Давид" Микеланджело, а примером для "Оратора" послужила римская скульптура с тем же названием.
Руководители Третьего рейха не случайно уделяли большое внимание спорту и физической культуре. После прихода к власти национал-социалистов в немецких школах было сокращено учебное время, отведенное на изучение иностранных языков, и увеличено количество часов физического воспитания и военной подготовки. Физическая культура и здоровье немцев были возведены гитлеровцами в разряд национальных идей. Считалось, что упражнения, тренирующие тело, формируют и укрепляют нордический характер. Наибольшей популярностью в Третьем рейхе пользовались силовые виды спорта, которые развивали "тевтонскую ярость". По мнению Гитлера, атлет не волен распоряжаться собственным телом так, как ему захочется, быть здоровым, ловким и сильным – гражданская обязанность каждого жителя Третьего рейха. Высокие требования к здоровью предъявлялись тем, кто хотел служить фюреру и отчизне. Так, кандидаты на получение образования в орденских замках должны были иметь хорошее здоровье и отличное зрение. Но особенно строгими были требования, предъявляемые к тем, кто хотел стать членом СС. Вплоть до 1936 года туда не имел шансов попасть человек, у которого во рту не хватало хотя бы одного зуба.
Летом 1936 года, перед началом Олимпиады улицы и площади Берлина заполонили бронзовые, каменные и гипсовые скульптуры обнаженных атлетов. Они служили делу пропаганды физического совершенства. Исходя из принципов эстетики нацизма, нагота должна была выражать не только физическую силу, но также и крепость духа. Если для эллинистического искусства, которое Гитлер считал образцом, важным были спокойствие и гармония, нацистская скульптура предлагала зрителю напряженность, экспрессию, динамику. Правда, все это относилось исключительно к мужскому обнаженному телу, женские изображения в стиле "ню" служили другим целям.
Так же, как и мужские скульптуры, каменные, гипсовые и бронзовые изображения обнаженной женщины имели пропагандистские цели.
Женское тело в немецком искусстве было тем же, что и в искусстве античном – воплощением гармонии и спокойствия. Существовали также обнаженные женские скульптуры как аллегории Победы.
Женские изваяния анатомически были чуть более реалистичными, чем мужские, но не настолько, чтобы их авторов могли обвинить в пропаганде чрезмерной сексуальности. Хотя сексуальность в женских "ню" действительно имелась, но она была спокойной, чуть отстраненной. Сексуальные свойства обнаженного тела должны свидетельствовать в первую очередь о репродуктивности, женские "ню" служили своего рода рекламой разработанной нацистами программы повышения рождаемости. Третьему рейху требовались воины, сильные и здоровые, способные завоевать весь мир и заполонить его расой господ. А для этого нужны были женщины, способные рожать настоящих арийцев. Известно, что Гитлер давал негласные указания расквартировывать элитные части СС в тех районах, где наблюдается переизбыток молодых женщин, входящих в Союз немецких девушек.
Удел представительниц слабого пола в Третьем рейхе – это дом, семья и здоровое потомство. И женское обнаженное тело в скульптуре было призвано подчеркнуть верховенство мужчины. Женские "ню" нацисткой Германии всегда представляли собой стоящие фигуры, простые, беззащитные, полностью открытые взглядам. В их облике не было ничего загадочного. Это были и аллегории победы, и символы женственности.
Иначе выглядели в нацистском искусстве обнаженные мужские тела. Скульпторы Третьего рейха предлагали зрителю идеального мужчину без каких-либо индивидуальных признаков: высокого и стройного, широкоплечего и узкобедрого, с гладким сильным телом античного атлета. Напряжение мышц, поза, выражение лица, сурово сжатые губы, устремленный вдаль взгляд – все должно было передавать физическую и внутреннюю силу, энергию и волю к победе. Мощь обнаженной человеческой фигуры подчеркивали такие атрибуты, как меч или факел в поднятой руке.
Мужской скульптуре, так же, как и женской, надлежало служить нацистской пропаганде. Но, в отличие от женских "ню", мужские фигуры не казались сексуальными, да и не должны были выглядеть такими в стране, где гомосексуализм считался уголовным преступлением. Более того, мужские изваяния не воспринимались как изображения людей из "плоти и крови". Мужская обнаженная скульптура являла собой олицетворение мощи и силы Третьего рейха. Это были не изображения живых людей, а символы военной доблести, смелости и отваги, мужского товарищества и преданности идеям национал-социализма.
Символическое значение обезличенной мужской скульптуры подчеркивали и названия, которые авторы давали своим творениям: "Партия", "Вермахт", " Товарищество", "Армия", "Прометей", "Жертва", "Мщение", "Предопределение", "Германец", "Защитник", "Готовность", "Факелоносец". Даже в скульптурных парах мужчина, стоявший рядом с женщиной, не казался влюбленным юношей, нежно взирающим на свою подругу, а оставался все тем же суровым и мощным Германцем или Защитником, излучающим воинственную энергию, о которой Сусанна Зонтаг пишет: "Эта энергия не может разрядиться в любви… Эти мускулистые мужчины – стражники. Они агрессивны и готовы в любой момент нанести удар. Они охраняют Фюрера, Рейх, Народ. Это проекции арийской маскулинности, которая тождественна власти".
Преувеличенная мужественность, противопоставленная женственности, была одним из аргументов в пользу арийского происхождения. И не случайно на многочисленных пропагандистских плакатах Третьего рейха неарийские мужчины (в особенности евреи), которых приравнивали к пьяницам и бандитам, изображались с уродливыми лицами и женоподобными фигурами. Профессор И. С. Кон пишет: "Главными антиподами воинствующей маскулинности считались женственность и гомосексуальность – эти свойства автоматически приписывались всем врагам и противникам фашистского режима. В принципе в этом не было ничего неожиданного. Арийскую мужественность противопоставляли еврейской женственности уже в Средние века. Гитлеровцы просто довели противопоставление арийской маскулинности и еврейской фемининности до логического конца. В нацистской прессе, антропологии и изобразительном искусстве все "неарийские" мужчины, особенно евреи, изображаются уродливыми. Да и как может быть иначе, если все они – обреченные на гибель дегенераты и человеконенавистники".
Колоссальным героическим скульптурам отводилась та же задача, что и исполинским партийным форумам и дворцам. Монументальные творения архитекторов и скульпторов Третьего рейха должны были обессмертить идеи нацизма. Однажды фюрер высказал Арно Брекеру мысль о том, что когда великий Рейх и немецкий народ исчезнут с лица земли, за них будут говорить камни: здания и скульптуры. В чем-то Гитлер оказался прав: Третий рейх давно ушел в небытие, но оставил образцы своего искусства. Хотя вряд ли те, кто теперь видит их, испытывают чувства, на которые рассчитывал фюрер.
Победители гитлеровской Германии в течение более чем сорока лет могли любоваться работами самых известных скульпторов Третьего рейха. Вплоть до середины 1989 года в городе Эберсвальде (земля Бранденбург) на стадионе 20-й армии Группы советских войск в Германии стояли огромные статуи "Вестник" и "Призыв" Арно Брекера, женские фигуры "Олимпия" и "Галатея" Фрица Климша, а также изваяния коней работы Йозефа Торака из сада новой Имперской канцелярии.
Стремясь оставить на земле память о своем величии, нацистская Германия активно возводила помпезные партийные дворцы и громадные солдатские монументы. Рейху требовалось много строителей, архитекторов и скульпторов, среди которых самыми талантливыми, уважаемыми и высокооплачиваемыми были Арно Брекер и Йозеф Торак. Их творчество оказалось востребованным и после падения Третьего рейха.
Придворный скульптор и мастер психологического портрета Арно Брекер
Арно Брекер родился в 1900 году в городе Эльберсфельд в Рейнской провинции Пруссии. Его будущую профессию предопределила работа отца, который был каменотесом. Талант ваятеля обнаружился у Брекера еще тогда, когда он обучался в городском ремесленном училище. В 1920 году он поступил в Академию художеств в Дюссельдорфе, где получил знания по архитектуре и скульптуре.
В 1924 году Брекер впервые побывал в Париже. Этот город, всегда считавшийся центром мировой культуры и искусства, очаровал юношу, и спустя год он перебрался во французскую столицу, где обучался искусству у ваятелей с мировым именем. Именно в этот период он испытал сильное влияние Аристида Майоля, который работал в стиле Огюста Родена, скончавшегося в 1917 году. К этому времени относятся и самые интересные французские знакомства Брекера. Во Франции он встречался со знаменитым писателем и художником Жаном Кокто, режиссером Жаном Ренуаром, скульпторами Эмилем Бурделем и Александром Кальдером, живописцами Андре Дереном и Морисом де Вламинком, коллекционером и искусствоведом Даниэлем-Анри Канвайлером, владевшим в Париже галереей искусства.
В 1932 году Брекер получил награду от Прусского министерства культуры – возможность обучения в Риме, в Немецком институте искусств, разместившемся в роскошной загородной вилле, прежде принадлежавшей итальянской аристократической семье Массимо. Около года Брекер провел в Италии, во Флоренции он изучал творения Микеланджело и других великих ваятелей итальянского Возрождения. Приехавший в Рим Йозеф Геббельс уговорил его вернуться в Германию.
В конце 1933 года Брекер обосновался в Берлине. Самыми известными его творениями этого периода стали барельефы для берлинского офиса страховой компании "Нордштерн" (были уничтожены после войны).
Увлечение Брекера монументальными формами не укрылось от внимания национал-социалистов, и скульптор стал получать многочисленные заказы. Но настоящая слава к нему пришла во время летней Олимпиады 1936 года в Берлине, когда он принял участие в конкурсе на оформление Олимпийского стадиона и Имперского поля. Статуя "Десятиборец" принесла ему второй приз Международного олимпийского комитета – серебряную медаль.
Брекер сделал к Олимпиаде еще две статуи. Одна из них получила название "Победительница". Вместе с "Десятиборцем" она была установлена во дворе Дома немецкого спорта, между колоннами, соединявшими правое и левое его крыло. В отличие от многих других архитектурных сооружений, это здание не пострадало от бомбежек, и вместе с ним уцелели и творения Брекера. Третью свою скульптуру, названную "Дионис", Брекер сделал для Олимпийской деревни в Деберице.
Талантливым скульптором заинтересовался фюрер. Знакомство с Гитлером и главным архитектором Рейха Альбертом Шпеером принесло Брекеру новые выгодные заказы. В 1937 году обласканный властями 37-летний скульптор получил звание профессора и должность преподавателя Высшей школы изобразительных искусств в Берлине. В том же году он создал скульптуры для парижской Всемирной выставки, на которую был приглашен в качестве члена международного жюри. К этому времени относится и его женитьба на модели Аристида Майоля, гречанке Деметре Мессале. Жену Брекера подозревали в еврейском происхождении, что могло бы сделать положение ваятеля не слишком прочным, однако статус любимого скульптора фюрера помог ему устоять и не остаться без работы.
Монументальные творения Арно Брекера полностью удовлетворяли вкусы фюрера и его соратников. Громадные изваяния с символическими названиями "Партия" и "Вермахт" украсили вход в помпезную Имперскую канцелярию, возведенную Шпеером, а фигура Прометея встала во дворе Имперского министерства народного просвещения и пропаганды. При создании каждой своей скульптуры Брекер руководствовался идеей связи немецкого идеала с античным образцом, что полностью соответствовало культурной концепции Гитлера, в своих речах часто отмечавшего связь современных германцев с их предками – древними греками. Огромные скульптуры, порой достигающие 5–6 метров, давали зрителю возможность увидеть, как должен выглядеть "сверхчеловек" – идеальное творение природы, о котором так много говорили национал-социалисты.
Как один из величайших мастеров искусства Третьего рейха Брекер удостоился Золотого партийного знака (для получения этой высокой награды ему пришлось вступить в НСДАП). В июне 1940 года вместе с Альбертом Шпеером скульптор сопровождал фюрера в его поездке в оккупированный Париж. В этом же году Брекер стал членом Прусской академии искусств и получил от Гитлера роскошный подарок – красивый особняк, окруженный парком, и большую студию, в которой трудилось более четырех десятков его помощников, в том числе 12 молодых скульпторов.
В 1941 году Брекер получил должность вице-президента Имперской палаты изобразительных искусств.
Прекрасно владевший ремеслом скульптора, Брекер обладал и невероятным трудолюбием, которое сделало его одним из самых плодовитых ваятелей своего времени. Он создал десятки статуй и сотни квадратных метров барельефов. Именно его Шпеер собирался привлечь к работе над 10-метровым фризом исполинской Триумфальной арки в Берлине. Брекер входил в число самых высокооплачиваемых деятелей искусства, его ежегодный доход доходил до 1 миллиона рейхсмарок. В конце 1930-х годов слава Арно Брекера вышла за пределы Германии, фотографии его работ были представлены во многих журналах мира.
Арно Бренер был не только создателем гигантских статуй, отражающих представление национал-социалистов об идеальном германце, но и замечательным мастером портретной скульптуры. Лица его скульптурных фигур зачастую лишены индивидуальности, в то время как в портретах проявляется интерес художника к внутреннему миру модели.
Жанр скульптурного портрета был очень востребован в Германии 1920-1930-х годов, когда не только опытные ваятели, но и молодые скульпторы создавали портреты политиков прошлого и настоящего, современных артистов, деятелей искусства, ученых и рабочих. В это время появилась практика создания голов, а не бюстов, что позволяло мастеру сосредоточиться на тончайших оттенках эмоционального состояния модели.
Именно в портретах проявился близкий импрессионизму роденовский стиль Брекера, который лепил головы промышленников, немецких и французских деятелей культуры. Поражают мастерством проработки и тонким психологизмом созданные им в конце 1920-х – начале 1930-х годов портреты швейцарского скульптора и живописца Альберто Джакометти, американского ваятеля Исаму Ногучи, друга и наставника Брекера Моисея Когана, Ольги Даль-грен и др. Эти работы совсем не похожи на те портреты, которые Брекер будет создавать в 1940-х годах по заказу руководителей Третьего рейха.
В 1932 году Брекер создал скульптурный портрет Макса Либермана, немецкого художника-импрессиониста еврейского происхождения. В 1935 году, когда затравленный нацистами художник умер, по просьбе его вдовы, впоследствии покончившей с собой, чтобы не попасть в концлагерь, Брекер снял посмертную маску Либермана.
Портрет Макса Либермана Брекер считал одной из самых важных своих работ среди всех, что он делал не по официальным заказам. В 1972 году скульптор написал в своем очерке "О портрете" следующее: "Изображение его полной напряжения, выразительной головы великого художника, легко узнаваемой в своих уникальных чертах, было серьезнейшей задачей для автора". Вспоминая свою работу над портретом и посмертной маской, Брекер отмечает: "То, к чему Либерман никогда не стремился в своей жизни, и что никогда не исходило от его облика, теперь светилось в чертах его посмертной маски: глубокий мир и вечный покой. Только величественная смерть правила здесь; было уничтожено все, что объединяло нас во взаимном внутреннем проникновении во время работы над скульптурным портретом".
К числу лучших своих произведений Брекер относит и портрет французского ваятеля Аристида Майоля (1943). Скульптор гордился этой работой, считая, что ему удалось передать в ней всю глубину характера и величину таланта своего знаменитого учителя и друга.
К несомненным удачам мастера можно отнести и скульптурный портрет немецкого драматурга Герхарда Гауптмана (1942). Тонким психологизмом отмечен и скульптурный портрет Мориса де Вламинка (1943). Пытаясь передать особенности характера французского художника, Брекер подчеркивает недостатки его лица, тщательно выписывает все морщинки и складка кожи.
Совсем иначе выглядят бюсты правителей Третьего рейха и их родственников. Тут Брекер, напротив, старается скрыть негативные черты их лиц и усилить все, что в них есть привлекательного. В этих работах заметно стремление скульптора польстить высокопоставленным заказчикам. Особенно ярко желание приукрасить модель выразилось в портрете Йозефа Геббельса (1937). Взору зрителя представлено одухотворенное лицо мыслителя, принадлежащее ученому или писателю, но никак не нацистскому палачу. Геббельс Брекера не имеет ничего общего с тем обезьяноподобным существом, которое мы себе представляем, вспоминая советские карикатуры или шарж, нарисованный рукой Тихонова-Штирлица в "Семнадцати мгновениях весны".
То, что исследователи называют "хамелеонским свойством" Брекера, проявляется и в других официальных портретах. В них, так же как и в гигантских обнаженных скульптурах, выразился поворот мастера к имперскому стилю. Таковы, например, скульптурные портреты Герды Борман (1940), Альфреда Шпеера (1941). Здесь Брекер отступает от своего же определения места портретного искусства в работе скульптора, о чем он писал в уже упомянутом очерке "О портрете": "Вряд ли какая-либо другая художественная задача требует такой проницательности и такого внутреннего постижения, как создание портрета". Он отмечает, что "каждая новая работа – это тяжелая борьба, направленная на исследование и изображение суверенной личности. Необходимым условием для этого является полная искренность в отношении поставленной задачи". Трудно себе представить, что Брекер руководствовался этими словами при создании большинства официальных портретов.
На сохранившейся фотографии, изображающей работу Брекера над бюстом Шпеера видно, какие приемы использует скульптор для того, чтобы усилить "героические" черты лица архитектора. Приукрашенные мастером образы пришлись по душе высоким партийным начальником, которые мечтали, чтобы великий скульптор запечатлел для истории их самих или близких им людей. Из мастерской Брекера вышло немало "героических" портретов нацистских бонз и скульптурных ликов их жен, восхищающих современников арийской красотой. Некоторые исследователи называют эти работы Брекера иконами, перед которыми граждане Третьего рейха должны были молиться. И. С. Кон пишет: "Проведенное искусствоведами сравнение выполненных им скульптурных портретов с фотографиями оригиналов показывает, что Брекер работал как пластический хирург: он исправлял недостатки натуры и изображал то, что хотел видеть заказчик".
Увлечение Брекера героизацией образов отразилась и в такой известной его работе, как скульптурный портрет Рихарда Вагнера. Слегка растрепанные волосы, густые бакенбарды, высокий лоб, орлиный профиль – эти черты передают романтический характер великого композитора и одновременно отправляют зрителя к гигантским монументальным изваяниям Третьего рейха. Портрет Вагнера работы Брекера стал визитной карточкой вагнеровского фестиваля в баварском городе Байройте, ежегодно проводимого в здании театра, спроектированного самим композитором. Уменьшенные копии этого творения Брекера можно купить в любом городе современной Германии.
К каноническим образам официальной иконографии имперской Германии можно отнести и портрет венгерского композитора Ференца Листа. Несмотря на несомненное сходство, образ получился излишне идеализированным, отшлифованным. Впрочем, некоторые исследователи объясняют неудачу Брекера тем, что он работал над этим изображением без натуры, используя только живописные и фотографические портреты знаменитого музыканта.
Удивительно, но к числу наиболее реалистичных официальных работ Брекера, относится и бронзовый потрет Гитлера (1940), который самому фюреру не понравился. Несмотря на негативную оценку, в Германии времен национал-социализма было произведено огромное количество копий этого произведения, они украшали общественные помещения и партийные кабинеты. В отличие от большинства бюстов Гитлера других скульпторов, работа Брекера, получившая название "Вождь", передает почти фотографическое сходство с моделью, но при этом ваятель не отступает от канонов монументальной скульптуры Третьего рейха. Волевое лицо, сведенные к переносице брови, устремленный в будущее одухотворенный взгляд – таким предстает Гитлер работы Брекера. Возможно, именно этот героический образ вождя, выделяющийся из тысяч других скульптурных портретов, и оказал громадное влияние на многих граждан Германии, которые были готовы принять смерть во имя своего фюрера. И не случайно копии именно этого портрета в 1945 году вошедшие в Берлин солдаты Красной армии использовали как мишени.
Доживший до глубокой старости скульптор стыдился созданного им портрета Гитлера. Мишель Кон, американский историк искусства, рассказывала, как встретившись в Брекером в 1984 году в Дюссельдорфе, показала ему ксерокопию с изображением бюста фюрера. Скульптор попросил у нее этот лист на время, но не вернул владелице. Кон дает эпизоду следующую оценку: "Как будто, спрятав эту ксерокопию, можно изменить тот факт, что портрет Гитлера существовал".
Разумеется, любой скульптор или художник, желавший заниматься любимым делом в Третьем рейхе, вряд ли мог отказаться от создания портретов вождя. Это относится не только к Брекеру, но и к другим известным и уважаемым ныне мастерам, таким например, как Рихард Шайбе или Фриц Климш.
Выполняя идеологический заказ партии, заигрывающей с пролетариатом, Брекер, как и другие художники Третьего рейха, создавал образы представителей трудового класса. К этому ряду его социальных работ относятся портреты силезского рабочего и шахтера.
Полный переход от психологического портрета к приукрашенному парадному отрицательно сказался на послевоенном творчестве Брекера, который так никогда и не смог избавиться от стиля, названного кем-то из искусствоведов "ледяным". Таковы скульптурные образы немецкого мецената Петера Людвига и его супруги (1981). Хотя, конечно, были исключения, к которым можно отнести портреты французского режиссера Жана Кокто (1963) и американского поэта Эзры Паунда (1967), передающие глубокий интерес художника к внутреннему миру модели.