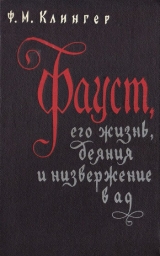
Текст книги "Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад"
Автор книги: Фридрих Клингер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
All this with indignation have I hurl’d
At the pretending Part of the proud World;
Who, swol’n with selfish vanity, devise
False Freedoms, holy Cheats, and formal Lies
Over their Fellow-Slaves to tyrannize.[3]3
С негодованьем я швырнул все этоВ лицо лжецам из суетного света.В тщеславном мире их, что ни возьмешь, —Свобода иль религия – все ложь, —Над братьями тираны держат нож. (Перевод Б. Томашевскаго)
[Закрыть]{1}
Книга первая
1
Долго сражался Фауст с мыльными пузырями метафизики, блуждающими огнями морали и призраками богословия, но найти твердые, незыблемые основы для мышления своего ему не удалось. Тогда, негодуя, бросился он в темную бездну магии, надеясь силой вырвать у природы тайны, которые она с таким упорством скрывает от нас. Первое, чего он достиг, было замечательное изобретение книгопечатания{2}; но второе было ужасно. Его искания и сличай открыли ему страшную формулу, с помощью которой можно вызывать дьявола из ада и подчинять его воле человека. Однако, опасаясь за свою бессмертную душу, которую всякий христианин бережет, хотя и мало знает о ней, Фауст не сразу решился на этот опасный шаг. Он находился в ту пору в полном расцвете сил. Природа отнеслась к нему как к одному из своих любимцев: она наделила его прекрасным, сильным телом и выразительными, благородными чертами лица. Казалось бы, этого достаточно, чтобы быть счастливым на земле. Но к этим чарам природа присоединила еще и другие, весьма опасные: гордый, стремительный дух, чувствительное, пламенное сердце и огненное воображение, которое никогда не довольствовалось настоящим, в самый миг наслаждения замечало несостоятельность и тщету достигнутого и властвовало над всеми остальными его способностями. Поэтому он скоро сбился с пути счастья, по которому, кажется, только ограниченность способна вести смертного и на котором удержать его может лишь скромность. Очень рано границы человечества показались Фаусту слишком тесными, и с дикой силой он бился об них, пытаясь их раздвинуть и вырваться за пределы действительности. Все, что, как ему казалось, он понял и перечувствовал в юности, внушало ему высокое мнение о способностях и нравственной ценности человека, и, сравнивая себя с другими, он, разумеется, приписывал самому себе наибольшую часть общей суммы этих достоинств – заблуждение, равно присущее как величайшим гениям, так и пошлейшим глупцам. Этого более чем достаточно, чтобы стремиться к славе и величию; однако истинное величие и истинная слава, подобно счастью, чаще всего ускользают от тех, кто хочет овладеть ими, даже не рассмотрев еще их нежных, чистых образов в облаках дыма и тумана, которыми их окружило суемудрие. Так и Фауст слишком часто обнимал облако вместо супруги громовержца{3}. Кратчайшим и самым легким путем к счастью и славе ему представлялись науки, но едва лишь он поддался их чарам, как безумная жажда познания истины запылала в его душе. Всякий, кто видит в науках не просто ремесло, кто близко сталкивается с этими сиренами{4} и перенял у них их коварные песни, тот и без моих разъяснений поймет, что цель, к которой стремился Фауст, – утолить свою пламенную жажду, – неизбежно должна была от него ускользнуть. Из долгих скитаний по этому лабиринту он вынес в конце концов только сомнения и досаду на людскую близорукость. Он вознегодовал и стал роптать на того, кто даровал ему способность видеть свет, но не дал силы, чтобы прорваться сквозь густой мрак. Он еще мог бы быть счастливым, если бы должен был бороться только с этими чувствами, но чтение мудрецов и поэтов пробудило в его душе тысячи новых потребностей, и его изощренная, окрыленная фантазия непрестанно рисовала ему соблазнительные картины наслаждений, доступных лишь знатным и богатым. Поэтому понятно, что кровь огнем горела в жилах Фауста и все остальные его способности вскоре были вытеснены одним только этим желанием. Ему казалось, что замечательное изобретение книгопечатания распахнет перед ним наконец врата, ведущие к богатству, славе и наслаждениям. Он истратил все состояние, чтобы довести свое изобретение до совершенства, и предстал с этим открытием перед людьми, но их равнодушие и холодность вскоре убедили Фауста в том, что ему, величайшему изобретателю своего века, придется вместе с молодой женой и детьми умереть голодной смертью, если только он не найдет себе иного занятия. Глубоко разочарованный, отказавшийся от своих гордых надежд, отягощенный большими долгами, неизбежными при его легкомысленном образе жизни, чрезмерной щедрости и беспечной привычке ручаться за вероломных друзей, оглянулся он на человечество; ненависть окрасила для него весь мир в самые мрачные краски; семья, которую не на что было содержать, стала ему в тягость, и он пришел к твердому убеждению, что отнюдь не справедливость распределяет дары счастья среди людей. Его грызла мысль: как это возможно и почему так происходит, что умные, способные и благородные люди везде стеснены, везде прозябают в пренебрежении, в беде и нищете, тогда как подлецы и дураки богаты, счастливы и окружены почетом? Правда, мудрецы и проповедники легко устраняют это сомнение, но они обращаются только к рассудку, в то время как повседневная жизнь продолжает оскорблять чувства. Поэтому сердце гордого человека постоянно ожесточается, а более слабые души впадают в отчаяние. Фауст принадлежал к числу первых. Отныне его оскорбленный дух мечтал лишь о том, чтобы развязать этот запутанный узел, над которым тысячи людей ломали себе голову, жертвуя покоем и счастьем своей жизни. Он хотел понять причину нравственного зла, постигнуть отношения между человеком и предвечным. Фауст хотел знать, властвует ли всевышний над человеческим родом, и если властвует, то откуда проистекают эти мучительные противоречия. Он хотел осветить тьму, скрывающую от него призвание человека. У него появилось даже дерзновенное желание постичь того, чье бытие нам так непонятно и чья деятельность для нас столь очевидна. Фауст надеялся, что, овладев этими откровениями, сможет удивить мир и станет величайшим мудрецом среди людей, и надежда эта некоторое время воодушевляла его в мучительных и бесплодных усилиях. Но так как положение его становилось все печальнее, люди, стольким ему обязанные, отворачивались от него все больше, а его старания рассеять мрак приводили лишь к тому, что он делался все чернее и мучительнее, то в конце концов в душу его запала мысль, что только силы другого мира могут помочь его несчастью, что только они могут пролить свет на эти загадки. Правда, мысль эта еще только дремала в его груди, но достаточно было нового толчка извне, чтобы страстное желание и недовольство окружающим миром заставили Фауста решиться переступить границы, о которые он так яростно бился.
2
В этом мрачном настроении Фауст покинул Майнц и отправился в соседний имперский город, надеясь продать премудрому магистрату напечатанную им латинскую библию и на полученные деньги накормить своих голодных детей. В своем родном городе он ничего не добился, так как архиепископ вел в это время грозную войну со своим капитулом{5} и весь Майнц находился в величайшем смятении. Дело было в следующем: одному доминиканскому монаху{6} приснился сон, будто он лежит в постели со своей духовной дочерью, прекрасной Кларой, инокиней монастыря белых сестер{7}, которая была к тому же племянницей архиепископа. Утром доминиканец должен был служить литургию. Он отслужил ее и, несмотря на грешную ночь, причастился тела господня. Вечером, разгоряченный рейнским вином, он рассказал о своем сновидении одному молодому послушнику. Рассказ Этот раздразнил воображение юноши, и, кое-что прибавив от себя, послушник передал услышанное одному из монахов. История распространилась по всему монастырю; ее разукрасили всякими ужасами и сладострастными подробностями: в конце концов она дошла до строгого настоятеля. Святой муж, ненавидевший отца Гебгардта, особенно за уважение, которым тот пользовался в знатных семьях Майнца, испугался такого соблазна, а так как в этом происшествии можно было усмотреть осквернение святых даров, то он не отважился принять решение по столь важному делу и доложил о нем архиепископу. Архиепископ правильно заключил, что грешникам снится до ночам именно то, о чем они думают и мечтают днем, и наложил на монаха епитимью{8}. Капитул, ненависть которого к архиепископу становится всегда тем сильнее, чем дольше сей святой муж живет, и который охотно пользуется всяким случаем, чтобы помучить старца, выступил в защиту отца Гебгардта и возразил против епитимьи на следующем основании: «Всему миру известно, что дьявол искушал святого Антония картинами сладострастия и упоительнейшими соблазнами, и если дьявол мог так поступать со святым, то ему вполне могла прийти мысль сыграть такую же скверную шутку с доминиканцем. Монаху нужно дать наставление, указать на пример святого Антония и разъяснить ему, что молитва и пост – лучшее оружие для борьбы с дьявольским искушением. Впрочем, капитул очень огорчен тем, что сатана уже не питает должного уважения к архиепископу и так обнаглел в своих адских кознях, что покушается даже на членов высокочтимой семьи архиепископа». Капитул вел себя в этом деле точно так же, как поступают наследные принцы, которые полагают, что их отцы царствуют слишком долго. Но что уже совершенно запутало историю, так это известие, пришедшее из обители белых сестер. Все монахини собрались в трапезной, чтобы разукрасить к предстоящему празднику статую мадонны и великолепием ее одеяния превзойти своих соперниц – орден черных сестер{9}, как вдруг вошла старая привратница и рассказала дьявольскую историю, прибавив, что доминиканца, наверно, предадут сожжению, ибо капитул только что собрался для вынесения приговора. В то время как привратница рассказывала эту историю, не опустив при этом ни одной подробности, щеки юных монахинь стали алыми: грех, который не пропускает случая отравить своим ядом невинное сердце, проник в их кровь, и они сразу же мысленно представили себе все рискованные сцены. Тем временем лица старух исказились гневом и яростью. Настоятельница дрожала, опираясь на свой посох, очки упали у нее с носа, а обнаженная мадонна стояла среди них и, казалось, молила взволнованных и возмущенных инокинь прикрыть ее наготу. Когда же привратница сказала, что женщиной, которую дьявол привел в постель доминиканцу, была сестра Клара, дикий крик огласил всю трапезную. Одна только Клара оставалась спокойной, и когда вопли и крики немного утихли, она с улыбкой сказала:
– Милые сестры, почему вы так ужасно кричите? Мне тоже снилось, что я спала с отцом Гебгардтом, моим духовником, и если это дело рук врага рода человеческого (при этих словах она вместе со всеми остальными монахинями осенила себя крестным знамением), то пусть наложат на него покаяние. Что касается меня, то я не помню более веселой ночи, все равно кто бы ни внушил мне это видение.
– Отец Гебгардт? – вскрикнула привратница. – Да помогут нам все ангелы и святые! Ведь это именно он и видел вас во сне, вернее – именно его дьявол свел с вами, и теперь его хотят за это сжечь.
Таким образом, осведомленность привратницы значительно возросла, неясное видение приобрело плоть и кровь, и в таком виде весть разнеслась по всему городу. Мадонну оставили неодетой, как была, не заботясь больше о том, чтобы затмить черных сестер. Настоятельница отправилась распространять адскую историю дальше, за нею побежала экономка, привратница собрала перед своей калиткой целую толпу народа, а Клара наивно отвечала на еще более наивные вопросы сестер. Даже трубы Страшного суда не смогли бы вызвать в Майнце большего ужаса и смятения, чем вызвала эта история. Только однажды в прирейнских епископствах и архиепископствах был еще больший переполох: это было, когда жизнерадостным французам пришло в голову восстановить права человечества, утраченные людьми сразу же при первоначальной организации общества. Не удивительно, что многим сейчас вспомнилась пляска святого Витта, которая с такой поразительной быстротой заразила тогда города и государства Европы и так вскружила и разгорячила головы европейцев, а в особенности немцев, что рыцарь и крестьянин, граф и конюх, епископ и сельский поп, дворянка и нищенка, графиня и камеристка в хаотическом беспорядке хватали друг друга за руки и в диком, безумном хороводе неслись из деревни в деревню, из города в город до тех пор, пока все они, обессиленные, а более слабые и совсем без признаков жизни, не падали на землю{10}.
Когда настоятель доминиканцев узнал о происшествии, он поспешил на заседание капитула, и его сообщение придало делу новый оборот. Теперь архиепископ охотно прекратил бы эту историю, но капитул был заинтересован в ее дальнейшем распространении, и все каноники единогласно постановили донести об этом сомнительном случае святому отцу в Риме. Они кричали, шумели, гремели, угрожали, и только колокол, звавший к обеду, смог разъединить споривших. Открытая борьба скоро превратилась в тайную. Двор пытался действовать подкупом, капитул – интригами, и весь Майнц, как монахи, так и миряне, на несколько лет разделился на две враждующие партии, которые не видели и не слышали ничего и не говорили и не думали ни о чем, кроме как только о дьяволе, белой монахине и отце Гебгардте. На кафедрах всех факультетов велись по этому вопросу диспуты. Казуисты{11}, допросив монахиню и доминиканца и сопоставив их показания, исписывали целые фолианты рассуждениями о всех возможных случаях грешных и безгрешных сновидений. Кто же в такое время мог бы заинтересоваться Фаустом и его изобретением?
3
В имперском городе, тихой резиденции муз и убежище наук, Фауст надеялся на больший успех. Он предложил свою библию достопочтенному магистрату за двести золотых гульденов. Но так как несколько недель тому назад для погреба ратуши было приобретено пять бочек рейнского вина, то дело пошло не слишком легко. Фауст обращался ко всем членам магистрата, старостам, сенаторам, почетным гражданам, начиная от гордого патриция и кончая еще более гордым мастером цеха сапожников. Всюду ему обещали благосклонность, поддержку и милость. Наконец он стал искать покровительства преимущественно у самого бургомистра, но Это привело лишь к тому, что жена бургомистра зажгла могучий огонь страсти в его легко воспламенявшейся груди. Однажды вечером бургомистр заверил его, что в ближайшие дни совет магистрата примет решение, обязывающее всех евреев города поголовно выложить необходимую сумму. На это Фауст ответил, что его дети могут умереть от голода прежде, чем столь просвещенному собранию удастся прийти к единогласному решению. Потеряв всякую надежду, терзаемый любовью и гневом, он удалился в свою одинокую комнату. Досада заставила его снова обратиться к магическим формулам. Искушение отважиться на дерзновенный поступок и с помощью дьявола обеспечить себе независимость все горячее жгло его мозг. Но мысль о таком союзе приводила его в трепет. Дико жестикулируя и выкрикивая безумные восклицания, расхаживал он большими шагами взад л вперед по комнате и боролся с мятежными порывами своего духа, стремившегося любой ценой рассеять тьму, окружающую человечество, в то время как ум еще содрогался перед решением. Но тут алчущий стал сравнивать возможность и надежду насладиться наконец жизнью с предрассудками молодости, с бедностью и с презрением людей. И стрелка весов заколебалась. Рядом на готической башне пробило одиннадцать. Черная ночь окутала землю. С севера доносилось завывание бури, тучи заволокли полную луну, вся природа пришла в смятение. Великолепная ночь, чтобы сбить с толку взволнованное воображение! Все еще колеблется стрелка весов. На одной чаше легко подпрыгивает религия и ее опора – страх перед будущим. Другая чаша перевешивает, на ней – жажда независимости и знаний, гордость, сластолюбие, гнев и горечь. Но мысль о вечности и муках ада еще страшит ум Фауста. Так колеблется дева между наставлениями матери и голосом природы, ощущая на своей груди пламенные поцелуи возлюбленного. Так колеблется философ между двумя суждениями: одно верно, а другое исполнено блеска и ведет к славе, – которое же избрать?
Но вот, следуя предписаниям магии, Фауст начертал ужасный круг, который навеки должен был лишить его попечения всевышнего и разорвать нежные узы, связывавшие его с человечеством. Глаза Фауста пылали, сердце взволнованно билось, волосы встали дыбом. В этот миг ему показалось, что он видит перед собой старика отца, молодую жену и детей, в отчаянии ломающих руки. Затем он увидел, как они опустились на колени и молились за него тому, от кого он собирался отречься.
– Это нужда, это мое несчастье повергло их в отчаяние! – закричал он и топнул ногой.
Гордый дух его негодовал на слабость сердца. Он снова приблизился к кругу. Буря выла под окнами, дом содрогался до самого основания. Светлый призрак встал перед ним и воззвал к нему:
– Фауст! Фауст!
Ф а у с т: Кто ты, осмеливающийся мешать моему смелому дерзанию?
П р и з р а к: Я – гений человечества, и я хочу спасти тебя, если ты еще можешь быть спасен.
Ф а у с т: Что ты можешь мне дать, чтобы «насытить мою жажду знаний, наслаждений и свободы?
П р и з р а к: Смирение, покорность в страдании, скромность и высокое чувство познания самого себя, мирную смерть и блаженство за пределами земной жизни.
Ф а у с т: Ты создан моим возбужденным воображением, призрак! Скройся! Я узнаю тебя по коварству, с которым ты обманываешь несчастных, покорившихся тебе. Соблазняй нищего, униженного раба, монаха и всех тех, кто заковал свое сердце в противоестественные кандалы, кто искусственно взвинчивает свой дух, чтобы избежать когтей отчаяния. Силам души моей нужен простор, а за содеянное ими пусть отвечает тот, кто дал их мне.
– Мы еще увидимся, – сказал призрак, вздохнув, и исчез.
– Неужели и на пороге ада меня будут дразнить детскими сказками? – воскликнул Фауст. – Нет, я все равно пробьюсь сквозь тьму. Я хочу знать, что скрывает от нас темная завеса, которую рука тирана протянула перед нашим взором. Разве я сам создал себя таким, что удел ограниченности возмущает мою душу? Разве я сам раздул огонь страсти в своей душе? Разве я сам вложил в свое сердце стремление всегда расти и никогда не останавливаться? Как? Разве я сосуд, изготовленный неведомой рукой и осужденный на уничтожение, потому что он не отвечает замыслу мастера и не соответствует той низменной цели, для которой он был предназначен? Всегда быть только сосудом, только орудием, вечно только подчиняться? Зачем же дана рабу эта противоречивая властная потребность свободы и зачем дано ему сознание собственной силы? Вечность! Неизменность! Где смысл в этих звуках? Человеку доступно лишь то, что он чувствует, вкушает и постигает, лишь это принадлежит ему. Все остальное – видения, которых он объяснить не может. Бык пользуется своими рогами и уповает на их силу, олень радуется своей легкости, спасающей его от охотника, а разве человек в меньшей степени властен над тем, что отличает его от этих животных? Я достаточно имел дело с людьми и со всеми их выдумками. Они втаптывали меня в грязь, их фантазии я принимал за истину. Довольно, теперь я попытаю счастья с дьяволом!
В диком восторге бросился он внутрь круга, а вдали раздались вопли его жены, детей и отца:
– Погиб! Погиб навеки!
4
Сатана, владыка ада, повелел оповестить оглушительными ударами рогов по огненному диску солнца всех падших духов на земле и в преисподней о том, что он устраивает сегодня огромный дружеский пир. Адские духи поспешили на этот могучий зов. Даже посланцы сатаны на нашей земле оставили свои посты, ибо приглашение заставило предположить, что ожидается нечто исключительное и великое. Огромные своды ада огласились дикими криками адской черни. Мириады дьяволов расположились на обожженной и бесплодной почве. Но вот появились князья ада и заставили толпу смолкнуть, чтобы сатана мог выслушать доклады своих послов, прибывших с земли. Дьяволы повиновались, и страшная тишина воцарилась в густой, мглистой тьме, нарушаемой лишь воплями осужденных на вечную муку. Рабы дьяволов, тени, не достойные ни блаженства, ни вечной муки, готовили бесчисленные пиршественные столы. Эти рабы вполне заслужили свою позорную участь. Когда они имели еще плоть и кровь и питались плодами земли, они принадлежали к той двуличной породе, которая дружит со всеми, никого не любя. Язык их болтал о дивном учении добродетели, но сердце ему не следовало. Они не совершали зла лишь потому, что это связано с опасностью, но они не творили и добра, потому что оно требует мужества и самоотречения. С религией они обращались так же, как еврей-скупец со своим капиталом: они клали ее на проценты, рассчитывая хорошо обеспечить таким способом свои жалкие души. Они молились богу только из страха и дрожали перед ним, как рабы. А дьяволы, поистине ничуть не лучшие господа, чем некоторые владельцы крепостных крестьян, тормошат их за это как следует в аду. В то же время другая толпа таких же несчастных в поте лица своего трудилась в огромной адской кухне, готовя яства для своих безжалостных господ, – страшное занятие для души, однажды уже погубившей принадлежавшее ей тело обжорством, пьянством и излишествами. Очевидно, дьяволы, хотя они не едят и не пьют, переняли все же у людей обычай любое торжество отмечать обжорством и пьянством и в таких случаях устраивают пир из душ. Предводитель каждого легиона подбирает нужное количество грешных душ для стола своих подчиненных. Те, в свою очередь, передают эти души рабам, которые их варят, жарят и поливают адским соусом. Нередко бывает и так, что кому-нибудь из этих несчастных приходится сажать на вертел своего отца или жену, сына, дочь или брата и поддерживать под ними мучительный огонь – ужасное и поистине трагическое положение, усугубляемое еще тем, что надзиратели кухни, тоже дьяволы, не менее злорадные, чем всё слуги знатных господ, стоят с бичами в руках за спинами рабов, заставляя их трудиться не покладая рук. Я рекомендую этот сюжет трагическим поэтам Германии, которые так часто ищут темы для своих сочинений в смрадных болотах ада и вообще среди всякой грязи{12}. Сегодня для услаждения повелителя, его высших сановников и любимцев дьяволы остановили свой выбор на папе, который, будучи наместником господа бога на земле, стремился к владычеству над миром и возмущал подданных против императоров, королей и князей. С ним вместе были отобраны: жестокий завоеватель; знаменитый философ, который при помощи схоластических силлогизмов распылил в ничто существо существ; лицемерный монах, которого его орден, ссылаясь на якобы совершенные им чудеса, хотел причислить к лику святых. Для адской черни также прибыли совершенно свежие припасы. Недавно папа натравил друг на друга два войска, состоявшие из французов, немцев, итальянцев и испанцев, для того чтобы, воспользовавшись суматохой, забрать в свои руки еще кое-какие земли и округлить таким образом наследие святого Петра{13}. Они дрались как герои, и тысячи их полетели в ад. Каким бы это было счастьем для душ, предназначенных на съедение дьяволам, если бы на этом и кончились их мучения! Но дьяволы по частям низвергают их обратно в адские болота, растерзанные члены вновь срастаются, и несчастные продолжают существовать для новых страданий.
Пока грешники выли на вертелах, смотрители винных погребов и виночерпии – тени указанного выше ранга – расставляли на столах бутылки и бокалы. Бутылки были наполнены слезами лицемеров и неверных вдов, ханжей, людей, особо чувствительных и кающихся из слабодушия. Тут были также бутылки, наполненные слезами завистников, пролитыми при виде чужого счастья, слезами эгоистов, пролитыми при виде чужого горя от радости, что не их оно постигло. Были и слезы смеющихся наследников и слезы сыновей, проливаемые над гробом скупого жестокого отца. Бутылки, предназначавшиеся для десерта, были наполнены слезами священников, которые, желая растрогать своих слушателей, выступают в роли комедиантов на алтаре. А для того чтобы сделать напиток более острым, в него подмешали еще слезы блудниц, плачущих от голода до тех пор, пока не явится покупатель, желающий за деньги насладиться грехом. Сюда же добавили еще слезы сводников и своден, врачей и бесчестных адвокатов, слезы, которые эти господа проливают, жалуясь на плохие времена. На отдельных столиках, приготовленных для сатаны и князей ада, стояли бутылки, наполненные благороднейшим напитком, шипящим, искристым и пьянящим. То была смесь из слез, которые проливают над несчастьями своих народов великие мира сего, не препятствующие, однако, своим чиновникам выдумывать для этих народов все новые мучения, слез дев, оплакивающих утрату своей невинности и продающих себя с еще влажными глазами, и слез временщиков, попавших в немилость и плачущих о том, что теперь они уже не могут грабить и притеснять других, пользуясь покровительством своего государя.








